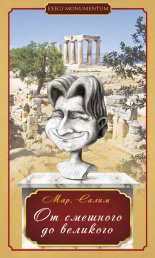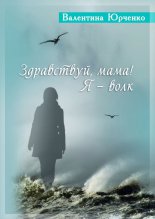Дж. Бёрджер Джон

– Видите кошку, вон там, в траве? – произнесла Нуша по-словенски.
Она умолкла и положила ладонь себе на плечо. Руки у нее были крупные, мощные. Посадка головы и разворот плеч создавали впечатление, что тело слегка отклонено назад. В иной ситуации это придавало бы ей надменную статность.
– Мне здесь не нравится. Сама бы я сюда ни за что не пришла. – Нуша осеклась, испугавшись, что невольно выдала присутствие брата, но тут же вспомнила, что говорит по-словенски. – Если б я нашла эти гадкие каменные обломки на дядюшкином поле, я бы их выбросила. Говорят, за них можно выручить хорошие деньги. Но если они такие ценные, почему валяются здесь, в траве? Их бы давно в Вену увезли… Вон там, у арки, растут сливы, – продолжила она. – Говорят, если война не закончится, то в городе начнется голод. Все продовольствие увезут в Вену.
– У вас очень выразительная речь, – заметил Дж.
– Это мой родной язык, – ответила Нуша по-итальянски.
– Где вы работаете?
– На фабрике.
– А что за фабрика?
– Текстильная, джутовая.
– И давно вы там работаете?
– Три месяца. Рыбой воняет, противно.
– Почему рыбой?
– Рыбьим жиром джутовое волокно умягчают.
У нее снова возникли подозрения: он наверняка сыскной агент австрийцев. Или сумасшедший. (О безумии ей напомнил сад.) Или предложит ей место служанки. (На это она ни за что не согласится.) Или он – «зарубежный друг», который ждет встречи с ее братом.
Ее брат, Боян, был где-то неподалеку, в саду камней Музея истории и искусств. Боян приходил сюда каждое воскресенье, встречаться с друзьями: по воскресеньям сад посещали редко, а вход был бесплатным. Брат объяснил ей, что сад носит имя Гёльдерлина – немецкого поэта, который любил Грецию и написал поэму о великом греческом герое-патриоте, участнике восстания против турков, совсем как сербы. К концу жизни Гёльдерлин сошел с ума. О безумии немецкого поэта Нуше напоминал обломок каменной ступни в траве и детский торс без рук, прислоненный к стене.
Когда люди начинают осознавать важность независимости нации, в неразвитых или колонизированных сообществах, в одной семье и даже в одном поколении обнаруживаются огромные различия в познаниях, хотя они и не представляют непреодолимого барьера. Тот, кто получил образование в имперской системе (иного образования получить невозможно), понимает, что народу не позволяют ознакомиться с собственной историей и культурой, а потому ценит культурные ценности и традиции, бережно сохраненные семьей, а его родственники воспринимают его как вождя в борьбе против иностранных завоевателей, которых прежде затравленно опасались. Образованные люди и невежды стремятся к одним и тем же идеалам. Разница между ними служит доказательством несправедливого обращения и единомыслия. Идеи становятся неотделимы от чаяний.
Брат, на два года старше Нуши, научил ее читать, когда ей было двенадцать. Тогда она жила в деревне. Их отец был крестьянином.
Карст – известняковое плато со скудной растительностью. Земледелие там практически невозможно. Местность открыта небу, ее ничего не защищает. В пористой горной породе много пещер. Нуша помнит, как брат обозначил все известные ему пещеры на карте, назвал их именами приятелей: Каэтан, Эдвард, Руди, Томаз. Расселины, овраги и валуны Карста напоминают развалины города, созданного по особой геометрии. На побережье, там, где утесы обрываются в море, расположен Триест. Здесь в 1840-е годы по велению барона фон Брука, австрийского министра финансов, развернулось строительство крупного порта для немецкоязычной «семидесятимиллионной империи». Между горных кряжей и склонов, поросших редким кустарником, прячутся долины и котловины с плодородной почвой, где разбиты поля и виноградники.
У Нушиного отца было три коровы; он поставлял цветы и фрукты на рынки Триеста. Директор школы помог Бояну получить место в городской гимназии. Когда Нуше исполнилось шестнадцать, умерла ее мать. Безутешный отец считал дочь болтушкой и бездельницей. (Брат, в отличие от остальных жителей деревни, поощрял ее говорливость и любовь к чтению.) Год спустя отец тоже умер, и Нуша переехала в Триест, где нашла место служанки в семье итальянцев.
После 1920 года, когда Триест перешел к Италии, фашисты запретили словенский язык. Одного врача-итальянца спросили: «Как же крестьяне, не знающие итальянского, объясняют вам свои недомогания?» Врач ответил, что коровам не требуется объяснять ветеринару, где у них болит.
Нуша выучилась говорить по-итальянски и стала работать на складе в порту. Боян уехал в Любляну, днем работал официантом, а по вечерам учился в торговом училище. Получив диплом, он отправился в Вену и устроился на службу в компании по импорту цветных металлов. В торговом училище он вместе со своими приятелями – студентами училища и старшеклассниками – организовал подпольный кружок, связанный с организацией «Молодая Босния».
В марте тысяча девятьсот пятнадцатого года Боян вернулся в триестский филиал своей фирмы.
Он с изумлением разглядывал сестру, восседающую на каменной скамье, как на троне, рядом с хорошо одетым незнакомцем. Боян не ожидал, что в саду будет кто-то еще. Он воображал, что сестра в одиночестве бродит по саду, среди фруктовых деревьев. С виду незнакомец был невзрачным. Может быть, австрияк. (Издалека Боян не слышал, как он говорит по-итальянски.) Очевидно, не бедный. Лицо хитрое, разочарованное. Он сидел рядом с Нушей на резной каменной скамье, установленной на пьедестале, под смоковницей. Сцена выглядела иллюстрацией из дешевого венского журнальчика. Разница в социальном положении навевала подозрения о намерениях незнакомца. Мужчина и женщина, наедине в саду… Элегантность и аккуратность его одежды свидетельствовали о порочности, точно так же, как юбка и блузка сестры, вкупе с косынкой, невольно заявляли о доступности. Боян попытался убедить себя, что у сестры имелась причина вступить в невинную беседу, однако незнакомец так красноречиво смотрел на нее, что не заметить этого было нельзя. Бояна раздражало то, что сестра привлекает подобные взгляды. Он не раз задавался вопросом, как она жила, пока он был в отлучке. Он считал ее слишком крупной – одежда до неприличия подчеркивала ее формы. Почему Нуша такая дебелая? Почему она дороднее обычных девушек? Он подозревал, что ей не хватает силы воли. Участники организации «Млада Босна» закаляли волю, воздерживались от интимных связей. Похоже, Нуша не горела желанием сохранить невинность. Для Бояна сестра по-прежнему была наивной двенадцатилетней девочкой, которую он учил читать. Разъяренный и в то же время охваченный нежностью к памяти сестры (вряд ли душа ее изменилась), он бросился к этой отвратительной, дешевой, бездушной иллюстрации. Он бежал легко, как гонец в начале своего пути. У ступеней он замер, вытянулся по стойке смирно и чинно обратился к незнакомцу по-итальянски:
– Прошу прощения, но мы с сестрой торопимся.
Потом посмотрел на Нушу и сказал ей на словенском:
– Пойдем скорее.
Она встала и последовала за братом.
Подпольную группировку «Млада Босна» – «Молодая Босния» – назвали в честь организации «Молодая Италия», основанной Джованни Мадзини в 1831 году для борьбы за независимость итальянской республики. Целью «Молодой Боснии» было освобождение южных славян (на территории современной Югославии) от господства Габсбургов. Особенно активно организация действовала в Боснии и Герцоговине после их аннексии Австро-Венгерской империей в 1908 году, но ее группы также существовали в Далмации, Хорватии и Словении. Убийства стали основным политическим орудием этой террористической подпольной организации.
Убийство иноземного тирана или его представителя служило двоякой цели. Во-первых, оно подчеркивало естественное правосудие. Во-вторых, оно доказывало, что не останутся безнаказанными даже преступления, совершаемые во имя прогресса и правопорядка: принуждение, эксплуатация народных масс, притеснения, лжесвидетельство, запугивание, равнодушие властей. И самое гнусное преступление – запрет на формирование национального самосознания. Навязанные угнетателями критерии национальной самооценки выставляли людей ущербными, беспомощными и неприспособленными к самостоятельному существованию. Естественное правосудие требовало искупления за бесчисленные жертвы этих преступлений. Политическое убийство воодушевляло живущих и заставляло их осознать, что смерть во имя справедливости оспаривает имперскую власть, лишает ее абсолютности. Убийца личным примером поднимал народные массы на борьбу с иноземными угнетателями. Свержение гнета делалось таким же возможным, как публичное убийство тирана.
«Заговорщик, который, горя желанием отомстить за человечество, становится поборником естественного правосудия, тем самым исполняет священный долг», – писал Мадзини.
Второго июня тысяча девятьсот четырнадцатого года девятнадцатилетний Гаврило Принцип, участник «Молодой Боснии», застрелил эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника престола Австро-Венгерской империи Габсбургов и его супругу, графиню Хотек, которые ехали по улицам Сараево в открытом автомобиле.
В толпе находились еще шесть младобоснийцев, надеявшихся убить эрцгерцога. По разным причинам пятерым это не удалось. Шестой, Неделько Чабринович, бросил гранату, но промахнулся, и она взорвалась за автомобилем Франца Фердинанда. Несколько человек получили ранения, однако эрцгерцог не пострадал. Чабринович проглотил пилюлю с ядом и прыгнул в реку. Доза яда оказалась слишком мала, и юношу вытащили из реки живым. На вопрос, кто он, Чабринович ответил: «Я – сербский герой».
Тем утром Чабринович отправился в ателье фотографа, где снялся вместе со своим школьным приятелем и заказал шесть копий фотографии. Заказ обещали выполнить через час. Чабринович попросил приятеля отослать снимки по шести адресам. Впоследствии на заседании суда, где рассматривали дело двадцати пяти обвиняемых, судья поинтересовался, для чего были нужны фотографии. Чабринович объяснил, что хотел оставить свидетельство для будущих поколений.
Одну из фотографий получил Вузин Рунич в Триесте. Чабринович работал в триестской типографии до октября 1913 года. Уезжая из города, он заявил: «Когда в Сараево приедут типы с красными лампасами и в шлемах с перьями, вы обо мне услышите».
После возвращения в Триест Боян показал снимок Нуше и спросил, знает ли она, кто это. Она помотала головой. Брат рассказал ей о Чабриновиче.
– А теперь он, закованный в кандалы, умирает в тюрьме от холода, голода и сырости, – продолжил он. – Даже тюремщики там не выдерживают. Цепи кандалов весят десять килограммов. По ночам камера покрывается льдом. Гаврило тоже в тюрьме. Всех заключенных держат в одиночных камерах. Неделько был готов умереть. Мы все к этому готовы. Его нарочно не казнят. Его императорское величество предпочитает, чтобы преступники умирали медленно и в страшных мучениях.
На фотографии были изображены два молодых человека в темных костюмах и белых рубашках с жесткими воротничками. Брат Нуши одевался так же. Неделько стоял слева – черноволосый, с темными бровями и усами. Приятель приобнимал его за плечи.
– Неделько сфотографировался, думая, что не проживет дольше трех часов, – вздохнул Боян. – Операцию плохо подготовили, даже яд подвел.
Слова брата пугали Нушу; он слишком много и часто говорил о жутких вещах.
Лицо Чабриновича сурово и спокойно. На лице его приятеля застыло напряженное выражение, а Чабринович уже все решил (во всяком случае, так он считает, глядя в объектив, – этот миг воплощает всю его жизнь). Он избрал свою судьбу. А если – в ближайшие часы – у него возникнут сомнения, то черно-белый снимок не позволит ему изменить сделанное решение.
«Я презираю тот прах, из которого состою и который говорит с вами; его можно преследовать и предать смерти, этот прах! Но меня нельзя лишить той независимой жизни, которую я создал себе в веках и на небесах…»[17]
Нуше казалось, что снимок похож на фотографии покойных на могильных камнях – не на деревенском кладбище, а на кладбище святой Анны в Триесте. Только на надгробиях фотографии выцвели. Разглядывая снимок, она поняла, что сделает все, о чем попросит брат или его друзья, потому что они – герои. В ее дородном теле, в ее крови было что-то неизменное, то, что они любили – не в ней, но само по себе, – и за это каждый из них был готов умереть.
Гаврило Принцип и его сообщники своим решительным поступком хотели привлечь внимание к неоспоримому факту прозябания южных славян под властью Габсбургов. Однако этот поступок был истолкован с помощью фантасмагорических ухищрений великодержавной дипломатии. Австрия безосновательно утверждала, что в заговоре принимало участие правительство Сербии. Россия, Германия, Франция и Великобритания заняли свои позиции. Заявления министров и приказы, отдаваемые с точки зрения национальных интересов, не имели ничего общего с действительностью. Никто не учитывал самых очевидных фактов, связанных с предстоящими военными действиями. Как заявил Мольтке, руководитель Германского генерального штаба, «ничего невозможно предугадать».
– Ты когда-нибудь слышала артиллерийскую подготовку? – спросил Боян.
– Я никуда из Триеста не уезжала.
– От грохота барабанные перепонки лопаются.
– Ты о чем?
– Знаешь, когда начинается артиллерийский обстрел, кажется, что вот-вот все грешники из ада восстанут. На самом деле грохот снарядов – это храп спящих государств. Поэты и революционеры страдают бессонницей. Нуша, мы живем в небывалое время.
– И что теперь будет? – встревоженно спросила она.
– Цветные металлы не спасут от призыва. Так что я, пожалуй, скоро уеду в Париж.
– В Париж?!
– Да, там сейчас Владимир Гачинович. Мы с ним встретимся, обсудим, как исправить ошибки. Надо подготовиться к окончанию войны.
– Во Франции тебя арестуют.
– Я раздобуду итальянский паспорт. Итальянцы все время нелегально переходят границу, спасаются от призыва. А если у меня будет итальянский паспорт, то мне ничего не страшно.
Музей истории и искусств расположен рядом с замком на горе Сан-Джусто, откуда открывается вид на Триестский залив. С вершины горы на юго-запад сбегают узкие улочки. Нуша шагает широко, размахивает на ходу массивными руками, топает по булыжникам мостовой, чуть откинувшись назад. Юбки развеваются, как тяжелое полотнище флага. «Вот доберусь до центра, пойду как городская, а не как крестьянка какая-нибудь», – думает она.
Нуша считает брата дальновидным; он понимает то, что ей понять не дано. Бояну с друзьями уже известна та правда, которую весь мир признает только завтра; они уже обличают то зло, на которое мир сегодня закрывает глаза, но обязательно обрушит свой гнев в будущем. Еще она верит, что Боян – человек праведный, готовый умереть за правое дело.
Она проходит мимо траттории, откуда раздаются шумные голоса и тянет запахом жареного. Нуша заглядывает в открытую дверь. В дальнем углу за большим круглым столом собрались итальянцы. Стол уставлен тарелками и полупустыми графинами вина, повсюду валяются хлебные корки – странный, застывший беспорядок, когда обед затягивается на целый день, но расходиться никто не собирается. «Если бы я зашла и начала петь, – думает Нуша, – мне бы наверняка дали денег, потому что все сытые и довольные, да и воскресенье сегодня. Жаль, петь пришлось бы на итальянском…» Пока она набирается смелости, один из посетителей машет ей, приглашает войти. Нуша торопливо проходит мимо.
Нуша не знает, почерпнул ли Боян из книг свою любовь к справедливости и способность к рассуждениям, или его способность к рассуждениям позволила ему найти нужные книги. Она восхищается терпением брата и его друзей. Они часами сидят над книгами, не обращая ни на кого внимания, неподвижно, будто деревья, вросшие в половицы. Внезапно кто-нибудь вздрагивает, словно громом пораженный, отбрасывает книгу и вскакивает с криком: «Надо действовать! Нельзя терять ни минуты!» Следом поднимаются остальные, возбужденно переглядываются, молча надевают куртки, нахлобучивают кепки и выходят. Однажды Нуша из любопытства заглянула в книгу – текст оказался на немецком, а по-немецки Нуша не читала.
За поворотом улица становится похожа на мост – с одной ее стороны открывается вид с горы, на здания в центре города, вокруг биржи. Большинство зданий цвета сепии, светло-коричневые, как деревянные коробки из-под сигар. Дома украшены коринфскими колоннами и фризами, карнизами и кариатидами. Немецкоговорящая «империя семидесяти миллионов», намереваясь сохранить наследие Древней Греции, оставила свой отпечаток на фасадах особняков.
Нуша запевает про себя любимую песню – из тех, что не осмелилась бы спеть в траттории. В песне говорится о юноше, который преодолевает горные перевалы и обещает матери вернуться в родной дом. Мелодия неудержимо рвется наружу, и вот уже Нуша распевает во все горло. Ее походка становится легкой, грациозной. Одна рука сжата в кулак и отбивает ритм; ладонь другой руки помахивает в такт напеву. Нуше представляется ручеек, бегущий среди камней. Прозрачная горная река, серебрящаяся под лучами солнца, как миллионы серебряных булавок, заколотых в подол юбки, – вот что воображает Нуша, когда ворочает в чане джутовое волокно, пропитанное вонючим рыбьим жиром. Мимо нее медленно проходит пожилая супружеская пара. Старуха цепляется за руку мужа, а он держится поближе к стене. Существует какая-то странная связь между тем, как они ходят и как мало едят. В деревне Нуша никогда не встречала таких древних стариков: там они либо больны и не выходят из дома, либо крепки и ни в чьей помощи не нуждаются.
– Молодец, деточка, – говорит старуха Нуше по-словенски. – Сегодня же воскресенье!
Нуша вспоминает упреки Бояна. Брат начал ее ругать, как только они вышли из музея: за то, что Нуша себя не уважает, что позволяет себе стать жертвой, что такие типы, как этот итальянец, только и ждут случая, чтобы толкнуть ее на путь разврата.
– Ты же знаешь, как они нас называют! – гневно воскликнул он. – Sc’iavi![18] И смеются, довольные своей шуточкой.
– Ты согласилась присесть с ним рядом и тем самым показала, что готова стать рабыней, – не унимался Боян. – Помнишь, я летом приезжал, мы с тобой читали Франце Прешерена? Ты еще сказала, что хочешь жить так, как он описывает. Ведь душа твоя не изменилась. Да, тогда ты жила в деревне, а теперь живешь в городе… У Триеста нет души, это город с немецким рассудком и итальянским желудком. Здесь надо ко всему подходить с осторожностью. Только так ты сможешь жить достойно, как современный человек, как современная женщина, во всем равная мужчине. А сидеть и смеяться над шуточками итальянца… Нет, Прешерен бы этого не одобрил.
Чуть позже Боян успокоился и, отведя Нушу в тень крепостных стен, подальше от приятелей, спросил, не собирается ли она замуж. Нуша покачала головой. Боян умолк, удовлетворенный ответом, и уставился вдаль, на три холма, окруженные морем, – на их склонах построен Триест. Дул легкий ветерок, колыхал кроны деревьев. Тени листьев метались по земле, будто рассыпались монеты. Ветви не шевелились.
Нуша, смущенная гневной отповедью брата, всего этого не замечала, но ощутила прохладное дыхание ветерка на щеке.
– Придет время, и мы избавимся от этого анахронизма, – заявил Боян.
Нуша не знала слова «анахронизм».
– Мы освободимся, – продолжил он, – и вот тогда наступит время создавать семью, рожать детей, свободных сынов и дочерей отчизны. Заводить детей сейчас – преступление; они станут рабами и пушечным мясом тиранов.
В центре Триеста царит унылое запустение. С началом войны торговля в городе пришла в упадок, люди остались без работы. Некогда оживленный порт замер. Нуша останавливается у витрины, разглядывает крепдешиновое платье. Светлые, медового цвета волосы скрыты косынкой.
«Будут ли у меня и у подруг такие платья, когда придет время создать семью и заводить детей?» – смущенно думает Нуша, зная, что Бояна спрашивать об этом бесполезно. Для него это слишком легкомысленный вопрос. Она недовольно морщится, разглядывая свое отражение в витрине: мощные плечи, крутые бедра. Нижняя челюсть, подбородок и груди тяжелые, округлые. Лоб широкий. Она твердо стоит на ногах. Выражения глаз не разобрать, но легкомысленным его не назовешь. Нет, она ничем не заслужила упреков брата. «Он и представить себе не может, что я задумала», – говорит Нуша своему отражению в стекле, и тут ей в голову приходит новая мысль. Нуша внезапно понимает, как доказать свою преданность делу брата.
По узким улочкам она возвращается к себе домой, на виа дель’Индустрия. «Может быть, итальянец не соврал… может быть, он каждый день приходит в сад Гёльдерлина», – думает она.
Из музея Дж. и Нуша ушли в противоположных направлениях: его путь лежал на северо-запад, ее – на юго-восток.
Эти ориентиры очень важны для географии города. Триест считался последним оплотом современной Европы. На юго-востоке начинались Балканы, Ближний Восток и Азия – жители Западной Европы считали, что путь на юго-восток незаметно ведет от невежества к жестокости, от варварства к голоду. Триест был последним – или первым, в зависимости от того, в какую сторону направлялся путник или беглец – городом, где, по мнению и австрийцев, и итальянцев, придерживались европейских понятий чести, достоинства и прогресса. Об этом и свидетельствовало разделение города на две части. Северо-западные районы и порт походили на современную Венецию. На восточной окраине города жили славяне, магометане, турки, персы и арабы. Говорили, что там мальчишек с юных лет обучают мастерски владеть клинком. Даже деревья, лужайки и дороги в разных частях города отличались друг от друга: в восточной части разбитые мостовые покрывали колдобины и пыль, тут и там виднелись свалки, заборы перекосились, на обочинах паслись лошади, а каждое лето до 1914 года там разбивали палатки эмигранты из Галиции, Сербии и Македонии в ожидании корабля в Южную или Северную Америку.
Дж. вот уже несколько месяцев наездами обитал в Триесте.
Лицо его постарело. Процесс взросления, а позднее – старения состоит в постепенном, все увеличивающемся удалении сущности с внешней поверхности тела. На первый взгляд Дж. казался сорокалетним, а не тридцатилетним. Темные глаза оставались проницательными (его знакомая в Варшаве назвала их «агатовыми»), но лицо – особенно в уголках рта – избороздили морщины. Интерес вспыхивал во взгляде, хотя отражался на лице с усилием, словно подпитываемый какими-то внутренними запасами энергии. За прошедшие пять лет Дж. располнел, стал больше похож на отца. Впрочем, трудно сказать, было это сходство естественным или нарочно культивируемым, потому что в Триест он приехал под личиной богатого ливорнского торговца, желающего открыть консервный завод для переработки фруктов из Карниолы. Дж. представлялся законным сыном Умберто.
В августе 1914 года он жил в Лондоне и с удовольствием воспринял известие о начале войны. В Великобритании десятки тысяч мужчин выразили желание вступить в армию и отправиться на французский фронт. Все были уверены, что к Рождеству война окончится – разумеется, победой союзных войск, – и жаждали принять участие в сражениях. Сложившаяся ситуация в перспективе означала множество женщин, оставшихся на время военных действий без мужей, женихов и братьев – или овдовевших. Перед Дж. открывался широкий выбор женщин. Мужчины уходили на войну, как в свое время капитан Патрик Бирс, и для Дж. оставалось много Беатрис.
Характер его воспоминаний о Беатрисе потребовал бы написания отдельной книги, с особым, уникальным набором слов и фраз (книги воспоминаний Дж., а не ваших и не моих). Он покинул ферму и больше ни разу не пытался связаться или увидеться с Беатрисой. В июле 1914 года Дж. вернулся в Англию после пятилетнего отсутствия, однако ему не пришло в голову поинтересоваться, что стало с Беатрисой, хотя воспоминания о ней были неискоренимы. Он не сравнивал с ней других женщин, но, будучи первой, она представляла собой совокупность всех остальных. Прочие женщины в его жизни лишь увеличивали значимость и ценность Беатрисы – точнее, увеличивали в его памяти значимость интимной связи с ней.
Вскоре его отношение к войне изменилось. Для него не существовало разницы между женщинами вообще и женщинами, которые ему отдались, – ведь на его предложение могла откликнуться любая. Однако в это время в Лондоне он познакомился с женщинами, поведение которых разительно отличалось от привычного и знакомого Дж. Эти женщины не принадлежали мужчинам; они принадлежали… точнее, их породила идея. Дж. встречал фанатичных женщин, но прежде фанатичная приверженность концентрировалась на вере или идее, составлявшей ядро их существования; они ею жили, и идея – неизменная, абсолютная – пульсировала у них в крови. Подобный фанатизм был понятен Дж. Однако женщины в Лондоне оказались охвачены идеей ненависти, которая существовала вовне. Им были неведомы и жар, и сам предмет ненависти.
Скорбящая вдова убеждена, что способна любить только покойного мужа, память о нем. В отличие от замужней женщины вдова гнушается оставшимся ей временем. В определенном возрасте замужняя женщина словно попадает в тиски времени: ее прежняя жизнь с мужем остается в прошлом, а неумолимое будущее все с тем же с мужем до самой смерти наваливается неподъемным грузом, замуровывает ее в себе под монолитной плитой. Поэтому замужняя женщина решает изменить мужу, пытаясь доказать себе, что он не сможет отобрать у нее все часы, дни, годы и десятилетия жизни.
Вдова, напротив, смиряется с неизбежностью и принимает смерть мужа как окончательную и бесповоротную. Она возвращается в прошлое, переживает его заново. Будущее представляется ей без событий. Она отказывается от повторного брака, отказывается от своей женской сущности (в сексуальном смысле), но тем самым выражает не постоянную и абсурдную верность, а свое искреннее убеждение, что в ее жизни больше не произойдет ничего важного. Она уверена, что ее жизнь полна отсутствием мужа и что это событие будет вечно повторяться до тех пор, пока она живет воспоминаниями о прошлом. Она пытается сделать свою жизнь безвременной. Течение времени для нее – пустяк. Ее муж слился с вечностью. (И это – точное определение, даже если женщина не религиозна.)
Объятия другого мужчины она не воспринимает как событие. Она считает, что ее покорность значит не больше, чем покорность ребенка, прильнувшего к коленям отца. Она уверена, что в пустоте ее жизни, которую она воспринимает как доказательство глубины своей утраты, не имеют значения ни мужские ласки, ни ее собственная реакция на них. Все это лишь подтверждает ее скорбь.
Замужняя женщина ценит оставшееся ей время и отчаянно стремится заполнить его новыми впечатлениями.
Вдова гнушается оставшимся ей временем и уверена, что новые впечатления для нее невозможны.
Обе заблуждаются.
В Лондоне Дж. познакомился со вдовами, уверенность которых была иной.
– Шесть недель назад мой муж погиб во Франции. Он служил под началом генерала Губерта Гафа. Генерал прислал мне письмо, где описывалось, как под огнем немецких пулеметчиков мой муж повел в атаку…
– Примите мои глубокие соболезнования.
– С самого начала военных действий мой муж рвался на фронт. В своем последнем письме он упомянул, что приложит все усилия, чтобы не допустить проклятых бошей в Париж. Он был непоколебим.
– Да, колебания смертельно опасны.
– Мужчины всегда ведут себя так, чтобы вызвать восхищение женщин.
– А что вызывает ваше – именно ваше – восхищение?
– Всех нас восхищает готовность отдать жизнь за короля и на благо империи. Да, я восхищаюсь мужем и заявляю об этом открыто, без стеснения. Он умер так, как и полагается мужчине, удостоившемуся моей любви. Я не предполагала, что его убьют. Я не предполагала, что меня ждет вот это… – Она рассеянно касается края траурной шали. – Но я не предполагала также, что мы будем жить в такое восхитительное время.
– Вы мечтаете стать Жанной д’Арк?
– Нет, что вы! Вести людей в битву – не женское дело. Наш долг – подавать пример. Вы не чистокровный англичанин…
– Подавать пример в чем?
– Надеюсь, немецкой крови в вас нет. Да я и сама вижу, что нет. По-моему, у кого-то из ваших родителей – персидские корни.
– У персов самая быстрая кавалерия.
– Определенно среди ваших предков были персы. И вы, наверное, авиатор.
– Как вы догадались?
– Вы разбираетесь в аэропланах.
– Да.
– Я так и знала. У вас лицо авиатора. А вы видели бошей с воздуха?
– Они похожи на кенгуру.
– Почему это?
– Мне просто захотелось вас удивить.
– Я их ненавижу. К весне мы возьмем Берлин.
– Обмундирование делает их похожими на кенгуру.
– Вы обязаны прийти к нам на собрание общества Пенелоп-патриоток. Нет-нет, не отказывайтесь, это ваш священный долг. А когда вас убьют, мы проведем торжественные поминки. Завтра вечером я пришлю за вами машину, своими глазами увидите, какой пример мы подаем.
– Кто это – мы?
– Мы называем себя Пенелопы-патриотки. Мы – вдовы или сестры, чьи мужья и братья отдали свои жизни на благо отечества. Больше в наше общество никого не принимают. – Она глядит на него светло-серыми глазами. На лице восторженное выражение, будто она восхищается садом. – Мы собираемся организовать еще одно общество, для матерей, чьи сыновья погибли на фронте. Видите ли, мы с самого начала решили, что в нашем обществе матерям не место – слишком велика разница в возрасте. Мы, Пенелопы, – молодые женщины и девушки. Нет, конечно, материнское горе не менее велико, хотя нашу скорбь матери понять не в силах. Конечно, мы приглашаем их на заседания нашего общества, но держимся особняком. Нам, молодым вдовам, важно заявить о себе публично – это лучше позволяет людям осознать горькую правду. Все началось со встречи двух вдов. Их мужья погибли во Франции, незадолго до того, как убили моего мужа. Одна из них, вдова полковника Джоунса… в газете «Сфера» опубликовали статью о его подвиге. Вы наверняка видели его фотографию. Его наградили крестом Виктории за выдающуюся доблесть. Оказалось, горе перенести легче, если есть с кем поделиться своими переживаниями. К сожалению, родственники не понимают всей глубины нашей скорби; их чувства окрашены излишней сентиментальностью. При известии, что кто-то из близких убит на фронте, необходимо не забывать, что сам погибший с готовностью смотрел в лицо смерти и отправился навстречу врагу сознательно, ради высших идеалов, зная, что мы сражаемся за мир… – Она заговорила, словно оратор с трибуны. – Без нас Бельгия не смогла бы защититься от немцев, которые с нечеловеческой жестокостью отрубали женские груди и детские ручонки. Погибшие отдали свои жизни за свободу нашей империи, за счастье и покой женщин и детей, за мир, в котором слабые не страшатся сильных. Если помнить об этом, то сразу становится ясно, в чем заключается наш долг. Необходимо делать все возможное, чтобы продолжить эту борьбу – до тех пор, пока мы не добьемся того, за что погибшие отдали жизнь. Знаете, мы преуспеваем в своих начинаниях. В нашем обществе сейчас двадцать человек, и мы намерены организовать отделения во всех городах страны. Разумеется, мы не просто утешаем друг друга. Мы участвуем в патриотическом движении. Мы овладеваем ораторским искусством и не стесняемся выступать с трибуны, на публике. Мы призываем женщин работать на военных заводах, проводим беседы среди санитарок и медицинских сестер, посещаем учебные армейские лагеря – парами, а не всей группой, – чтобы выразить нашу глубокую благодарность добровольцам. Это очень трогательно и волнующе: взрослые мужчины внимают тебе, как дети. Им предстоит уйти на фронт, и многие не вернутся домой, но скромные напутственные слова молодых вдов поддержат усталого, израненного бойца на поле сражения. Мы, англичане, стесняемся открыто выражать свои чувства. И все же кто-то должен сказать нашим доблестным воинам, что они совершают благородный поступок. Ах, если бы вы слышали, как они приветствуют наши слова!
– Вы помните, что ткала Пенелопа?
– По-моему, какое-то полотно.
– Не совсем.
– Мы назвали наше общество ее именем, потому что Пенелопа осталась дома и хранила верность мужу. – Она опускает взгляд, сжимает руки на коленях. – Наша задача – собирать факты, сведения о том, что происходит на фронте, оказывать посильную помощь мобилизации и обороне страны. Для этого мы приглашаем лекторов и почетных гостей. Вы ведь придете?
– Давайте сначала днем встретимся.
– Когда? Ах, у нас еще не было авиаторов! Мы почти ничего не знаем о войне в воздухе. Прошу вас, приходите в мундире, – говорит она и умолкает. – А что ткала Пенелопа?
– Вы в три пополудни где будете?
– Дома.
– Саван.
– Простите, что? Так мне вас ждать?
Его охватило желание покинуть Лондон – впрочем, это с ним случалось в любом городе. Однако на этот раз его одолевала непривычная – легкая, но непрестанная – тревога. Дж. хотелось не просто куда-нибудь уехать из города; нет, в Лондоне ему было неспокойно. Вдобавок война резко ограничила количество стран и городов, пригодных для переезда.
Было ли его беспокойство отчасти результатом предвидения огромных исторических перемен, которые грозили преобразить общественную и частную жизнь в Европе так, что сам Дж. изменился бы до неузнаваемости? Не знаю. Его не интересовали ни история, ни политика. Из уже написанного становится ясно, что будущее его страшило, но не в личном смысле.
«Как только один из вас исчезает, на его месте возникает другой, и ваше число постоянно увеличивается. Все в мире исчезнет, останетесь одни вы. К чему мне вас бояться? Это вы говорите о будущем и верите в него. Мне это безразлично».
В начале декабря Дж. отправился из Лондона в Триест. Мысль о поездке на вражескую территорию возникла следующим образом. Один из школьных приятелей Дж., Энтони Уилмот-Смит, служил в министерстве иностранных дел и был авиатором-любителем. Они часто встречались на публичных представлениях полетов. Однажды Дж. мельком заметил, что устал от Англии. Такое отсутствие патриотизма должно было шокировать Уилмот-Смита, но он еще со школьной скамьи привык считать Дж. иностранцем – недаром в школе его прозвали Гарибальди.
Несколько дней спустя он позвонил Дж.
– Как твой итальянский?
– Как у итальянца, – ответил Дж.
Они договорились встретиться тем же вечером. Уилмот-Смит объяснил, что служит в итальянском отделе министерства иностранных дел и готов оказать старому приятелю услугу личного характера. Дж. выдадут итальянский паспорт на фамилию отца. С этим паспортом он сможет выехать из Англии и отправиться куда пожелает, при условии, что заедет в Триест и встретится там с итальянцами, которые сообщат ему некоторые сведения для дальнейшей передачи в Великобританию. Уилмот-Смит заверил Дж., что ему ничего не угрожает – во всяком случае, его поездка будет не опаснее переворота через крыло на «Блерио». К удивлению и огорчению Уилмот-Смита, Дж. сразу же согласился на предложение, не требуя дальнейших объяснений.
Уилмот-Смит заявил, что выполнение этой просьбы чрезвычайно важно для интересов Италии и Англии. Итальянцы в Триесте пытались сбросить иго Австро-Венгерской империи, но их сопротивление приводило к ужесточению репрессий. Правительство Великобритании, заключив альянс с союзниками, вело переговоры с итальянским правительством о признании итальянскими всех италоязычных территорий на побережье Адриатики. Уилмот-Смит надеялся, что цель британских властей в Триесте будет достигнута: если итальянские националисты устроят демонстрацию протеста, австрийцы их жестоко подавят, что вызовет в народе желание поддержать милитаристскую политику Италии. Дж. равнодушно оборвал Уилмот-Смита и сказал, что ему нужно только имя связного в Триесте.
– Я не служу высоким идеалам, – добавил он.
Поезд пересек австрийскую границу и, после череды глубоких ущелий и туннелей, выехал на холм, откуда открывался вид на Триестский залив. Дж. не считал, что находится на вражеской территории. Стояла зима, замерзший город выглядел уныло. Отопление в поезде не работало. В заливе не было кораблей. Дж. выглянул из окна вагона на переплетение улиц, полукольцом огибающих залив, и ощутил сдержанное возбуждение – или напряжение – само по себе приятное. Подобное чувство возникало у Дж. при входе в дом, хозяин которого в данный момент был в отлучке. В доме вся мебель и предметы обихода – шторы и комоды, безделушки на столах, двери, ковры, кровати, книги, лампы и портреты – выстроились в ряд, будто толпа (ни на волосок не сдвигаясь с места), и мимо них Дж. шествовал к ожидающей его женщине.
После встречи с Нушей Дж. вышел из сада и медленно направился к бирже на пьяцца делла Борса. На перекрестке он остановился проверить, нет ли за ним слежки. На пустынных улицах невозможно незаметно следить за одиноким прохожим. Он дошел до конца улицы, на которой жил австрийский банкир по имени Вольфганг фон Хартман со своей женой-мадьяркой. С фон Хартманом Дж. вел переговоры о консервном заводе. Дж. повернулся и пошел назад, мимо особняка. За окнами, закрытыми парчовыми портьерами, все предметы уже выстроились в ряд, ожидая его появления, – но день и час его визита пока не был назначен. Чтобы вызвать в памяти облик Марики, супруги фон Хартмана, Дж. представил себе ее необыкновенный нос и рот.
В кафе на пьяцца Понтероссо Дж. нетерпеливо дожидались двое.
– Вечно он опаздывает, – проворчал Рафаэль.
– Посмотрим, нет ли за ним хвоста, – предложил доктор Донато, пожилой человек лет шестидесяти, с седой бородкой на узком лице.
Они скрылись за дверью подсобки.
– Вот он! – прошептал доктор Донато.
– Пусть теперь объяснится, – сказал Рафаэль.
– Ты слишком горяч, мой юный друг, – возразил доктор Донато.
Оконце в двери подсобки занавешено шторкой. Донато чуть приоткрыл ее и выглянул в зал.
– Я часто замечал, – продолжил он, – что стороннему наблюдателю открывается многое. У жестов свой язык. Осведомитель пьет кофе иначе, чем обычный посетитель. Это не выдумка. На то есть свои причины. К примеру, осведомитель, привыкший к интригам и заговорам, может заподозрить, что его кофе отравлен, и это сказывается на том, как он берет в руки чашку.
Ее нос нарушает все установленные нормы. Он настолько асимметричен и неправилен, что выглядит бесформенным. Снятый с него слепок выглядел бы частью странного корня, клубня с крошечными бугорками и вмятинами, как те части растения, что уходят вниз, под землю, к воде, а не вверх, к солнцу. О перевернутой ориентации невнятно говорил весь центр ее лица. Края губ казались внутренней частью рта, ноздри – горлом. Она сидела, будто бежала.
– Глянь, он сел за столик у окна, смотрит на улицу. Сдвинул занавеску, притворяется, что ему солнце в глаза светит. Какой хитрец! Тянет время, выжидает. Вот, официантку позвал – всего лишь чуть наклонил голову, а любопытная простушка уже спешит к нему. Между прочим, ты никогда так официантку не подзовешь. – Доктор Донато опустил шторку и коснулся плеча Рафаэля. – К примеру, ты все делаешь уверенно, размашисто. А почему? Потому что хочешь, чтобы тебя заметили.
Рафаэль подозрительно покосился на собеседника.
– Тебе же нечего скрывать, – пояснил доктор Донато, юрист.
В его глазах светился ум, в тонком, пронзительном голосе слышались уверенные нотки. Доктор Донато любил все объяснять и гордился тем, что он атеист и республиканец. Больше всего ему нравилось истолковывать пылкие чувства других. Излишества его восхищали, потому что для их понимания требовалась стройная работа Рассудка. Вот уже двадцать лет он был членом подпольного комитета итальянской партии ирредентистов в Триесте; ходили слухи, что он был одним из тех, кто задумал и осуществил знаменитое происшествие на пьяцца Гранде.
Двадцатого сентября тысяча девятьсот третьего года, как только часы на пьяцца Гранде пробили полдень, с флагштока над муниципалитетом развернулся трехцветный итальянский флаг. Полицейские ворвались в здание, но оказалось, что дверь в башню заперта и заколочена. Итальянцы собрались на площади, разглядывая флаг, гордо реющий в синем небе. «Когда Триест станет итальянским, этот флаг будет осенять город каждый день», – думали они. Дата была выбрана не случайно: именно двадцатого сентября Рим объявили столицей Италии. Флаг был виден даже с кораблей на рейде.
Впрочем, когда доктора Донато спрашивали об этом инциденте, он пожимал худыми плечами и загадочно отвечал:
– Мы, итальянцы, славимся не только музыкальными талантами, но и изобретательностью.
Доктор Донато снова приподнял шторку.
– Он что-то увидел, – сказал он.
– Что?
– Точнее, кого-то.
– Кого?
– Не знаю. Но выглядит он довольным. Я не заметил, кого он увидел. Может быть, знак какой-нибудь подал – неизвестно. Его мотивы пока неясны. Интересно, он действительно предприниматель или притворяется? Кто он на самом деле? Когда мы это установим, то…
– Надо предъявить ему факты, – нетерпеливо заявил Рафаэль и решительно направился к столику у окна. Он двигался с уверенностью человека, которого с детства холили и лелеяли (вполне возможно, что на самом деле все обстояло иначе). Посетители кафе провожали его взглядами. Рафаэль прославился патриотическими статьями в газете «Иль пикколо», хитроумно обходящими австрийскую цензуру. Он шел по кафе с таким видом, словно за ним следовал не худощавый седобородый старик, а целая толпа соратников.
Все трое склонились над столом. Рафаэль, выпятив подбородок и наморщив лоб, спросил Дж. о новостях из Рима. Говорил он тихо, чтобы его не подслушали.
– Не знаю, я в Риме не был.
– А подарок для матери?
– Должны были привезти.
– Вы доверили его постороннему?!
– Да.
– Кому?
– Если вы связаны с матерью, то чем меньше имен вам известно, тем лучше, – наигранным заговорщицким шепотом заявил Дж. – Вы же помните основное правило подпольной организации.
– Две недели назад вы обещали нам съездить в Рим! – воскликнул Рафаэль, откидываясь на стуле.
Посетители кафе с интересом поглядели в их сторону.
– Я передумал.
– Передумывают предатели!
Рафаэль двигался шумно. Конспирации он не придавал особого значения, считая своим долгом поднять народ на борьбу, и полагал, что тысячи итальянцев в Триесте последуют примеру человека, которого невозможно запугать.
– Не волнуйтесь, мать пришлет вам весточку, – шепотом ответил Джи. – Она обязательно получит наш подарок.
– Вы предатель и трус! И бесчувственный к тому же. Все будущее нашей семьи поставлено на карту, а вы носитесь со своими засахаренными фруктами… – Рафаэль понизил голос, будто желая показать, что лучше понимает, какие именно слова заслуживают шепота. – И с врагами сделки заключаете! Кто знает, что вы им рассказываете. Может быть, вы и о матери им доложили?
– Рафаэль, дорогой мой, – вмешался доктор Донато. – Давайте не будем обвинять друг друга. Он с нами, а не против нас. Он уже не раз нам помогал. Он собирался поехать в Рим, но не смог и попросил об одолжении своего… ну, допустим, кузена. Не надо делать поспешных выводов. Я убежден… – Он повернулся к Дж. и оперся ладонями о стол. – Так вот, я убежден, что мы можем и должны на вас рассчитывать. Вы мечтатель, как и все мы, и стремитесь претворить мечту в реальность. Вопрос в другом – мечтаем ли мы с вами об одном и том же. Но это вскоре выяснится, – тихо закончил он. Дыхание со свистом вырывалось сквозь зубы, будто он притворялся спящим. За стеклами пенсне веки опустились на глаза.
– Нет, я не мечтатель, – заметил Дж.
– Все мужчины – мечтатели.
– Что ж, некоторые мечтают меньше.
– Мы мечтаем о том дне, когда наша отчизна вернет себе былое величие и мощь, – заявил Рафаэль, многозначительно подняв палец в излюбленном жесте ирредентистов, означавшем объединение Италии. – Об этом мечтают сорок миллионов человек.
Дж. мысленно обратился к доктору Донато: «У ваших ног сидят двенадцать юных дев, которым вы рассказываете о том, как Триест перешел к Италии. Вы выбираете одну из них, касаетесь ее грудей, и она восхищенно восклицает: “Папа! Папочка!” Вот она, ваша мечта!»
– У вас есть дочери, доктор Донато?
– Увы, нет. А почему вы спрашиваете?
– Имя мне смутно знакомо.
Рафаэль решительно сжал столешницу. Пришла пора говорить напрямую: Дж. следует предупредить, что ему не поздоровится, если его поведение сочтут подозрительным. Рафаэль не доверял уклончивым обсуждениям, связывая их с коварством и интригами, характерными для итальянской политики. Для него интриги означали коридоры власти, в противоположность имперским просторам и полям сражений. Италия должна вспомнить о своем прошлом и возродить былое достоинство Римской империи. Рафаэль мнил себя новым Гарибальди, ратовал за суровый праведный патриотизм и считал Донато новоявленным воплощением вероломного Кавура. Рафаэль уважал его проницательность, но твердо верил, что на этот раз доблестный генерал не попадет под влияние лицемерного политика. Однажды в гимнастическом зале он взял в руки саблю и рассек клинком воздух над головой Донато. Старый адвокат и впрямь воображал, что у него с Кавуром много общего, а потому спокойно наблюдал за пылким юношей, вспоминая, что Гарибальди своей детской непосредственностью часто испытывал терпение Кавура.
– Послушайте, нас не устраивают ваши объяснения, – заявил Рафаэль. – Вы обещали съездить к матери и не сдержали слова. Что вам помешало?
– Дела сердечные.
– А почему вы нас не известили?
– Вы знакомы с дамой, – ответил Дж.
Рафаэль глубокомысленно откинулся на спинку стула.
– Позвольте узнать, с кем именно? – небрежно спросил он.
– Вот у них и спросите, – рассмеялся Дж.
Рафаэль раздраженно заметил, что доктор Донато тоже улыбается.
– Видите ли, нам очень нужна ваша помощь, – сказал Донато. – Вы итальянец, из Италии, приехали в Триест заключить крупную сделку… Вы наверняка встречаетесь с влиятельными австрийцами, среди которых есть люди, знакомые с губернатором или епископом. На прошлой неделе арестовали одного юношу – его зовут Марко – при попытке пересечь границу. Может быть, вы попросите ваших знакомых австрийцев о снисхождении к бедняге? Или даже о его освобождении?
– Сейчас, когда обе страны вот-вот перейдут к военным действиям?
– Понимаете, здесь особый случай. Юноша серьезно болен, у него туберкулез. Его отец при смерти, в Венеции. Марко освобожден от военной службы по нездоровью, в политических связях не замешан. Он пытался перейти границу, чтобы попрощаться с отцом.
– Как-то подозрительно звучит.
– Вот потому это и особый случай. У меня с собой все документы… – Доктор Донато аккуратно выложил на стол черную кожаную папку. – Мы будем добиваться помилования из соображений гуманности и человеколюбия. Приличное общество везде, а особенно в Австрии, обожает добрые деяния. И женщин это привлекает. Можно развернуть кампанию за его освобождение – разумеется, не для широкой огласки, а среди влиятельных людей. Все, что потребуется, – замолвить словечко в частной беседе, за ужином с нужным человеком.
– Я вам не доверяю, – встрял Рафаэль. – Вы же понимаете, что сейчас нам нельзя ошибиться. Или вы немедленно докажете, что вам можно верить, или… – Он медленно опустил кулак на раскрытую ладонь. – У нас повсюду глаза и уши.
– По-моему, это прекрасное дело, – продолжил доктор Донато, не обращая внимания на Рафаэля. – Больной туберкулезом юноша с юридической точки зрения нарушает закон, но из обычного человеколюбия суровость наказания следует умерить – ведь Марко хотел исполнить свой сыновний долг, навестить умирающего отца. Тут даже полицейский инспектор расчувствуется. К тому же губернатору наверняка придется по нраву мысль о помиловании, что даст возможность сделать весьма драматическую, хотя по сути незначительную уступку итальянскому общественному мнению. Той же ночью арестовали еще несколько человек. Да, кое-кто из них направлялся к матери – вот пусть суд и разбирается с ними по всей строгости закона. Но с точки зрения австрийских властей помилование Марко будет весьма разумным тактическим ходом.
– Тактическим ходом! – воскликнул Рафаэль.
– Почему вы так печетесь о его спасении? – спросил Дж.
Донато прижал руки к груди, будто говоря: «Так и быть, я открою вам душу».