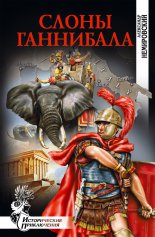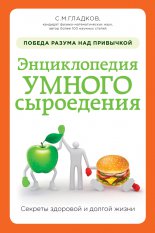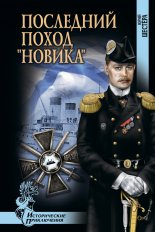Рубин из короны Витовта Дмитриев Николай

– Я помню, благочестивый брат! «Разделяй и властвуй»…
– Ну вот, поскольку теперь вроде бы всё уточнено, я сообщаю тебе, благочестивый брат комтур, главное, – и, глядя прямо в глаза рыцаря, пилигрим тихо произнёс: – Любимый шут князя Витовта, Гинне, – наш человек.
Теперь, когда пилигрим подчёркнуто назвал Отто фон Кирхгейма комтуром, тот чётко уяснил себе, что там, при дворе великого князя Литовского, у них есть надёжный соглядатай, с которым ему надлежит установить тесную связь…
Новенькая чёрная форма преобразила Гашке. Теперь, вместо книжного червя в несуразно больших очках с сутуловато-невзрачной фигурой, по улице рядом с штурмбаннфюрером уверенно шагал молодой стройный офицер в заломленной фуражке и золотом пенсне, которое придавало Теодору Гашке вид студента или начинающего учёного.
Откровенно говоря, Гашке даже не ожидал такой разительной смены в собственном самоощущении. И, скорее всего, так случилось потому, что в мыслях, с завистью глядя на спортивного вида гитлерюгендов, он и себя представлял таким же, однако на попытку преодолеть собственную неуверенность Гашке натолкнул только мундир эсесовца.
Несколько раз Теодор даже ловил на себе заинтересованные взгляды девушек и, всё больше чувствуя уверенность, спросил шедшего рядом Минхеля:
– Вернер, а куда мы всё-таки идём?
– Сейчас увидишь… – Минхель загадочно усмехнулся и свернул с головной улицы в какой-то тихий проулок, где даже не было видно автомобилей.
Идти и правда пришлось недолго. Вернер остановился возле дверей неприметного дома, словно зажатого со всех сторон другими строениями, проверяя себя, посмотрел на номер и только после этого зашёл в парадное. Гашке, который сегодня был настроен на что-нибудь необыкновенное, разочарованно пожал плечами и поплёлся следом.
На площадке второго этажа, выстеленной красными и жёлтыми квадратиками кафеля, образовывавшими сложный узор, Вернер остановился и испытывающе посмотрел на Гашке.
– Послушай, дружище, ты про общество Туле слышал?
– Конечно… – Гашке присмотрелся к дверям, возле которых задержался Вернер, и, сообразив, что такого короткого ответа мало, добавил: – Вообще-то его можно рассматривать как современный филиал Тевтонского ордена. Его девиз: «Помни, что ты немец». К тому же земля Туле – это и есть прародина арийской расы.
– Правильно. А вот тут живёт бывший член этого общества, магистр чёрной и белой магии… – и, не называя имени загадочного магистра, Вернер нажал кнопку электрического звонка. Дверь открыла служанка, и, не ожидая её вопросов, Вернер кинул:
– Герр магистр у себя?
– Да… – несколько растерянно ответила служанка и, давая дорогу Вернеру, отступила в переднюю.
Магистр чёрной и белой магии встретил посетителей стоя, и, хотя при этом опирался обеими руками о стол, он вовсе не выглядел немощным. Наоборот. К тому же на нём была странная одежда, чем-то напоминавшая сутану фиолетового цвета, а поседевшую голову украшала квадратная академическая шапочка, придавая магу научный облик.
На стене за спиной хозяина, как профессиональное свидетельство, висел огромный зодиакальный круг, в центре которого красовалась свастика «Зоннерад»[69]. Рядом были развешаны астрологические таблицы, а на чистом, без единой бумажки, столе высилась большая необработанная хрустальная друза, не иначе как выполнявшая здесь роль магического кристалла.
Узрев перед собой сразу две черномундирные фигуры, маг гостеприимно предложил садиться и, когда гости расселись в удобных старинных креслах, спросил:
– Ну-с… Что привело вас ко мне?
– Нужна ваша консультация, – пояснил Вернер и, заметив, как маг кинул выразительный взгляд на погоны Гашке, добавил: – Мой коллега, историк…
– Понял, – хозяин важно наклонил голову. – Я вас слушаю…
– Дело в том… – начал было Гашке и вдруг запнулся, не зная, как сформулировать задание, которое было поставлено перед ними.
– О, я понимаю, – поспешил на помощь маг. – Ваше дело государственной важности…
– Да, – несколько растерянно подтвердил Минхель, а Гашке только молча посмотрел на хозяина.
– Ну что ж, молодые люди… – маг решительно взял нить разговора в свои руки. – Убеждён, прежде всего, вас интересует род моей деятельности и уже потом, смогу ли я вам помочь…
Это было так точно сформулировано, что Минхелю и Гашке осталось только молча кивнуть головами, подтверждая правоту хозяина. А тот, убедившись в произведённом впечатлении, продолжил:
– Оккультизм, молодые люди, – это учение, которое признаёт существование скрытых сил человека. Если хотите, оккультные науки не что иное, как тайные знания для избранных. Мы занимаемся астрологией, экстрасенсорным восприятием, ясновидением и, в особых случаях, магией драгоценного камня…
При последних словах Вернер оживился и, уже освободившись от смущения, решительно вмешался:
– Вот про камни, пожалуйста, подробнее.
– Ну, если это и правда особый случай, то можно, – после некоторого колебания согласился маг. – Драгоценные камни, молодые люди, это не только украшение, а главным образом – своеобразный оберег, который всё время может быть с человеком. Именно с этой целью тот или иной камень вставляют в оправу и в виде перстня держат при себе. На многих примерах установлено, что камень может оберегать собственника…
– А если это властитель, сделать его ещё могущественнее может? – нетерпеливо перебил Вернер.
Хозяин замолчал, пристально посмотрел сначала на Минхеля, потом на Гашке и, уже наверняка зная, о чём речь, спросил:
– Какой именно камень вас интересует?
– «Королевский рубин»! – без всяких экивоков, в упор глядя на мага, рубанул Минхель.
– Так… – На какой-то момент старик задумался. – И что же вы хотите узнать, молодые люди?
– Мы не знаем, где он сейчас… – начал было пояснять Вернер, но хозяин жёстко остановил его:
– Всё. Я понял.
Маг подвинул ближе к себе хрустальную друзу, электрическая лампочка под потолком стала гаснуть, одновременно в середине магического кристалла возникло голубоватое сияние, а на фоне «солнечной» свастики, висевшей на стене, высветился кинжал с двумя ветвями по бокам. Маг положил обе руки на кристалл, минуты три сосредоточенно молчал и только потом тихо и как-то торжественно сказал:
– Он есть… Но его спрятали… Далеко… В подземелье замка…
И, слушая завораживающее бормотание мага, Гашке и Минхель вдруг ощутили странную уверенность, что их поиск может оказаться удачным…
Глава четвёртая. Рыцарский турнир
Пользуясь попутным ветром, ганзейский когг[70] медленно плыл вдоль берега и только время от времени, огибая очередную мель, уходил мористее. Теодор Мозель, уважаемый купец из Любека, стоя на кормовой надстройке, то и дело поглядывал кругом, по очереди останавливая взгляд то на двух арбалетчиках, торчавших на носовой площадке, то на полосатом, бело-красном парусе, а то и на узкой, песчано-жёлтой полоске берега, за которой сразу начинался лес.
Сейчас, успокоенно глядя на такую близкую землю, Мозель отдавал должное опыту капитана когга. Предыдущие два дня корабль шёл открытым морем, не имея на горизонте даже намёка на какой-нибудь берег. Такую возможность дал ветер, который, то ослабевая, то, наоборот, усиливаясь, всё время дул только в одном направлении.
Теодор Мозель не впервые плавал по морю и хорошо понимал, на какой риск шёл капитан обычного грузового парусника ради экономии времени, так как любое изменение направления ветра или шторм постоянно угрожали мореплавателям. Однако на этот раз всё обошлось, и теперь Мозель испытывал одновременно и облегчение и удовлетворение.
От этих мыслей Мозеля отвлекло некоторое оживление на юте. Новенький когг имел байонский руль и потому два рулевых, вместо того чтобы всё время грести, просто стояли по обе стороны длинного румпеля и, внимательно следя за курсом, лишь время от времени прилагали усилия, чтобы держать корабль на нужном курсе. Вот и сейчас, заметив, что туго надутый парус слегка заполоскал, они дружно двинули румпель к борту, и Мозель, чтобы им не мешать, отошёл к краю площадки. Тут он услышал, как внизу на палубе хлопнули двери кормовой надстройки, что вели внутрь, туда, где размещались каюты, и с любопытством заглянул через перила.
Капитан (а это вышел на палубу именно он), заметив Мозеля, дружески кивнул купцу и стал ловко подниматься по ступенькам трапа. Остановившись рядом с рулевыми, он, как всегда одетый в кожаный бострог и шапку с пелериной, укрывавшей шею от брызг, которые всё время нёс ветер, осмотрелся. Капитан в первую очередь глянул на снова туго натянувшийся парус, на глаз проверил, не ослабели ли фок и бакштаги[71], и только после этого обратился к Мозелю:
– Ну и как ход?
– Чудесный, лучшего и быть не может! – спасаясь от очередного порыва ветра, Мозель спрятал лицо в меховой воротник кафтана и добавил: – А я вот побаивался, что пройти напрямик не удастся.
– Зря, – капитан усмехнулся. – Я знаю этот ветер. Хотя опасения, что он усилится, у меня были. А так, миновав Данциг и Кенигсберг, мы выиграли пару недель и прямиком вышли к Мемелю.
– А почему мы не зашли в Мемель? – поинтересовался Мозель.
– Не хочу терять ветер, – пояснил капитан. – Вдоль янтарного берега мы спокойно дойдём до Паланги, там я возьму провиант и пресную воду и, не заходя даже в Ригу, сразу пойду на Новгород. Хочу таким образом выиграть ещё пару недель.
Это выглядело обнадёживающе, и Мозель поддержал капитана.
– Да, так было бы неплохо, к тому же рейс не требует перегрузок.
– Конечно, – согласился капитан. – У меня сейчас пятьдесят ластов[72] сукна и двадцать полотна. А в Новгороде я должен взять воск, меха и сразу обратно.
– Это уж как ветер позволит, – заметил Мозель.
– Ну, я знаю, где идти, – капитан весело подмигнул купцу. – Будет нужный ветер, то тогда к норвегам за сельдью, а дальше прямиком до Луары за солью.
Капитан уже в который раз повторял это Мозелю, однако купец, тоже имея с такого оборота свой интерес, в очередной раз охотно его слушал.
Беседуя с купцом, капитан не забывал зорко смотреть вперёд и, вдруг приметив что-то подозрительное, громко приказал рулевым:
– Лево на борт!
Те враз навалились, отчего румпель пошёл в сторону и когг медленно начал забирать влево. Одновременно парус хлопнул раз, другой, и капитан, перегнувшись через ограждение, рявкнул матросам, бывшим на палубе:
– На фалы!.. Быстрей!!!
Поняв, что теперь капитану не до него, Мозель неспешно спустился по трапу на палубу и направился в свою каюту, находившуюся в самой корме, рядом с капитанской. Там, усевшись на лавку, наглухо прикреплённую к борту, и одновременно служившую ложем, купец задумался. Свет сюда попадал только через небольшое окно, сделанное из стеклянных шариков, вмонтированных в свинцовый переплёт, и нужно было время, чтобы привыкнуть к полутьме. Зато, по сравнению с палубой, тут было покойно, хотя отдых всегда сопровождался постоянным скрипом мачты и порой весьма чувствительными ударами волн по обшивке.
Просидев так достаточно долго, Мозель наклонился к своему рундуку, достал оттуда большую дорожную сумку и вынул из неё кожаный мешочек. Потом, придвинувшись поближе к окошку, где было побольше света, распустил завязку и выложил на стол, похоже, очень дорогое ожерелье. Судя по всему, оно нравилось Мозелю, так как сразу, отложив мешочек в сторону, купец стал им любоваться, но при этом особое внимание уделял драгоценному камню, на котором маленькими буквочками было умело вырезано одно-единственное слово «Rex»[73].
Сейчас, перебирая пальцами играющие отблесками самоцветы, Мозель вспомнил события, предшествовавшие его вояжу и происходившие ещё дома в Любеке. Тогда к нему в контору прибежал запыхавшийся слуга и сообщил, что в гости к герру Мозелю прибыл не кто иной, как сам герр Блюменрит. Кто это – купец знал очень хорошо и зачем советник императора заглянул в его дом – тоже. По своему положению Мозель лично уже никаких поручений не исполнял, однако Ганза входила в Священную Римскую империю, и одно это заставляло купца в который раз задуматься…
Сколько времени он так просидел, погрузившись в размышления, Мозель сказать не мог и встрепенулся, лишь услыхав громкий топот на палубе. Купец суетливо спрятал ожерелье, так и лежавшее на столе, закрыл рундук и поспешил наверх. Палуба встретила его авралом. Когг замедлял ход, так как рей уже был спущен и матросы общими усилиями скатывали парус. Мозель ещё не успел толком оглядеться, как на носу загремела цепь, и якорь с шумом плюхнулся в воду.
Заметив купца, капитан, который распоряжался на палубе, указал рукою на берег и радостно крикнул:
– Прибыли!.. Паланга!
Мозель послушно посмотрел в указанном направлении. Вдалеке виднелся пологий низкий берег, густо поросший сосновым лесом. В одном месте, там, где жёлто-песчаная полоса становилась немного шире, ближе к опушке теснилась кучка весьма неказистых домишек, а по урезу, частично вытянутые носами на песок, лежали довольно большие челны. Один из них, уже стянутый в воду, направлялся к коггу, и Мозель сумел разглядеть согнутые спины людей, которые ритмично сгибались в такт гребле. Да, это была Паланга и именно отсюда он, любекский негоциант Мозель, должен был начать необычный для него вояж…
Ответственное путешествие Теодора Мозеля неожиданно затягивалось.
Он надеялся, добравшись в Вильно, справиться со всем сразу, но из этого ничего не вышло, поскольку Витовта в столице не оказалось. Не нашлось великого князя и в Троках, куда поспешил Мозель, и именно из-за таких обстоятельств купцу пришлось отправиться дальше, теперь уже на южные земли княжества к Луческу.
Дорога на юг, по которой пришлось ехать Мозелю, шла такими дебрями, что купцу было невдомёк, как люди смогли её тут проложить. Извилистая полоса двух плохо наезженных колей стелилась между могучих, наверное, столетних стволов, причём иногда корни деревьев тянулись поперек шляха, создавая мешавшие проезду горбы.
Правда, кони всадников легко преодолевали такие, в общем-то, небольшие препятствия, а вот возы с грузом, что достаточно длинной вереницей тянулись колеями, каждый раз тяжело, со скрипом, переваливались через такие корни. Из-за этого, путников всё время преследовало опасение, что какая-нибудь из осей не выдержит и тогда придётся стоять, пока не удастся кое-как починить воз, задерживаясь порой до темноты.
Ещё больше трудностей возникало при преодолении гатей. В тех местах, где грунт был болотистый, поперёк дороги плотно выкладывались очищенные от ветвей стволы, и вот тут коням было тяжеловато, а про возы и говорить нечего, так как колёса начинали подскакивать на каждом бревне, и над тяжело гружённым обозом повисало сплошное потрескивание и тарахтенье.
Однако, если быть откровенным, самого Мозеля это беспокоило мало. Собственного груза у него было всего два воза, да и те Мозель взял с собой только для того, чтобы лучше утаить действительную цель путешествия. К тому же его ценности, а прежде всего деньги, всё время были при нём, тщательно запрятанные в объёмистой дорожной сумке, которую Мозель, никому не доверяя, всегда носил сам.
Места, по которым продвигался обоз, были глухими, и все, включая самого Мозеля, побаивались нечистой силы, по глубокому убеждению путников, скрывавшейся в непролазной чаще. Об этом мужики, особенно на привалах, охотно вспоминали, судача о якобы случавшихся здесь встречах с лесовиками, водяными и кикиморами.
Ежевечерне, сидя у огня на заезде или просто возле костра, который разжигали, останавливаясь на обочине, Мозель слышал такие рассказы и временами со страхом поглядывал на тёмный лес, который, казалось, вплотную подступал к путникам, но при этом он чётко понимал, что главная опасность таких мест кроется совершенно в другом…
Все отлично знали, что на шляхах Литвы, Польши, Германии и даже земель Ордена было неспокойно. Шайки лихого люда, состоявшие из кого угодно, начиная с отчаявшихся селян и заканчивая панами рыцарями, часто нападали на путешественников, и потому обозы собирались в длинные валки[74] и почти каждый из них сопровождался вооружёнными до зубов путними боярами[75].
Белый день уже склонялся к вечеру, когда длинный обоз неожиданно выехал на неплохой отрезок шляха. Похоже, в этой части лесных дебрей когда-то был водоём, со временем превратившийся в топкое болото, и простой гати тут оказалось мало. Потому и гать тут сделали особенную. Поперёк уложили толстые, почти в обхват, брёвна, а поверху, на ширину примерно в шесть локтей, настелили тёсаные доски.
Благодаря такой старательности, получилась гладкая дорога, больше походившая на настоящий мост через болото. Тяжелогружёные возы легко катились, только постукивая втулками. Тут даже кони, почувствовав облегчение, без всякого понукания с тяжеловатого шага сами перешли на лёгкую рысь, и вокруг по лесу широко разнёсся дробный топот чуть ли не сотни копыт.
Наверное, конь, на котором ехал Мозель, оказался игривее прочих, так как, обогнав других лошадей, он поскакал вперёд, довольно далеко оторвавшись от обозной валки. Вдруг громкий разбойничий посвист резанул уши, и Мозель испуганно рванул повод. Конь задрал голову, громко заржав, вскинулся и встал на дыбы, отчего неумелый ездок вылетел из седла и, вдобавок упустив повод, грохнулся на дорогу.
Когда же ошарашенный Мозель сумел подняться, вокруг него уже были вооружённые чем попало разбойники, целой толпой выскочившие из леса. Купец рванулся назад и с ужасом увидел, что на обоз нападают со всех сторон. Никакого сомнения не могло быть: разбойничья засада готовилась заранее, а это означало, что путники попали в беду.
Забыв про свой фальшион, болтавшийся у него на поясе, Мозель, не зная, что делать, заметался по дороге. Его глаза видели то стрелы, летевшие из чащи, то всадников, которые, вероятно стремясь укрыться в лесу, загнали своих коней в болото и теперь беспомощно барахтались в грязи и, наконец, огромный воз, на ходу слетевший с настила и с треском завалившийся набок.
В этот момент несколько путних бояр, видимо те, кто уже понял, что к чему, с гиканьем вырвались из дорожной неразберихи и, размахивая мечами, поскакали на нападавших. Бешеный топот их коней вернул Мозелю способность соображать, и он, выхватив наконец свой фальшион, с яростью кинулся в общую свалку.
Купец сумел удачно свалить мечом вооружённого коротким копьём разбойника, потом успел заметить, как один из путних бояр, схватившись за пробитую стрелой шею, падает с коня, но тут у него всё вдруг закружилось перед глазами. Мозель ещё успел понять, что его вроде как ударили чем-то по затылку, а потом, теряя сознание и выронив фальшион, упал лицом вниз.
Придя в себя, Мозель не мог определить, сколько времени он провалялся у всех под ногами. Вероятно, совсем недолго, так как схватка была в самом разгаре, она только сместилась куда-то дальше к обозу, и оттуда доносился звон оружия, дикие крики и треск ломающегося дерева. Понимая, что в таком состоянии он больше ничего другого сделать не может, Мозель так-сяк прикрыл ладонями окровавленную голову и на четвереньках пополз дальше от дороги, куда-то в лес…
Охотнику за бобрами Яцеку, по прозвищу Скочеляс, последнее время не везло. По всем признакам, зверь в этом лесу был, однако, то ли водяной за что-то рассердился на Скочеляса, то ли была другая, неизвестная Яцеку причина, но только все бобры неизвестно почему попрятались в свои хатки, и хотя бобровник всё время упорно караулил зверя возле ручьёв и плотин, ему ничего не удавалось добыть.
Таким образом, надежда оставалась только на «Бобровый ручей». Это название возникло неизвестно откуда и как-то прижилось. Поток был полноводен и больше походил на маленькую речку, чем на ручей. По его берегам было множество бобровых хат, однако добыть зверя там было намного трудней, чем в других местах. Отчего-то бобры тут не заходили далеко на берег и при любой опасности сразу ныряли в воду, а потом по быстрому течению сплывали так далеко, что угадать, где именно вынырнет зверь, было невозможно. Окончательно уяснив себе это, Яцек ещё раз глянул на тихое озерко, сплошь покрытое цветами калюжницы, и, вздохнув, направился к ручью.
Вскоре донеслось тихое журчание воды, и охотник, затаив дыхание, начал осторожно подкрадываться. Однако и тут его старания оказались напрасными. Больше того, когда Яцек вышел на самый берег, он сразу натолкнулся на недогрызенную бобром молодую осину. Походило на то, что зверя недавно спугнули и он где-то притаился.
Какое-то время Яцек растерянно стоял на месте, и вдруг настороженное ухо охотника уловило знакомый плеск. Скочеляс спрятался за дерево и почти сразу увидал звериную голову. Бобр плыл по течению и быстро приближался. Яцек перехватил лук, наложил стрелу и, удачно выбрав момент, когда голова зверя немного приподнялась над поверхностью воды, спустил тетиву.
На этот раз удача улыбнулась охотнику. Подстреленный бобер забился, поднимая брызги, а потом затих, перевернулся животом вверх и поплыл дальше, пуская вокруг себя кровавую пену. Яцек, обгоняя течение, помчался берегом, подхватил по дороге толстую ветку и, найдя узкое место, довольно легко выловил добычу.
Достав стрелу, попавшую бобру в шею, Яцек положил её назад в сагайдак, и в этот момент отчётливо услыхал стон. Скочеляс насторожился и закрутил головой. Стон почти сразу повторился. Тогда Яцек поспешно кинул тушку на землю и, на всякий случай пригибаясь и прячась за стволами, осторожно пошёл на звук.
Человека, сидевшего под деревом, Скочеляс заметил довольно быстро. Какое-то время он приглядывался к нему и, только убедившись, что никакой опасности нет, подошёл ближе. Одежда неизвестного была несколько необычной, но больше всего Скочеляса привлекала большая кожаная сумка, висевшая на плече у незнакомца.
Скочеляс подошёл вплотную, увидел на голове у человека засохший кровяной струп и осторожно тряхнул раненого за плечо.
– Е-ей…
К большому удивлению Яцека, человек, вроде бывший без сознания, открыл глаза и довольно отчётливо спросил:
– Ты… кто?
– Я? – удивился Яцек. – Я бобровник у пана Вилька из Заставцев…
– А-а-а… Охотник… – догадался человек и, сбиваясь, с длинными паузами, заговорил: – А я купец… Разбойники напали на нас… Ограбили… Помоги мне… Я отблагодарю…
Он произносил слова несколько странно, но всё было понятно, и Яцек задумался. Судя по всему, человек говорил правду, а принимая во внимание размер его сумки, можно было надеяться, что и награда будет щедрой. Скочеляс быстренько побежал на берег, подхватил добытого бобра, закинул лук за спину и, возвратившись, помог человеку подняться.
Сначала Яцек привёл раненого к своему лесному бурдею[76] и там прежде всего протёр рану купца тряпкой, на которую предварительно пустил бобровую струю. Потом, не жалея, дал ему напиться вдоволь медового узвару и, уложив на подстилку, принялся наскоро свежевать добычу. Однако не успел ещё Яцек очистить только что снятую бобровую шкуру, как, к его удивлению, купец самостоятельно вышел из бурдея и первым делом спросил:
– Послушай, бобровник… А до твоего пана далеко идти?
– Ну если пойти сейчас, то до захода солнца, пожалуй, можно успеть… – почесав в затылке, прикинул Яцек.
Наверное медовый узвар настолько хорошо подействовал, что купец даже начал подгонять Скочеляса:
– Тогда давай… Пошли… Я могу…
Оставаться на ночь в бурдее Скочеляс никоим образом не собирался и потому сразу согласился идти. Прихватив свежеснятую шкуру, Яцек быстро собрался, и они пошли лесом. Сначала раненый пытался идти самостоятельно, но быстро потеряв силы, сначала опёрся на плечо Скочеляса, а потом Яцеку вообще пришлось тянуть купца почти на себе.
И всё же, несмотря на такое замедление хода, они добрались до двора пана Вилька, как и предполагал Скочеляс, где-то перед вечером. Там, когда бобровник завёл купца в панскую светлицу, тот бессильно опустился на лавку. Тут было тепло, пылал сложенный из глины очаг, дым от которого пеленою висел под потолком и медленно, словно нехотя, выходил наружу через волоковые оконца.
Вероятно, одновременно таким способом коптилось мясо, так как в комнате хорошо ощущался соблазнительный запах свежего окорока. Сам же пан Вильк из Заставцев, совсем ещё молодой крепыш, который, правда, своим видом мало чем отличался от охотника, сидя за столом в одной полотняной сорочке с кружкой в руке, какое-то время присматривался к нежданному гостю, а потом сердито рявкнул на Скочеляса:
– Ты кого приволок?.. Что то за волоцюга[77], а?
Впрочем, приглядевшись и оценив порванную, но всё равно добротную одежду пришельца, и заодно приметив в руках Яцека свежую бобровую шкуру, Вильк сразу поменял тон и довольно спокойно спросил:
– Это кто с тобой?
– Да я его в лесу нашёл, купец какой-то. Говорит, его на шляху ограбили. Раненый… Обещал награду…
Пан Вильк отодвинул кружку и внимательнее посмотрел на лицо человека, который косо сидел на лавке, бессильно раскинув ноги по полу и опершись спиною о стенку.
– Так… – Вильк зачем-то склонил голову набок и, намеренно повышая голос, почти выкрикнул: – Эй, купец, тебя как зовут?
Человек, видимо уже вконец вымотавшийся за дорогу, чуть приподнял голову и еле слышно отозвался:
– Мозель я… Из Любека…
– Из Любека?.. Ганза?.. – сразу оживился Вильк. – И чего ты хочешь?
– Умоляю, пан, отвезите меня в Краков… Как прибудем туда, я щедро отблагодарю… Я заплачу вам…
– Заплатишь?.. Тебя ж ограбили… – усомнился Вильк и жадно посмотрел на кожаную сумку, которую купец даже не попытался снять с плеча. – А ну, что там у тебя в твоей торбе?
– А… То не то… – Мозель через силу перетянул сумку себе на колени, расстегнул ремешок и, откинув клапан, показал содержимое.
От любопытства Вильк вместе с Яцеком даже подвинулись вперёд и с огромным разочарованием убедились, что сумка по завязку набита лесными орехами. Не иначе как бедолага, не зная сколько ему придётся брести по лесу, набрал их про запас…
Под арену был отведён широкий, слегка вытянутый двор, образованный тремя большими домами, выстроенными в виде огромной буквы «П». С открытой стороны между двух парадных трибун был обустроен парадный въезд и почти оттуда же начинался построенный по новым турнирным требованиям невысокий, на половину человеческого роста разделительный забор, протянувшийся через весь двор.
Что касается зрителей, то для них, кроме двух трибун возле ворот, вдоль всех трёх зданий соорудили двухъярусные, очень удобные галереи с лавками, а для самого короля и его приближённых против центра короткого дома, который и замыкал букву «П», устроили отдельную, обтянутую шёлком и бархатом просторную ложу.
Сам плац загодя тщательно присыпали тонким слоем песка и сейчас, пока ещё не изрытый до твёрдого грунта копытами рыцарских жеребцов, он выглядел как ровное жёлтое поле. Что же до трибун, то они уже были забиты битком, поражая буйством разноцветья, блеском драгоценностей и изысканностью одеяний.
Зрители волновались, ожидая появления самого короля, и наконец он, в убранстве для малого выхода, появился в ложе. Солнечные лучи, легко проникавшие на плац через промежуток между домами, так и заиграли на его короне, стоило лишь королю, усаживаясь в бархатное кресло, немного наклонить голову. Рядом с ним села королева, а доверенная свита полукругом встала сзади, образовав яркое обрамление властной четы.
Едва только король занял своё место, как ряд трубачей, выстроившихся у самого барьера, протрубил «привет», а все зрители, встав, дружно, разом поклонились в сторону королевской ложи. Потом, когда трубы смолкли, по команде герольдмейстера[78] вдоль трибун почти побежал юный персевант[79] звонко оповещая всех о начале рыцарского парада.
Подавляющее большинство женских глаз сразу же начали следить за юношей, одетым в вызолоченный кафтан и белые обтягивающие штаны, которые ещё больше подчёркивали стройность ног. На плече персеванта, по обычаю, был косо накинутый табар[80], где на красном поле выделялись белые орлы. Густые русые волосы юноши стягивала шёлковая сетка, украшенная янтарём, а сам он был просто воплощением молодости.
Едва только легконогий персевант миновал украшенные цветами ворота, как герольдмейстер встал и, заметив, что король кивнул, взмахнул рукой. По этой команде трубачи снова громко заиграли и на арену неторопливо один за другим начали выезжать рыцари, принимающие участие в турнире, и эта кавалькада блеском доспехов и роскошью плюмажей[81] затмила всё.
Рыцарь Шомоши ехал в этой кавалькаде четвёртым, сразу же за тройкой крестоносцев, которую возглавлял сам комтур. О том, что победа на турнире крайне желательна, Ференцу весьма прозрачно намекнул сам коронный гетман. Однако Шомоши догадывался, почему его первым выпустили на поединок с крестоносцем. По крайней мере, в случае поражения, можно будет утверждать, что проиграл не поляк.
Продефилировав вдоль низкого барьера, делившего арену пополам, кавалькада повернула в обратную сторону, и именно в этот момент Шомоши увидел Беату. Женщина сидела на трибуне в первом ряду, и Шомоши мог поклясться, что она смотрит на него. Ференц повернул голову и, поймав её взгляд, усмехнулся одними глазами. Теперь рыцарь точно знал, зачем ему нужна только победа.
Вообще-то в последнее время Ференц не признавался даже самому себе, что с того самого мгновения, когда он наконец разглядел Беату в коридоре замка, женщина удивительным образом всё время возникала в его мыслях. Шомоши пытался гнать от себя приятное воспоминание, повторяя, что это ни к чему хорошему не приведёт, но всё равно разум упрямо подсказывал ему, что всё возможно.
Тем временем рыцарский парад закончился, и герольдмейстер снова махнул рукой, теперь уже в сторону герольда, который только и ждал знака, чтобы сразу выступить вперёд и провозгласить.
– На поединок выходят… – во всю мощь выкрикнул глашатай, сразу наполнив двор громким эхом, – комтур Отто фон Кирхгейм и славный рыцарь Шомоши Ференц!!!
Услыхав своё имя, Шомоши тронул шпорами конский бок и не спеша поехал вдоль трибун. Одновременно с ним, ему навстречу, только уже с другой стороны барьера, тронулся крестоносец. Упрямо наклонённую голову комтура защищал рогатый шлем топхельм[82], похожий на перевёрнутое ведро. Белая туника с красными крестами на спине и груди скрывала доспехи, и только вызолоченный шамфрон[83], украшавший лошадиную голову, указывал на высокий ранг именитого всадника.
Конь комтура, защищённый кольчугой, неспешно перешёл на тяжёлую рысь и вот-вот должен был пойти вскачь, но Шомоши, отлично понимая, что в стычке с таким грозным противником победу может дать только скорость, сразу погнал своего венгерца галопом. Ференц знал, что ударить копьём надо точно посередине «четырёх гвоздей»[84] и потому, глядя на варяжский щит крестоносца, ещё издали начал целиться.
Зрители на трибунах замерли, и только нарастающий звук конского скока был слышен на притихшем дворе. Ожидаемое столкновение произошло почти посередине. Оба пустотелых турнирных копья у противников с треском сломались, но удар Шомоши был точнее, и комтур крестоносцев, не удержавшись в седле, грохнулся на взрытый конскими копытами песок.
В момент удара испанский щит Ференца, плотно прижатый к телу, уцелел, а вот высокая задняя лука больно ударила Шомоши по спине. Однако только благодаря ей рыцарь смог удержаться в седле, в то время как его побеждённый противник, сбитый мощным ударом на землю, лежал пластом и тщетно пытался подняться, ожидая помощи.
Уяснив это, Шомоши отшвырнул обломок копья, поднял решетчатое забрало турнирного шлема и, заставив коня идти «гишпанским шагом»[85], подъехал к королевской ложе. Там рыцарь, как и принято, почтительно приветствовал владетельную чету, а его заранее обученный гнедой венгерец тоже сделал поклон. Это выглядело так необычно и так к месту, что зрители на трибунах пришли в восторг.
Под их одобрительные выкрики Шомоши начал триумфальный круг, но, проехав едва треть турнирной дорожки, натянул повод. Увидев это, пани Беата, поскольку именно возле неё остановился Шомоши, встала, а победитель турнира, тяжеловато, превозмогая боль в спине, слез с седла и, подойдя почти вплотную к ограждению трибуны, упал на колено.
Мгновенно сообразив, что будет дальше, зрители и так во все глаза смотревшие на Шомоши, вдобавок прекратили выкрики и каждый из них старался услышать слова рыцаря, благодаря чему воцарилась почти полная тишина, в которой чётко прозвучало:
– Присягаю вернуться в Сосновец и над дверью повесить пергамент, на котором монах-краснописец сообщит всем, что пани Беата – красивейшая в королевстве, а того, кто выскажет сомнение, я, рыцарь Шомоши Ференц, вызываю на поединок!
Такое прилюдное признание не на шутку взволновало Беату. Её щёки от смущения и нежданной радости заметно порозовели, однако, понимая, что отныне она дама сердца такого славного рыцаря, женщина с восхищением посмотрела на Ференца и под восторженный гул трибун благодарно наклонила голову…
Скочеляс и Мозель ехали вдвоём на одной лошади, сидя как в седле на длинном мешке, туго набитом соломой. Причём Яцек держал повод, а Мозель сидел сзади, крепко уцепившись обеими руками за очкур[86], которым был подпоясан бобровник. Сам же пан Вильк из Заставцев, гарцуя впереди, дерзко красовался, вызывающе положив левую ладонь на серебряную рукоять дорогой, ещё дедовой сабли.
Что же касалось какого-то другого оружия, то у пана Вилька кроме сабли был только бриганд[87] синего сукна, испещрённый металлическими головками, крепившими спрятанную под ткань броню, и стальной шлем-мисюрка с кольчужною бармицей[88], защищавшей шею. Поручей и поножей[89] пан Вильк вообще не имел, и каждый встречный мог безошибочно определить, что всадник хотя и шляхтич, но только вконец обедневший.
Коня, правда, пан Вильк из Заставцев имел молодого и горячего, однако без кольчуги и даже без какой-нибудь попоны. Что ж до седла, то оно было старое, вытертое и уж никак не рыцарское. Однако, пока путники пробирались лесными дебрями, всё это не имело значения, а вот по мере приближения к Кракову собственный неприглядный вид всё больше задевал за живое пана Вилька. В конце концов, внушив себе, что в его спутников на краковских улицах будут тыкать пальцами, шляхтич углядел в предместье, жавшемся к столичным стенам, какую-то придорожную корчму и, не желая позориться, предложил Мозелю:
– Давайте тут остановимся. Считай, это уже Краков, – и в подтверждение своих слов пан Вильк показал на недалёкую въездную башню, возле которой теснились селянские возы.
Откровенно говоря, Теодор Мозель тоже не имел желания быть посмешищем, и потому он охотно сполз с мешка на землю и, разминая затёкшие от неудобной езды ноги, предложил:
– Тогда что… Пошли, поедим.
Народу в корчме было полным-полно, и пану Вильку с его спутниками пришлось садиться за общий стол, где на шляхтича сразу положил глаз какой-то пьянчужка из тех, что всегда ищут возможность выпить задаром. И точно, забулдыга быстренько придвинулся ближе и льстиво заглянул в глаза молодому шляхтичу.
– Я вижу, в Краков приехал славный рыцарь, жалко только, что пан шляхтич немного опоздал…
– А что случилось? – сразу попался на крючок Вильк.
– Два дня тому у нас был рыцарский турнир в присутствии самого ясновельможного пана круля.
Пьянчужка умолк и выжидательно уставился на шляхтича, а тот, услыхав такую новость, забыл про всё на свете и заорал на прислугу так грозно, что на столе сразу появился целый жбан вина, яичница и жареное, приправленное луком мясо. Пан Вильк сам, без задержки, налил полную кружку и, подвигая её ближе к пройдохе, попросил:
– Расскажи, как оно было?..
Пьянчужку не надо было уговаривать. Он жадно отхлебнул из кружки и тут же начал:
– Должен сказать, ясновельможный пан рыцарь, – при этих льстивых словах пройдохи Вильк напыжился и гордо посмотрел по сторонам, – что на первый бой вышли комтур крестоносцев и рыцарь из свиты коронного гетмана.
Услыхав про крестоносцев, Мозель, который до той поры скептически посматривал на пьянчужку, встрепенулся и спросил:
– А имена рыцарей тебе известны?
– А как же! – хитрец снова потянулся за кружкой и, только основательно глотнув, закончил: – Комтур Отто фон Кирхгейм и рыцарь Шомоши Ференц.
– И кто победил? – Вилька аж затрясло от нетерпения.
– Ясно кто, – хмыкнул пройдоха. – У пана коронного гетмана слабых рыцарей нет. А вот потом пан Шомоши сотворил такое, что не только он, но и его конь поклонился королевской семье, а после прилюдно объявил, что пани Беата из Сосновцев – самая красивая женщина королевства…
– А это и вправду так? – заинтересовался Вильк.
– Не знаю, – пьянчужка равнодушно пожал плечами. – Я там не был…
И тут вдруг вмешался Мозель, неожиданно властно кинув:
– А не был, так и нечего тут рассиживаться… П-шёл отсюда!
Пьянчужка мгновенно сник и, хлебнув всё, что ещё оставалось в кружке, подался прочь, а вот пан Вильк, который не ожидал ничего подобного, возмутился и даже раскрыл было рот, чтоб приструнить Мозеля, но купец, не дав ему ничего сказать, жёстко заговорил сам:
– Зачем пану слушать какого-то голодранца? Разве пан Вильк не понимает, что тому пройдохе известно только то, что знают все, а болтает он затем, чтоб его угостили на дурняк?
– А я слушаю, кого хочу! – сердито стукнул кулаком по столу Вильк. – Потому что плачу здесь я, а тебе, купец, кстати, пора рассчитаться со мной, потому как мы уже в Кракове.
– Согласен, – усмехнулся Мозель и достал из-под полы своего драного бострога золотой.
Увидев монету, Вильк, и не подозревавший, что у ограбленного купца могут быть такие деньги, ошарашенно глянул на своего бобровника, который от неожиданности разинул рот, да так и сидел, не в силах произнести хоть слово. А Мозель, убедившись, что произвёл должное впечатление, положил монету перед Яцеком и сказал:
– Это тебе.
Челюсть у обалдевшего бобровника совсем отвисла и начала смешно дёргаться, а вот пан Вильк обиженно надул губы и только собрался что-то сказать, как Мозель ошеломил и его, с улыбкой выложив перед шляхтичем сразу два золотых.
– А это вам, пане Вильк.
Теперь уже и у шляхтича вид был почти такой же, как у бобровника, но он взял себя в руки и, вперив взгляд в лицо Мозеля, сдавленно спросил:
– Вы кто… пане Мозель?
– Я? – купец усмехнулся. – Я один из тех, кто при желании может зайти и к королю, и к герцогу.
Говоря так, он нисколечко не преувеличивал. Его доходы и положение в Ганзе давали ему право не только так думать, но при необходимости и делать. И, вероятно, именно это подсознательно понял Вильк, пролепетав:
– Но я ж… Я простой рыцарь…
– Именно так, – согласился Мозель. – Рыцарь. И, кстати, один рыцарский поступок вы уже совершили. То, что пан шляхтич спас меня, – не просто поступок, а услуга, и не кому-нибудь, а самому императору.
– Присягаю, – сглотнул слюну Вильк. – Если надо, я сделаю то же ещё раз.
Почувствовав, что шляхтич говорит от сердца, Мозель на миг задумался, а потом снова полез за пазуху, достал на этот раз перстень с необычно-жёлтым камнем, и, тоже положив его рядом с монетами, тихо, со значением, сказал:
– Я знаю, пан Вильк, что такое слово рыцаря. И потому прошу принять от меня этот подарок. В перстень вправлен не простой, а «лунный камень». Носите его всегда, и он принесёт вам удачу. Что касается денег, то, я думаю, их хватит на то, чтоб справить полный доспех и себе, и ему. – Мозель кивнул на безмолвного бобровника и снова усмехнулся. – Надеюсь, что именно он станет вашим слугой-оруженосцем…
На какой-то момент совсем сбитый с толку пан Вильк молча смотрел на перстень, а потом, не удержавшись, начал примерять подарок, и тут оказалось, что кольцо-держак так село на палец шляхтича, как будто оно было сделано по мерке…
Комтур Отто фон Кирхгейм страдал. Ему было больно. Падение на турнире оказалось очень уж неудачным, и теперь каждое резкое движение заставляло рыцаря, сдерживая стон, стискивать зубы. Правда лекарь, который, приходя ежедневно, старательно натирал пациента бальзамом и давал пить снадобья, уверял, что всё пройдёт без последствий.
Впрочем, дело было не только в боли, которая и правда, точно по утверждению лекаря, день за днём становилась меньше, а совершенно в другом. Как-то стараясь избежать боли и потому почти неподвижно лёжа на удобной, заботливо укрытой медвежьей шкурой постели, Отто фон Кирхгейм, неотрывно глядя на выбеленный известью деревянный потолок, вспоминал, вспоминал, вспоминал…
Так, вспоминая, рыцарь каждый раз зорко всматривался в стремительно приближающийся трёхцветный щит. Тщательно целился остриём копья в уязвимое место между «четырёх гвоздей» и, вроде бы попав точно туда, вдруг увидал трибуну, которая почему-то летела куда-то вниз, потом пошедшие в сторону конские уши, а затем сразу наступала темень…
Дальше, точно так же в который раз вспоминалось, как, придя в себя, он лежал на песке, сброшенный под конские копыта, и рядом уже нет ни щита, ни копья, а малейшее движение отдаётся болью во всём теле. А ещё позднее любая попытка подняться или желание хотя бы сесть были напрасны, заполняя сознание рыцаря страхом бессилия…
Отто фон Кирхгейм понимал: жизнь рыцаря связана с опасностью, и при определённых обстоятельствах можно в любой момент очутиться на земле, но одно дело, когда это случается в общей свалке боя или во время простой стычки, и совсем другое, когда падение есть следствие собственных неудачных действий или явного превосходства противника…
Однако даже не это больше всего мучило Отто фон Кирхгейма. Уже лёжа на постели, комтур узнал, что против него выступал не поляк, а венгерец, который по сравнению с ним был пожилым человеком. И уж совсем нестерпимым для гордости крестоносца было то, что его противник особо отличился не где-то там, а именно при Грюнвальде…
Скрип дверей заставил комтура повернуть голову. Он увидел, что в комнату входят сразу два лекаря, и вздохнул. Тем временем эскулап, что всё это время пользовал Отто фон Кирхгейма, поприветствовав рыцаря, представил своего спутника:
– Вот, пане рыцарь, как видите, я пришёл не один. Со мной вас посмотреть пришёл учёный лекарь, пан Цих, он закончил университет в Болонье…
Учёный лекарь сразу уселся на краешек комтурова ложа, ощупал со всех сторон тело рыцаря и, похоже не найдя ничего угрожающего, удовлетворенно хмыкнул. Потом, обращаясь к коллеге, спросил:
– Лекарь-банщик смотрел?
– Да, – с готовностью откликнулся тот. – Сразу после падения.
Услыхав, что раздражающее его поражение назвали простым падением, Отто фон Кирхгейм недовольно сморщился, и это не прошло незамеченным. Лекарь Цих внимательно посмотрел на рыцаря и поинтересовался:
– Скажите, участие в турнире – главная цель вашего приезда в Краков?
– А какое это имеет значение? – насторожился комтур.
– А то, – спокойно пояснил лекарь Цих, – что весёлость – одно из трёх условий здоровья, а я вижу, пана рыцаря что-то угнетает. Я понимаю, произошла неприятность, но если это цель не главная, то случившимся следует пренебречь. Вот, скажем, если пан рыцарь куда-нибудь торопится, а его конь захромал. Тогда надо сменить коня – и всё разрешится. То будет уже не такое важное, а просто побочное дело. Пан рыцарь понимает, о чём я?
– Да, – коротко ответил комтур.
Выходило, что лекарь предлагал ему считать поражение на турнире второстепенным делом… И вдруг он осознал, что до определённой степени это действительно так. Выражение лица комтура неуловимо сменилось, и лекарь Цих проницательно усмехнулся.
– Думаю, пан рыцарь понял меня… – И уже снова обращаясь к коллеге, закончил: – Поскольку переломов нет – продолжайте растирание, а против возможных последствий рекомендую ладанку.