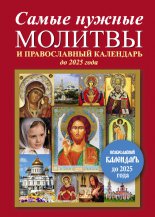Теплые вещи Аносов Саша
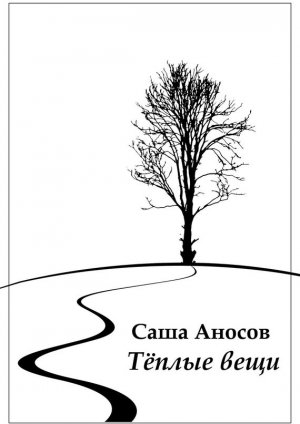
– Давай в другой раз...
Она даже не спросила: «А ты что, рисуешь?» Не заинтересовалась... Тогда вопрос: нужен ты ей или нет? А если нужен, то просто как мальчик, с которым можно «ходить»? А твои теории, твои картины? Она тебя никогда не понимала и никогда не сможет понять.
– Другого раза не будет, – сурово говорю я, поворачиваюсь и иду. И оттого, что ответ вышел таким глупым, еще хуже.
На втором уроке я достаю из готовальни циркуль и с гордо выпяченным подбородком невозмутимо перечеркиваю глубокими царапинами только что написанные инициалы. Венера Абдулина с соседнего ряда смотрит на меня с удивлением и крутит пальцем у виска. На манжете рубашки – алые пятнышки. Прекрасно.
Покуда я обживал свою трагедию, в натопленных классах сочинялась совсем другая драма. Заварили эту кашу Наташа Зосимова и Надя Перчук. Есть такие бойкие девушки, которые принимают чужие заботы близко к сердцу. То есть чувствуют чужое как общественное, а общественное – как свое личное. Из них получаются хорошие сестры милосердия, председатели месткома, депутаты, вообще руководители. В самом малом масштабе – сплетницы, но это уж по вине несчастных обстоятельств, конечно.
Недовольство ветреной Машкой Вольтовой и сочувствие влюбленному в нее Алеше Ласкеру росло давно. Казалось бы, две эти линии никак не могли соединиться: ведь если Вольтова так плоха, то нужно было во что бы то ни стало оттаскивать от нее Ласкера, не давать смотреть в ее сторону и предложить какую-то достойную замену. Например, Таню Тиханович. А что? Таня красивая, спокойная, учится на пятерки, характер у нее золотой. Уж конечно, она не меняет кавалеров каждые три месяца, как некоторые... Или вот Оля Жваро. Чем не подруга? Всем, буквально всем подруга Оля Жваро.
Но что доводы рассудка для сочувствующего сердца? Алеша Ласкер любит плохую девочку Машу Вольтову? Так пусть он ее получит – глядишь, ей это тоже пойдет на пользу.
Как в головы Наташи Зосимовой и Нади Перчук пришла мысль свести Машу и Алешу, неизвестно. Пришла – и все. Но придя однажды в их головы, эта мысль не могла оставаться бездеятельной. Она стала расти, нахлобучивать на себя подробности и в конце концов превратилась в План.
День за днем можно было видеть, как по классу от их парт расходятся караваны записочек (от последних страниц в тетрадях оставались одни корешки), на переменах во всех углах раздается жаркое шушуканье, тайна множится, тиражируется, видоизменяется. Слухи, предложения, споры были похожи на деятельных муравьев, строивших судьбу двух ни о чем не подозревавших пока людей: Марии и Алексея.
Но вот пришел день, когда все нити заговора были сплетены, и оставалось только вывести на сцену главных исполнителей.
Не стану врать, я не присутствовал при разъяснении ролей. Но сдается мне, дело было устроено примерно так. Незадолго до дня рождения Васи Вишни, куда пригласили весь класс, Наташа Зосимова подошла к Алеше Ласкеру, ухватила его за пуговку пиджака и сказала:
– Лешечка, слушай... Тут вот какое дело... Давай отойдем в сторонку...
Лешечка приготовился было к очередной просьбе помочь с заданием по физике (таких просьб было много, и, надо признать, отказа никто не слышал). Но Наташа продолжала:
– Тебе ведь Машка Вольтова нравится. Это всем известно...
– Да я ко всем, в общем, отношусь хорошо, Наташа, – отвечал Алеша, слегка бледнея.
– Брось, Леша, это ни для кого не секрет. Мы же не маленькие, правда? И ты должен ей как-то рассказать о своих... о своем хорошем отношении. Все-таки она девушка.
– Да зачем, Наташ? С чего ты решила, что ей это нужно?
Внимательный человек расслышал бы в этом вопросе столько же надежды, сколько неверия. А Зосимова – чрезвычайно внимательный человек.
– От такого парня, как ты, это для любой будет приятно, поверь.
Тут Наташа приобняла его по-дружески, как старшая сестра (ведь девочки взрослеют быстрее).
– Не знаю, Наташа, это как-то... – ответил он, думая, как бы необидно высвободиться из этих объятий.
– Ты же мужчина, – она прижала его посильнее. – Ты настоящий мужчина, и тебе надо это сделать. Если ты ее любишь и никогда не признаешься, потом будешь жалеть, осуждать себя... А зачем?
Смутило ли Алешу Ласкера такое деятельное участие одноклассницы в его сердечной жизни? Может быть, смутило, а может и не очень, мы никогда об этом не говорили. Но Алеша Ласкер был умен, а значит, не мог не задуматься о словах Наташи. Если она так уверенно предлагает ему объясниться с Машей, это неспроста. Должно быть, она что-то знает, то есть были какие-то знаки с Машиной стороны... Может, она намекнула Наташе, что вот, дескать, Ласкер такой робкий – до пенсии от него никаких признаний не дождешься. А может... Наверное, он мучался, сомневался, вспыхивал, пытался принять правильное решение. До дня рождения оставалась неделя, и в течение этой недели Алеша Ласкер осторожно поглядывал на Машу, старался сохранять обычное доброжелательное спокойствие, и думал, думал...
Впрочем, в этой части интрига была довольно проста. Алеша влюблен, втайне давно мечтает встречаться с Вольтовой, так что склонить его к объяснению было довольно легко. Но Маша... Если бы она была расположена встречаться с лучшим учеником класса-школы-района, они бы уже встречались давным-давно. В свои пятнадцать лет Вольтова обладала цепким женским умом, и нет ни малейшего сомнения, что она бы с лекостью устроила этот роман. Однако она встречалась то с Плеченковым, то с Нарымовым, то (говорят) с каким-то курсантом танкового училища, а с Алешей Ласкером была всего лишь приветлива – и только. Она знала о его чувствах, но не предприняла ничего. Но так было до той поры, пока личная жизнь Марии Вольтовой была личным делом Марии Вольтовой.
Теперь пришло другое время – вот этого она пока не знала. Она не знала, какая огромная, неодолимая сила – общественное давление. Никто из одноклассников по отдельности не имел власти приказать ей встречаться с мальчиком, с которым она встречаться не собиралась. Подойди кто-то к Маше на перемене в столовой и скажи: «Послушай, Мария, не отталкивала бы ты Ласкера. Он – хороший человек, надежный товарищ и собой недурен», – она бы просто повернулась к такому человеку своей гордой спиной и перестала его замечать.
Но сейчас положение было куда сложнее. Все девочки недолюбливали Машу, а их было большинство. Мальчики могли защитить Вольтову от чего угодно, только не от сплоченной холодности одноклассниц. Месяц перешептываний не прошел даром. В классе постоянно судили и рядили о том, что Вольтова хищница, что она злая, жестокая, гордая, равнодушная, вообще бездушная, что из-за нее страдают такие хорошие ребята... Дай она Алеше Ласкеру от ворот поворот – и эти обвинения затвердеют навсегда, поднимутся вокруг нее ледяной стеной общей неприязни. А до последнего звонка – полтора года.
Уверен совершенно, что с Машей разговаривал не один человек и не один раз. Какие говорились слова, какие приводились аргументы? Не знаю. Ясно одно – заносчивой красавице Вольтовой дали понять: она может рассчитывать на доброе отношение коллектива, только если примет правильное решение.
Третьего декабря в субботу весь класс был приглашен на день рождения Васи Вишни. Вася жил в девятиэтажке с лифтом на улице Зари, у самого леса. Родителей Васи дома не было. Начиналась такая пора в жизни, когда справлять дни рождения с родителями было уже неприлично. В большой комнате составились три стола, накрытые белыми потрескивающими скатертями. Нарядные девочки хлопотали, уставляя стол пиалами с салатами, с крохотными маринованными огурчиками, банками шпрот (таинственные маслянистые проруби, по-рембрандтовски золотистые бока рыбок). Кроме привычных детских бутылок «Буратино» и «Байкала» высились две бутыли с «Советским шампанским», предмет одобрительных шуточек мужской части компании.
Девочки с подвитыми волосами, накрашенными губами и блестящими глазами... Стекла ритмично вздрагивают в такт пластинке «Тич-ин», и некоторые девчонки по дороги с кухни уже нетерпеливо подтанцовывают.
Мы накануне в очередной раз поссорились с Кохановской, и оттого каждый из нас подчеркнуто весел и беззаботен.
За столом было бы невыносимо скучно, если бы не музыка, но потом столы отодвигают к стенам, гасят свет и начинаются танцы при свечах. Андрей Букин отзывает меня в сторонку и говорит, что у них есть «пузырь рябины на коньяке». Сделав глоток, я чувствую, как мгновенно разбегается по мне ароматный пожар.
Приглашаю на медленный танец Марину, во время танца с интересом вдыхаю запах ее рыжих волос. «Мне нравится летняя музыка зимой». – «Когда так танцуешь – всегда лето»... Алеша Ласкер танцует со Светой Пряниковой. Кавалеров слишком мало, поэтому большинство девчонок требует быстрый танец.
Потом я иду на кухню – хочется побыть одному. Не оставаться одному, а дать кому-нибудь повод спросить: «А чего ты тут один? Праздник, надо веселиться! Тебе грустно?» Тут бы я мужественно показал, что имеются причины, и не каждый может себе позволить хихикать и скакать до упаду. Но никто не идет на кухню, и с каждой минутой мне делается все горше и лучше.
Через стеклянную дверь я вижу, как из темноты выныривают Алеша с Машей. Видя, что кухня занята, они закрываются в маленькой комнате. Что он ей говорит? Как она ему отвечает? И вообще, как странно, что у отличников бывают какие-то тайные желания и печали...
От легкого пинка дверь распахивается, и на кухню втанцовывает Кохановская. Хотя я на нее дуюсь, не могу не признать, что она очень нарядна и хороша собой. Между прочим, наверняка одна из причин ее нарядности – я. В руках у Лены стопка грязных тарелок, увенчанная парой хрустальных фужеров. Молча уступаю ей место рядом с кухонным столом. Из комнаты несется «Абба». Лена хочет что-то сказать, смотрит на меня, ставя посуду на стол. Но тут один из фужеров соскальзывает и разлетается под ногами на звонкие ноты и лепестки. Вместо того чтобы воспользоваться случаем и заговорить, я стремительно ухожу с кухни. Нехорошо... Просто нехорошо. Но какое-то непреодолимое упрямство заставляет меня совершать одну ошибку за другой.
Начинается очередной медленный танец, мы танцуем с Верой Лощининой, и обнимая ее, я чувствую себя так, будто ворую у всех на виду.
Зажигается верхний свет, мальчики опять составляют столы, девочки с разгоряченными лицами начинают накрывать к чаю. Вася и Андрей изображают из себя пьяных. Появляются Алеша Ласкер и Маша. Алеша счастливо улыбается и держит Машу за руку. Маша смотрит приветливо и спокойно. Все взоры обращены к ним. Олег даже поднимается с дивана и уступает им место. Они чинно усаживаются и сидят молча. Пара смущенно излучает свет и гармонию. Наташа Зосимова в пышном голубом платье похожа на фею-крестную.
Она наливает в чайную чашку шампанского и говорит:
– Предлагаю выпить за любовь!
– Отличный тост!
– За любовь!
– За всех влюбленных!
Маша немного опускает голову.
– Гип-гип-уга! – раздался бодрый голос Лены Кохановской, вернувшейся с кухни.
«Пойду-ка я отсюда», – думаю я и иду одеваться в коридор. И хотя Лена не сказала ничего ужасного, ее возглас мне кажется верхом пошлости.
Стараясь не привлекать внимания, я одеваюсь, открываю дверь, кричу: «Всем спасибо! Пока! С днем рожденья!» – и, не дожидаясь ответа, быстро спускаюсь по лестнице.
О едкая радость одиночества, родная моя дорога, бегущая вдаль ото всех на свете! Уходить – вот удача запутавшегося человека. Чем дальше я ухожу от девятиэтажки, где веселятся без меня мои одноклассники, тем полнее дышит моя душа, тем печальней моя свобода.
Все, хватит, с любовью пора заканчивать: быть уязвимым мне противопоказано. Зависеть от другого – невыносимая глупость! Хороший ветер на пустых улицах, ветер с востока, из безлюдных далей нескончаемой зимы. Ночь нахлобучена на город черной шапкой.
– Что-то ты рано, – говорит мама, открывая дверь. – С кем поссорился?
– Ни с кем я не ссорился.
– Вижу по глазам.
– Ну раз видишь, не о чем и говорить.
Закрываюсь в своей комнате и долго сижу над восьмушкой листа, пытаясь нарисовать свое последнее желание: по ступенькам лестницы, скрывающейся в небе, поднимается бородатый отщепенец и машет кому-то на прощание рукой.
21
Оставалось ждать, когда любовь прекратится. Каждое утро я просыпался и прислушивался к себе. Иногда спросонок несколько минут казалось, что отпустило, и теперь не имеет никакого значения, есть на свете Кохановская или ее не существует.
Но стоило сну истончиться и раствориться в подступающей бодрости, и все снова оказывалось на прежних местах. Собираясь в школу, я собирался к ней, сидя за партой, я старался не посмотреть на нее, а значит щекой, спиной, слухом напряженно следил, где она сейчас находится. Не заговаривать, не проходить близко, не прикасаться к тому, к чему прикасалась она – вот как необходима она была для меня теперь. Она была пароль от огромного мира, в котором я жил, пока был свободен. Этот пароль я запретил себе произносить, а потому и мир был для меня закрыт.
Свобода опять возвращалась только во сне. Но даже во сне я хотел и не давал себе видеть ее. Поэтому теперь в видениях мне открывался совсем другой мир: я посещал страны, которых нет, блуждал по зыбко светящимся подземельям, сплавлялся по рекам, петляющим между стеклянных гор.
Кофе с лимоном на обед и на ужин, потеря аппетита – мне нравилось набирать невесомость.
Тем временем гуашь перестала сопротивляться, и картинки на бумаге часто делались похожи на те, которые я видел у Вялкина. Только вот неземное свечение охры, малахитовые крепости и башни из краплака выглядели сейчас слишком умиротворенно. Пространство благостно молчало, а мне хотелось выть, крушить, летать по своему аду с недозволенной скоростью.
Наступил декабрь. К моему угрюмому молчанию давно привыкли, да и сам я уже не ждал никаких расспросов. Вокруг зияла любезная и обжитая немота. Единственный, с кем я мог и хотел разговаривать, был Вялкин. Каждый раз, когда случался разговор в его маленькой каморке, мой ум делал шаг в неожиданную сторону и немного оживал, оттаивал от любовной заморозки.
О чем только мы ни говорили! Как, например, ухитряется молекула, похожая на винтовую лестницу, разорваться пополам, а потом в кромешном тумане найти все недостающие ступеньки для нового витка? Может ли нейтрино быть галактикой или даже вселенной? Или вот черные дыры – может, это зов в иную реальность, затягивающий в себя звездную пыль, как воронка в ванной? Что бы увидели жители нашей планеты, если бы сюда явилось существо из четырехмерного пространства? Слово «пространство» завораживало – оно было не пустота, не ничто, а что-то вроде зала, где не видно хозяина. То ли он вышел, то ли спрятался, то ли он этот самый зал и есть.
Как обычно, я постучался к Вялкину в четверг. Было слишком холодно даже для декабрьского Тайгуля, и, танцуя зубами, я твердил: «Открой, будь на месте, открой, будь на месте». Дверь приоткрылась, сквозь узкую щелку на меня тревожно глянул карий влажный глаз. «Вот носит же нелегкая в экий мороз», – сказала щель. Довольное запахами тепло обвалилось на меня. На диване показался Клепин. За время, пока мы не виделись, его рыжеватая борода стала велика и окладиста, как у старообрядца. На коленях у Сергея был раскрыт альбом с фотографиями. Пачка фотографий лежала также рядом в прозрачном пакете.
– А, Михась, – сказал Клепин с невозмутимой насмешкой. – Вовремя, вовремя. Гляди: такому в школе не научат! Сейчас у тебя откроется новая карма.
– Надо бы старую прикрыть... А то сквозняк... насморк...
Они не удостоили меня ответом.
– Я считаю, полсотни за такой альбом – не деньги, – вальяжно бросил Клепин.
– Сережа, с ума не сходи. За такие деньги, извиняюсь, можно оригинал купить... – потом, вспомнив обо мне, Вялкин ногой подвинул ко мне табурет. – Садись, неровен час упадешь. Смотри в оба.
Клепин вынул из пакета стопку карточек и протянул мне. Фотографии были блеклые, с выгоревшими, перекошенными цветами. На первом снимке я увидел женщину, написанную маслом. Женщина была ведьма, не злая, не добрая, а отрешенная, погруженная в глубочайшее созерцание. Все тело женщины было свито, как кокон, из гибких лунных отсветов, из переливающихся зеленоватых волн. В распущенные волосы вплетены нежные ночные молнии, порывы ветра, шепоты нездешней весны. И вся эта ведьма готова была медленно закрутиться гибким смерчем и исчезнуть, но только этот взгляд... Этот пустынный чистый взгляд – он бы остался и морочил, мучил меня до конца дней.
Я смотрел на фотографию не отрываясь и не решался перейти к следующей.
– Кто это?
– Смотри, смотри, – они глядели на меня с торжествующим удовольствием, словно мое изумление подтверждало победу и правоту только одного из них.
Как это странно – видеть свои предчувствия и еще не оформившиеся желания наяву. Пустынные, мерцающие отсветами пейзажи, люди с больными от бессоницы всезнающими глазами, ночные духи, качающиеся в болотной дымке, скалящиеся сумасшедшие паяцы, мускулистые облачные тролли, голые королевы в праздничном аду – все фотографии были пригласительными билетами на разные этажи тайной, где-то рядом протекающей жизни. В нижнем правом углу на одной из фотографий была написана буква «В», похожая на раздувшиеся от ветра паруса, перечеркнутая буквой «Г», чья перекладина тянулась и утончалась, точно улица.
– Вот. Если хочешь увидеть ныне живущего гения, пожалуйста. Он перед тобой.
– Кто это? – повторил я.
– Валерий Горнилов. Художник-мистик, – ответил наконец Вялкин, а потом зачем-то добавил: – Мистик-дристик. Поэт, музыкант, что еще?
– Слушай, точно, даже на гармошке человек играет – а получается полный астрал... Как на картинах, – со смешком добавил Клепин.
Впрочем, было видно, что Горнилов – несомненный авторитет для двух этих очень разных и почти во всем несогласных друг с другом художников. А еще стало понятно, что многие картины самого Вялкина были попыткой переосмыслить то, что он видел у Горнилова, точно так же, как мои картины были попытками перенять что-то у Вялкина.
– А ты с ним знаком? – спросил я.
– Да нет, покуда как-то не пришлось. Сережа вон к нему ездил. И фотографии – оттуда.
Невозможно было усидеть на месте. К тому же между Вялкиным и Клепиным возобновился торг насчет фотографий. Пытаясь не выпустить из себя пойманного джинна, я вышел на заснеженную улицу Ильича.
Что это было? Что я увидел? Фантастические образы? Нет, они не имели ничего общего с фантастикой, с инопланетянами, пришельцами из будущего. Черти, демоны, вурдалаки, сказочная нечисть? Нет, нет... Это не сказка. Все эти тени – настоящие, живые. Они мрачны, грозны, веселы, и это всегда рядом. И сам Горнилов рядом – до Сверловска чуть больше ста километров.
Вдруг стало казаться, что у меня целая армия незримых светящихся сторонников. Тайна делала меня сильным: потому что кто знает о мире духов, знает о мире в целом.
С этого дня мои рисунки стали меняться. Лица надломились, в глазах появился резкий блеск, люди взмахивали руками, точно творили заклинания, небо чернело от перепончатых крыльев. Чем мрачнее становились картины, тем легче делалось на душе: я чувствовал, что наконец попал к своим.
22
Шел урок литературы. Стелла Архиповна, наша классная, уже две недели проводила очередной эксперимент. Суть была не в том, чтобы по-новому прочесть и понять литературное произведение, а в том, чтобы все ученики, разбившись на небольшие бригады, активнее участвовали в работе. Каждая «звездочка» готовила доклад по «Войне и миру»: кто-то докладывал об историческом фатализме, другой – про образ русского народа, третий – про Платона Каратаева. Кто не выступал с докладом, делал дополнения. Например, что Платон Каратаев – бездеятельная, вымышленная личность, а вот капитан Тушин – подлинный русский офицер, скромный сын своего великого народа. Вера Гусельникова взволнованно восклицала, что Тушин – прообраз красных командиров на Гражданской и Великой Отечественной войне. Стелла Архиповна милостиво соглашалась, как и всегда соглашалась с любой репликой, если та была достаточно идейно-звонкоголосой.
Прочтя «Войну и мир» за полгода до школьного вскрытия, я хотел спорить со всем, что говорилось в классе. Но моя обычная роль состояла в мрачном загадочном молчании, возвышавшем меня над классом, как одинокую горную вершину. А одинокие горные вершины, как всем хорошо известно, сравнительно редко поднимают руку и ввязываются в спор с жителями долин о будущем декабристе Безухове или даже о символическом образе ожившего дуба. Дался вершинам этот дуб!
С другой стороны, малейшего неосторожного кашля достаточно, чтобы вызывать сход грозной лавины, способной погрести не вовремя раскашлявшихся жителей долин с их домами, овинами, амбарами и, разумеется, коровьими загонами. А чем виноваты в кашле хозяев коровы с добрыми коровьими глазами?
Все шло чинно и без затей, пока слово не взяла «звездочка» Кохановской, а если быть еще точнее – сама Кохановская. Докладчица говорила о женских образах романа, сравнивала Наташу и Соню Ростовых. Бойко отчеканивая слова, Кохановская (в сторону которой я, разумеется, не смотрел) напомнила слова автора, что Соня со всей ее красотой осталась бесплодным пустоцветом.
Возможно, жители долин слышат слово «пустоцвет» по сто раз на дню и даже то и дело обращаются с ним к своим близким. Например: «Экий вы сегодня, Манефа Карловна, пустоцвет, прямо заглядение!», «Исидор-то наш Африканыч сыграл пустоцвета»... Но для трепетной, чуткой ко всякой фальши снежной лавины это обидное слово выстрелило, как стартовый пистолет.
С трудом сдерживая скрежет зубовный, я дождался последних слов оратора. После этого, сверля опущенным взором стол, поднял руку.
– Миша хочет что-то добавить, – услышал я Стеллу Архиповну. – Пожалуйста.
Не отрывая глаз от стола, я грохотнул стулом и начал тихим, охрипшим голосом:
– Простите, а кто решает, для чего живет человек? Кто рассудил, что только давая потомство, он обретает смысл жизни и достоинство? А его дети – через своих детей, но и те сами по себе – пустоцветы, так что ли? И все девочки, которые сейчас сидят в классе, – тоже пустоцветы, пока не выйдут замуж и не нарожают детей?
– Ты с кем споришь? – (о, как давно этот голос не обращался ко мне!) – Это Лев Николаич написал, а не я.
– Я спорю с ложной идеей. Идея не становится истиной только оттого, что ее высказал великий человек. А идея эта вздор. Из нее вытекает, что личность сама по себе ничего не стоит. Как же быть с теми гениями, у которых не было детей? Они что, тоже пустоцветы?
– Ну гении все же что-то создают, – сказала Стелла Архиповна, несколько встревоженная накалом и непривычным направлением дискуссии.
– А маленький человек? Не гений? Скромная девушка, которая не пишет стихов и картин... Что с ней делать?
– Ничего не делать, – сказала Люда Евстратова. – Поцветет и перестанет.
– Мне нравятся розы, – ответил я с таким раздражением, словно говорил не о розах, а о вирусах холеры. – А кто-нибудь ел плоды роз? А? Роза – пустоцвет? А вот иван-да-марья! Скромный лесной цветок. Да, от него не родятся ни груши, ни ананасы...
– Было бы даже странно, – вполголоса откомментировал Олег.
Раздались смешки.
– Между прочим, у цветов есть завязь, – громко заметила Надя Перчук. – Вам ботанику не преподавали, что ли?
– Надя, Надя! – укоризненно вмешалась Стелла Архиповна.
– Ну пусть тебе подарят букет завязей, как тебе это понравится! – меня обуял демон красноречия. – По-вашему, кролик ценнее Шиллера.
– Кролики пушистые и смешные, – резко ответила Кохановская. – А вот Шиллер – не знаю. Не знаю.
На уроках литературы всегда было тихо. Но сейчас то там, то здесь колыхались волны шума.
– У Толстого у самого было детей – Ясная поляна...
– И еще две неясных.
– Ну и что, все равно он самый великий дореволюционный писатель.
– Ребята, давайте по делу!
Наконец по столу резко щелкнула указка.
– Люда, Надя, Миша – все присели! – громоподобно возгласила Стелла Архиповна. – Ни слова с места. Поднимать руки!
Я вновь упрямо поднял руку. Стелла Архиповна спросила меня только потому, что никто другой руку не поднимал.
– Михаил! Только по теме и коротко.
– Мне жалко Соню. Она, красивая и незнатная, уступила жениха другой, некрасивой и богатой. Это не повод для осуждения, это повод для сострадания, которым отличаются наши великие писатели и обычные люди. За небольшим, – (тут я выдержал крохотную паузу), – исключением.
Итак, последний сугроб был напялен на одинокую печную трубу по самые брови. Лавина остановилась. В классе наступила глубокая затаенная тишина.
23
Автобус изнутри зарос инеем, стенки салона – как в карстовой пещере. На каждом повороте «гармошка» постреливает ледяными чешуйками.
«Любить – значит сходно мыслить об одном... Во всяком случае, вместе. Вместе смеяться, вместе грустить. Особенно грустить. Кто грустит – тот лучше понимает жизнь, тот мне ближе...» Автобус номер девять сворачивает у кинотеатра «Россия». Окна залиты льдами, как каток, и зеленый огонек светофора распадается на яркие колючие щепки.
«Вон та девушка у выхода... В шапке с резинкой... Глаза печальные, умные. Вот с ней было бы о чем поговорить. А эта вечно веселится, порхает на поверхности... Суета сует... Чехова проходят, Достоевского, затаптывают своими коллективными разборами. Как экскурсия по клумбе... Нет, неточно... «Не троньте музыку руками»... Как если на звездном небе надписать, как и что называется... Причем с ошибками... Любовь – это понимание, а понимание – любовь... Понимаю «Упанишады» – значит, люблю их. Люблю «Черного монаха» – значит, понимаю его. Если она не может меня понимать, то никогда меня не полюбит. Пусть найдет кого-то такого же веселого и легкомысленного. Мне нужно оставаться одному – так будет лучше для всех. Один никого не обидит, никто не обидит отшельника, просто некому обидеть. Интересно, где учат на лесников... Когда я один – не может быть зла. Значит, одиночество – благо...»
Не снимая варежки, я провожу рукой по сахарно-белому валику внизу автобусного окна. «Откуда атомы в молекулах знают, в каком порядке им собраться? Ну да, валентность... Но какая умная эта валентность! Вот кристаллы льда – вроде бы простой геометрический узор, а станешь такой рисовать – час провозишься, да и то может не получиться. Так то лед. А если хромосома? Вот кстати, интересно, если смотреть на картину под микроскопом, ведь там может миллион других картин оказаться вроде Кандинского... И как считать, художник их нарисовал, который писал главную картину, или оно само так получилось?»
Зубы немного постукивают, но ничего, ничего, скоро буду дома, согреюсь... «Да... "ткань универсума", умное тесто... Чудеса в решете. Говорят, в ходе эволюции, само... Ну ладно, само. Помнишь Жан-Жака? Вот я положу на большую палитру три кило разных красок и буду ее крутить во все стороны, из душа поливать, чтобы не сохло и смешивалось... Сколько надо крутить, чтобы "Весна" Боттичелли сама нарисовалась? Да и то – как сама? Это же я крутил, я поливал...
А если эволюция, если человек произошел от обезьяны, что же получится из человека? Кто это будет? Витя говорит про сверхсознание. Как это "сверх"? Одной мыслью охватить все энциклопедии? Или это будет даже не мысль... Не работа с информацией... А только подумаешь – и сразу мир меняется».
Выхожу на остановке у техникума и иду к дому. Дрожь охватывает меня, и уже трудно с ней совладать. Навстречу бежит собака, ей тоже холодно. Она вопросительно поднимает на меня заснеженную морду и бежит дальше.
«А ведь мир и так меняется, все время...» Я вхожу в подъезд и поднимаюсь на второй этаж. Лестничная площадка опоясана нумерованной лентой почтовых ящиков. На полу в уголке стоит консервная банка с окурками.
«Значит... Следовательно...» Я останавливаюсь, стягиваю кроличью шапку. Голове становится совсем холодно. «Тот, кто все понимает, все любит... Со всем радуется, за все печалится. От самого крошечного, до вселенной... Кто-то любит и знает все... и...»
Не могу сдвинуться с места. «Потому что... Ибо... Стало быть, ЕСТЬ БОГ!»
Вот так, в пустом подъезде у почтовых ящиков с мокрой из-под шапки головой, я поверил в Бога. И привели меня к Нему не только разговоры с Вялкиным о Большом взрыве, о бесконечности в каждой точке вселенной, о Тейяре де Шардене и Платоне, но и ежедневные попытки найти что-то столь далекое, прочное и могущественнное, чтобы в него можно было бежать от собственных чувств. И хотя Бог есть любовь, я припал к Нему, спасаясь от любви.
24
Время не остановилось, просто сменило русло и текло где-то неподалеку. Меня его течение не касалось. Я жил на отшибе, никто не был вхож в те тоскливо мерцающие края, где я бродил. Ландшафт менялся по моему усмотрению, одни обитатели сменялись другими, но столь же молчаливыми и затаенными.
Там, где вчера были бесконечные пустые поля, шевелящиеся выгоревшими ковылями, назавтра вырастали неприступные скалы, над отуманенным ущельем покачивался слабый веревочный мост. По мосту можно было перейти на тропинку, ведущую к одинокой хижине. Хижина была окружена запущенным садом, на крышу сложила ветви яблоня, а в окне горел огонек.
Если бы я только мог нарисовать то, что хотел... Я бы рисовал только ее, такую, которая подобала моей любви: все понимающую, серьезную, задумчиво глядящую мне в глаза. Но руки меня не слушались, а подсознание, чтобы возместить потери, предлагало такое богатство пейзажей, небывалых существ и красочных галактик, что я отправился в это вневременное путешествие на много-много дней.
Иногда я таскал чистые листы с папиного письменного стола и начинал маленькими ровными буквами, совсем не похожими на мой обычный почерк, какой-нибудь трактат. Удовольствие было в самой сосредоточенной отрешенности, ни один такой трактат никогда не был завершен, хотя многие занимали добрую тетрадь. Еще одна радость была – подчеркивать в книге строки, с которыми я был согласен, а потом пролистывать заново все эти места. И чем дальше я уходил от общедоступной реальности, тем больше чувствовал себя собой.
Но однажды зима прошла. Я уже был спасен и свободен, как вдруг опять вернулась тревога. Что-то должно было случиться. Тени наливались предчувствиями, солнце нетерпеливо царапалось в грязные стекла. Борзели воробьи, нахально чирикали мальчишки, которым для счастья достаточно было пойти погулять и дожидаться первого вывода во двор велосипеда. Трактаты мои становились все запутаннее, сны пестрели невнятицей, и в один прекрасный день мне захотелось поговорить о пережитой зиме, о вселенной, о Боге, о грусти.
В нашем классе училась девочка Эвелина Картузова. Странное имя, а девочка – того страннее. Она тоже держалась особняком, помалкивала. Крупная, ростом выше меня, с короткими волосами, недоверчивыми глазами, щербинкой на переднем зубе. Она не исключила себя из общества, но и своей не была: смеялась не вовремя, говорила глухо, умолкала на середине фразы, засматриваясь в окно.
Был самый конец марта. Однажды после уроков мы оказались вместе в раздевалке. Надевая серое пальто с косматым воротником, Эвелина, не глядя на меня, усмехнулась:
– Столько кругом секретов, прямо голова кружится.
– Каких таких секретов? – трудно было не выдать своего интереса.
– Да ну... Зачем это надо... Передавать недостоверную информацию... Скажешь – потом хлопот не оберешься...
– Ну а все-таки?
– Ну а все-таки в рыцарстве нуждается не только Соня Ростова. Ты согласен?
– Конечно, – я ничего не понимал, но чувствовал, что этот разговор с каждой минутой волнует меня все больше. – Так что за секреты?
– Мне-то почем знать? – она засмеялась. – Одни молчат, другие гадают на кофейной гуще.
– Разве так важно, что эти люди молчат? Может, они уже все друг другу сказали?
– А может, они молчат, потому что раньше боялись сказать...
Эвелинаумолклаи отвернулась. Загадочная уклончивость почти бессодержательного разговора заставляла сердце колотиться. Течение несло нас куда-то, и сладко было гадать, что откроется за поворотом. Но за поворотом следовал другой поворот, потом еще один, а плыть все не наскучивало.
Не сговариваясь, мы вместе вышли из школы. Небо было так высоко, что захотелось дышать глубже. Ее портфель я брать не стал: отношения не те, и вообще она более рослая. По дороге я пинал носком ботинка небольшой кусок мутного льда.
– Раньше... Не нужно было этого «раньше». Зачем только оно стряслось! Дорого бы я дал, чтобы оно не случилось.
– Но оно случилось...
– Я теперь совсем свободен. У меня другая жизнь...
– Нет, не верю.
Она засмеялась, и я был так благодарен ей за то, что она мне не поверила! Хотелось спросить: как она там? Что говорит? О чем думает? Ведь мы не разговаривали три с лишним месяца! Больше всего на свете хотелось, но именно поэтому я не спрашивал, а ходил вокруг да около. Мы прошли через двор мимо мусорных баков, куда я нечаянно запнул свой кусок льда. Из подвала молочного магазина грузчики поднимали пустые фляги. Наконец, мы остановились у подъезда.
– Ну вот, тут я и живу. Зайдешь?
– Можно?
– Странный ты человек... Впрочем, это в тебе и интересно.
Мы сидели на неуютной кухне и пили чай, отдававший какой-то кислой соломой; но это был вкус интриги, и я пил уже третью чашку.
– Мне кажется, если люди созданы друг для друга, они должны думать о мире одинаково. Ты так не считаешь?
– Нет, я считаю, что если люди созданы друг для друга, они должны быть рядом.
И опять, опять меня растрогало ее несогласие: ведь она высказывала мое желание, лежавшее глубже убеждений. Эвелина игнорировала все мои душевные укрепления, и мне нравилось волноваться от ее неожиданных попаданий. Разговор часто прерывался длинными паузами, в которые хотелось вглядываться, как в лесные озера. Мы просидели до темноты, а потом пришел отец Эвелины. Он был ниже ростом не только дочери, но и меня и притом сильно навеселе.
– А, молодежь... Речи поэтические. Вы чего без света? Чтобы друг дружки не бояться?
– Пап, ну хватит.
– Электричество экономите? Хвалю, хвалю... Вы что же, молодой человек, уже уходите?
Действительно, пора было идти домой.
– Да, спасибо за гостеприимство.
– ... Сказал гость и убежал.
– Па! – в голосе Эвелины было отчаяние.
– Ничего, ничего, дочка. Он вернется при свете. Правда, молодой человек?
Теперь почти каждый день мы возвращались из школы вместе. Прошло уже две с лишним недели, а мы так ни разу и не сказали прямо, что речь идет о возможном примирении между мной и Леной... Мы говорили о Блоке, Цветаевой, о живописи и днях рождения, но с каждой фразой приближались к сути – так же медленно, как Ахиллес к черепахе. Не думаю, впрочем, что Ахиллес так волновался, делая свои крохотные шажки, потому что черепаха, при всем уважении, трофей не столь привлекательный.
– Как думаешь, – спрашивал я Эвелину, стоя с ней на балконе над тихой улицей Тимирязева, – Люба Менделеева была не похожа на Прекрасную даму или Прекрасная дама – на Любу Менделееву? Другими словами, кто должен был позаботиться об этом сходстве?
– Вот глупости-то! – сердилась она. – Вот идиотство! Придумал тоже. Не нужна придуманная Прекрасная дама человеку, у которого есть живая возлюбленная.
– Что же ему, стихов не писать? Или писать прямо про Любу, как она чавкает за столом?
– Да кто тебе сказал, что она чавкает?
– Ну, если бы не чавкала, не нужно было бы ничего выдумывать...
– Может, это он чавкал? Что за радость переделывать кого-то? Особенно того, кого любишь.
– Это свойственно художникам: любить то, к чему приложил руку.
– Руку он приложил... Посмотрите-ка. Декадент и его рукоприкладство.
Она сердито ушла с балкона в комнату и даже хлопнула дверью. «Чего она так горячится?» Войдя в комнату, я увидел, что она сидит за столом, обхватив лицо руками.
– Эвелин, ты чего?
– Ничего. Не приставай.
В смущении я вернулся обратно на балкон, а через пару минут она как ни в чем не бывало присоединилась ко мне.
25
Без Кохановской я пока мог прожить, но без той тайны, которая могла нас сблизить, уже нет. Именно поэтому не проходило дня, чтобы мы не разговаривали с Эвелиной Картузовой, кроме выходных, конечно. На выходных я маялся и ждал долголжданного понедельника.
Да, вот что любопытно. Каждый раз, выходя с Картузовой из школы, я думал, не взять ли у нее портфель. Но портфель как-то не брался. Почему? Уж конечно не потому, что мне было лень его нести. Может, не предложив ей помощь в первый раз, в дальнейшем я не мог нарушить традицию? Но дело, скорее всего, в другом. Нести портфель девочки – это уже какой-то знак личной связи, рыцарского шефства, которое принимает на себя мальчик. А мы были товарищи, друзья... Мы были равны. Взять ее портфель значило перешагнуть на другую ступеньку. Но почему же я каждый раз вспоминал об этом? Наверное, предполагал, что она этого ждет.
Так или иначе, свои портфели мы несли самостоятельно, но при выходе из школы меня дергал какой-то заряд, побуждающий забрать у Эвелины ее дурацкий портфель.
Знает ли Кохановская о наших разговорах? Этот вопрос изводил меня уже несколько дней. Если знает, то что думает? Обсуждают ли они мои реплики? Мысль об этом заставляла тщательно подбирать слова, точно каждое предложение было посылочной коробкой для нескольких самых важных вещей. А если не знает, передаст ей Эвелина или нет? Ясно было одно: наши иносказательные разглагольствования имели смысл только в том случае, если касались Кохановской. Не только посвящаясь ей, но и как-то доходя до нее.
– Мы вот говорим о чувствах... одного человека, – промямлил я наконец. – А другой? Может он ничего не чувствует? Может...
– Ну разумеется. У нас только один человек с чувствами, остальные – бесчувственные, – неожиданно едко сказала Эвелина.
Опять резкая смена настроения! Может, у нее нелады с родителями?
– Я тебя чем-то обидел?
– Ну что ты, как меня можно обидеть? Кто я?
– Ты – мой друг.
– Друг... – Она помолчала, а потом, вздохнув, сказала: – Другой человек тоже проявляет интерес.
Я попытался совладать с кровью, которая горячо задышала мне в уши, щеки, шею.
– Вот это новость. Очень хорошая новость. Спасибо тебе, ты... Ты меня так ободрила!
– Рада угодить.
Возможно, следовало еще поговорить о ее настроении, но мной овладело такое вдохновение, что я стал прыгать по комнате и подбрасывать подушку с вытканной на ней голландской мельницей. «Ишь, пылищу развел, серенький... зайчик», – засмеялась Эвелина.
Дома я попытался нарисовать улыбку Кохановской. Только улыбку. Но карандаш заехал чуть выше, чем надо, и мне пришлось превращать улыбку в горный хребет. Впрочем, я попытался придать этому хребту оптимистическое выражение.
Назавтра, в пятницу, отменили черчение: у Германа Вадимовича родился четвертый ребенок, чему все искренне, хотя и небескорыстно обрадовались. В веселом гуле перемены я вылавливал боковым слухом Ленин голос, но его почему-то не было слышно. Разумеется, оглядываться не стал. Нарочно долго складывал учебники, чтобы выйти после всех... Эвелина ждала меня на крыльце. Снега уже не было в помине, маленькие лужи подсохли, а большие стали средними.
Вдруг, неожиданно для себя, я потянул у Картузовой из рук портфель, на ходу поражаясь собственной инициативе. Было даже стыдно посмотреть ей в лицо, но почему-то чувствовалось, что она торжествует.
– А у меня для тебя кое-что есть, – сказала она.