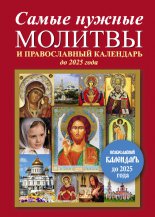Теплые вещи Аносов Саша
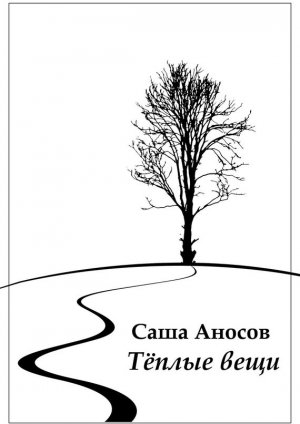
– Ну да.
Он открыл дверцу стенного шкафа. Там, между стопкой чистого белья и электроутюгом лежали книги. Слава вынул их и протянул мне. Я был так потрясен стихами, что китайская философия показалась мне сейчас не важной. Я вертел два желтых томика и один черный, открывал их... Глаза не видели ничего, воображение летело в иное пространство. Пророчество, борьба против всех, одиночество – вот что было там. Кто-то (наверное, я) видит истину, говорит с Богом, бежит от людей... Отсветы огненных языков... Люди преследуют, окружают...
– Так что, возьмешь книжки? – услышал я Славин вопрос, отнявший меня у беснующихся толп гонителей.
– Знаете, я... Я еще зайду потом. А вам, кстати, Маяковский нравится?
– Маяковский – слабак, – сказал Слава, выставляя подбородок, точно древнеримский император, позирующий перед древнегреческим скульптором.
«Вот тебе и кстати», – подумал я и пошел домой.
8
Утро подняло меня, как кран поднимает со дна реки разбитую затонувшую машину. Больная тяжесть гулко заливала кости и глаза. «Не надо было вчера бежать».
Из последних сил отбившись от завтрака и получив от мамы очередной пожизненный диагноз, я выпил немного кофе с лимоном, натянул поверх свитера джинсовую куртку и пошел на работу. Хмуро морщились лужи, кусты не могли поднять головы от сильного ветра.
Николай Демьяныч, не поздоровавшись, позвал меня зайти к нему в кабинет. В кабинете ярко болел свет.
– Михаил, мы поручили тебе ответственную работу, отнеслись, как говорится, с доверием...
– А что случилось? – у меня сразу, как по сигналу, сильнее заболела голова.
– Так же нельзя! Это работа. Это не дело, черт его! Нас всех отсюда повыгоняют к чертовой матери!
Болящей головой я пытался сообразить, о чем он говорит, прокручивал, что было сил, в сознании последние задания и работы. Вчера я вырезал пенопластовые буквы и расписывал щиты для трех богатырей. Щиты получились как настоящие, с выпуклыми бляхами под кованую медь, со славянскими солнцами. Позавчера... Позавчера я оформлял гигантский диплом для победителей смотра цеховой самодеятельности. Может, контуры у эмблемы на лицевой стороне... Грубовато? Не помню.
– Знаешь, что такое партийная дициплина? – продолжал Николай Демьяныч. – Ты ведь был в комсомоле!
«Мне и обычной дисциплины много. На кой мне еще и партийная!» – огрызнулся я внутренним голосом.
– Да что такое-то? – тревожно спросил мой обычный голос.
– А вот пойдем-ка, – сказал Николай Демьяныч тоном Авраама, приглашающего Исаака пройтись.
– Куда?
– На сцену, куда!
«Господи!» – пролепетал внутренний голос. Мы рывком покинули мастерскую и резко пошли на сцену, точно в атаку на неприятеля. На сцене пришлось сбавить темп из-за темноты. В кармане Николай Демьяныч, чертыхаясь, полез за избушку на курьих ножках и с мягким грохотком вытянул оттуда слабо видимый кумачовый транспарант
«ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ
XYII РАЙОННОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ!»
Тот самый.
Сердце билось прямо в больной моей голове.
– Это что? Что это? – начальник ткнул в номер конференции.
– Что? Транспарант. Вы же его уже смотрели...
– Ты что написал? Это же партийная конференция!!! – он повысил тон, но приглушил голос.
– Николай Демьяныч, вы же смотрели, проверяли... И притом...
– Ты же меня подводишь, с тебя-то что, как с гуся вода!
– ...я предлагал переделать...
– А меня вплоть до исключения из рядов партии!
– Но Николай Демьяныч, все же прошло, никто не обратил внимания...
– А если кто-то увидел и пока просто молчит? Или сказал кому надо?
– Да что говорить? Что там такого?
– Это же политическое дело! – полушепотом бесновался Николай Демьяныч. – Написать слово из трех букв на ло-зун-ге! На красном, чтоб тебя, стяге!
– Да где тут слово? Нету! Это игра воображения и все, – оправдывался я, в отчаянье понимая, что, однажды вообразив это слово, люди будут видеть его здесь всегда.
Главхуд в неистовом возбуждении стал срывать с транспаранта пришпиленный лоскуток. Тоненько звякнула булавка, пульнув куда-то в пол. Я молчал.
– Если что случится, я никого покрывать не буду, – жестко заявил Николай Демьяныч, обивая пыль с брюк.
«Еще не хватало, чтобы вы кого-то покрывали», – отчаянно парировал наглый внутренний голос. «И чего он вдруг вспомнил про этот транспарант? Осенило через неделю?»
Дальше время забуксовало. Николай Демьяныч со мной не разговаривал, заданий никаких не было, уйти я тоже не мог. Закаменев, сидел за столом, а вокруг, подобно кольцам Сатурна, вращались мрачные предчувствия.
Что же теперь будет? Меня уволят, прервется профессиональный стаж. Значит, в университет опять не попаду. Где мне тогда работать? На УМЗе? Тогда – прощайте, книги, прощай, философия, умри, живопись. Все катится в тартарары... У отца начнутся из-за меня неприятности. Как же, его сын вписал матерное слово в коммунистический лозунг. Что будет? Что будет-то?..
* * *
Когда я уходил с работы, тело горело сухим сосновым жаром, кровь лихорадило музыкой болезни. Оглянувшись на Дворец, казавшийся высеченым из низких каменных облаков, я точно знал, что завтра меня здесь не будет. И это было самое главное и самое лучшее, что принес сегодняшний день.
А еще чувствовалось, что жар поднимающейся болезни и отрешенное равнодушие к собственному будущему берут начало в стихах, которые я услышал от Славы вчера вечером.
За ночь болезнь обрела все обычные свои приметы, и утром, увидев меня, мама сама по доброй воле вызвала врача и велела мне немедленно вернуться в постель. Что я и сделал с уютным чувством человека, заслужившего покой, свободу и всемерную заботливость домашних. Прежде чем лечь, я набрал номер дежурной, сидящей неподалеку от нашей мастерской, и, наслаждаясь собственным саднящим басом, просил передать Николаю Демьянычу, что заболел и на работу нынче не выйду.
Часа через три в дверь позвонила участковая докторша. Дома кроме меня была только белая Бушка, которая с комфортом развалилась на ковре у кровати, получая от жизни даром те удовольствия, за которые я должен был расплачиваться температурой, больной головой и насморком.
Бушку я запер в комнате у сестры, принес на блюдце чистую чайную ложку, мерил температуру, говорил «а», слушал горячей спиной щекотно-холодящий диск фонендоскопа. Через пять минут докторша выписала первый в моей жизни голубенький больничный. Я был свободен как минимум до следующего понедельника! Почти целый еще сегодняшний день, а потом еще четыре огромных полных дня! Плюс понедельник, когда нужно будет идти в поликлинику. Притом еще неизвестно, выпишут меня сразу или нет. Поблагодарив участковую неузнаваемым изнутри низким голосом, я закрыл за ней дверь, закашлялся и с печальным одобрением оценил глубину и подлинность кашля. Затем выпустил из-под домашнего ареста собаку, и мы сильно обрадовались друг другу, свободе и жизни как таковой.
9
В простуде, от которой неспешно лечишься в домашнем тепле и покое, всегда есть что-то сказочное. Болезнь превращает родителей из диктаторов в придворных, заменяет будничную еду лакомством и баловством. Но главное, конечно, – это прекращение всякого принуждения. Хочешь – спи, не хочешь – не ешь. Конечно, приходится лечиться. Неприятно, к тому же приводит к исцелению. Но все равно – это малая плата.
Подушки, плед, лучшие книжки, пластинки и диафильмы под жужжащий припек горчичников, распаренная в чае малина, йодная сетка на носу и колючие шерстяные носки. Забота и потакание.
Но нынешняя простуда была совсем особой. За мной гналась и чуть не настигла настоящая беда, и я от нее избавился, оторвался в самый последний момент.
На меня навалились мечты и видения. Я взбирался по еле заметной тропинке, ведущей к горному храму. Входил в сыроватое облако и брел, почти ничего не видя вокруг. Потом делалось совсем холодно: облака паслись по склонам внизу, вокруг в расселинах поблескивал лед, на уступах лежал чистый снег.
Ежась от озноба, я поднимался с кровати. Пошатываясь, плелся за очередными кофтами-одеялами. Бушка подпрыгивала, вертя похожим на белую хризантему хвостом, и скакала вокруг меня, умоляя поиграть. Казалось, вокруг меня скачет веющий холодом сугроб. Свернувшись калачиком, я засыпал. Старик-монах встречал меня на пороге кельи и набрасывал мне на плечи ватный халат. Яркий, как паровозная топка, шафрановый халат возвращал телу долгожданное тепло. Дрожа, я проваливался в жар и видел себя у гудящего очага рядом с низким столиком. На столике стоял крохотный, с перепелиное яйцо, чайник и две чашки, каждая размером с пульку для пневматического ружья. Я хотел пить и все думал, как же можно напиться из такой посуды.
Не помню, как вернулась из школы сестра. Вечером она сказала мне, что я лежал весь красный в гнезде из четырех одеял и бормотал непонятные слова или слоги. Я проспал почти весь день. Проснувшись, я увидел неразлипающимися глазами, что на улице совсем темно. Я промок насквозь, ноги и руки меня не слушались. На кухне был отец, который зачем-то встал со своего стула и уступил его мне (хотя там было еще три табуретки). Наверное, сейчас он скажет о транспаранте. Но отец только спросил, как я дошел до такой жизни, и предложил погреть мне ужин. Я отказался, и отец отправился гулять с Бушкой. А мне сказал, что я не уделяю должного внимания спорту. Пока он надевал куртку, собака скакала вокруг него, как туземец вокруг идола.
К утру температура упала, зато все остальные симптомы вымахали, словно подзаборная крапива. Но радость не убывала. Одетый в свитер и лыжные штаны, я чувствовал себя совершенно восточным отшельником. Постель была приведена в походный аккуратный вид (никаких простыней и пододеяльников – только плед и подушка), на столе газета и все необходимое для рисования. В некоторых акварельных кюветках краска была уже проедена до самого донышка.
Я рисовал пасмурную равнину (по дороге идет, сгибаясь под ветром, одинокий человечек)... Время от времени грел нос синей лампой, потом ходил по пустой квартире. Раза два смотрел в окно на Дворец. Небо было бледным, облака сливались в гладкое поле, и Дворец казался безлюдным и заброшенным.
* * *
Наверняка Николаю Демьянычу приходится несладко. Каким бы неумелым работником я ни был, все же некоторую часть заданий делал сам, а значит, освобождал от работы его. Кроме того, беспокоиться из-за лозунга, ясное дело, не стоило. Этот лозунг должен оставаться тайной для всех, иначе это ударит по самому главхуду. Значит, никого никуда не уволят, не вызовут к начальству, не расскажут ни одной душе, в том числе и моему отцу.
И все же Дворец меня тревожил. Глядя на него, я спиной чувствовал защиту дома, хотя и понимал, что защита частичная, временная. Временная – этого было маловато. Я шел в свою комнату и смотрел на башню: ее было видно из моего окна. Дворец был с другой, западной стороны. Башня была: дали, покой и увлекательное, словно приключение, одиночество. Дворец был мастерской, недовольством начальства, запахом скипидара и ежедневной надсадой. Чем дальше отступала простуда, тем больше я думал о Дворце. Башня уже не могла его пересилить.
И вот в пятницу, когда все уже были дома (лопотал телевизор, мама разговаривала по телефону, сестра дразнила собаку), я не выдержал. Взял пачку желтоватой бумаги, линейку, плакатные перья и принялся рядами, как в школьных прописях, чертить тушью буквы У, А, X и Ж. Буквы глумливо приседали, подкашивались, дергались из стороны в сторону. Я откладывал непросохший лист, брался за другой, черкал наскоро две карандашные линии, а между ними писал букву. Старался вести руку уверенно и быстро. Перо выезжало за разметку, не успев остановиться, или тормозило в миллиметре от нее. Линия прогибалась или шла под большим, чем надо, углом. Правильной выходила одна буква из пяти-шести, но я знал: победа будет за мной. Я слышал в себе ярость бесконечного терпения и понимал, что только так обрету свободу от Дворца. Чем чаще мне удавались буквы, тем упорнее я писал их заново.
Завтра, подумал я, глядя на черные от туши кончики пальцев, займусь круглым шрифтом. За три часа работы все буквы были укрощены и объезжены, а я увалился в постель с книжкой, наслаждаясь праведной усталостью.
В дверь поскреблись, тихо вошла мама и шепотом позвала к ужину. Услышав мой отказ, она своим обычным голосом сказала, что я уже испортил себе голову, а теперь испорчу и желудок. Отец добродушно-громовым тоном из кухни велел, чтобы мама оставила меня в покое. Потом сестрица просунула голову в только что прикрытую дверь, радостно поведала, что тоже хочет заболеть, и просила чихнуть на нее. Я сказал, что это на меня все чихать хотят и не дают человеку спокойно поболеть у себя в комнате. Сестра обиделась и сказала, что я нагрел градусник на батарее и никакой не больной. Она ушла, не закрыв дверь. Я вздохнул, поднялся с постели и шаркая, как шаркают только очень нездоровые люди, вышел на светлую, пахнущую жареной картошкой и котлетами кухню.
10
В субботу родители, одевшись, как работники заготконторы или уличные торговцы семечками, уехали выкапывать морковку и свеклу. Сестра с подружками и собакой шаталась по городу, переходя из гостей в гости. Я остался один. Как и было запланировано, я принялся за буквы О и С. Отчего-то буквы сразу вышли сносно (или мне просто хотелось так думать), и плакатное перо было отложено.
Слоняясь по квартире, я подходил то к одному, то к другому окну. В парк у Дворца входила в обнимку парочка с красной коляской. Дымила часть заводских труб. Самая огромная труба уходила в туман и облака. Очередной симптом выздоровления: сидение дома мне наскучило. Я решил потихоньку улизнуть на часок-другой. Дойти до книжного, может, навестить Клепина в его подвале. Родителей не будет до вечера, сестра тоже не вернется раньше пяти-шести.
Быстро одевшись, я взял из письменного стола немного денег и вышел. Сыроватая зябкость субботнего дня, из-за погоды и еще чего-то похожего на понедельник. Спрятав руки в карманы куртки, я шел и не мог надышаться осенью, настоящим влажно-грибным воздухом. Даже собственный кашель доставлял некоторое удовольствие.
По дороге в книжный я испытывал что-то вроде того, что чувствует охотник, несколько дней не обходивший свои ловушки. За неделю могло поступить столько нового, что одна-две книжки непременно должны меня сегодня дожидаться.
Посетителей в книжном почти не было. Только в отделе книг для детей две девочки робко перешептывались под строгим взглядом продавщицы да в отделе художественной литературы бродили несколько печальных книголюбов. Я пошел по периметру зала, перебирая глазами книги на прилавках. Биография Луначарского в тонкой обложке... Сборник фронтовой поэзии «Сороковые роковые»... Невзрачные «Пламенные революционеры»... Рассказы Куприна...
– Глухо, как в танке, – произнес низкий голос за спиной.
Обернувшись, я увидел Фуата. Он стоял в черном коротком пальто, сунув руки в карманы, и улыбался. Из-под пальто выглядывал ворот свекольного пиджака. Мы поздоровались. От Фуата сильно пахло табачным дымом, впрявшимся в одежду.
У стеллажа с альбомами он остановился и ждал, пока я подойду. Глядя на книги уже вполглаза, я думал об этом человеке. Где он работает? Служил ли в армии? Есть ли у него семья? Верит ли он в Бога, а если верит, бывает ли в церкви?
– Позавчера Баратынского выкинули, – сказал Фуат, усмехаясь. – Пользовался успехом. Родинка ухватила последнего.
Мы вышли на крыльцо, так ничего и не купив.
– Ты не куришь? – спросил он.
– Бросил, – почему-то я постеснялся сказать просто «нет».
– Не страшно. Будда тоже не курил, – он выпустил синеватый дым от «Примы» в пасмурный воздух.
Фуат говорил неспешно, и каждое слово в его коротких репликах было словно инкрустировано в воздух особо от других.
– Хотел Клепина навестить, – сказал я, – давно не видел. Пойдем?
– Не-ет. Я уже там был сегодня. Очередная пьянка... Собрались все соседи по подвалу, какие-то тетки...
– Натурщицы?
– Какие натурщицы... Натуральные тетки. Вино пьют, помада на стаканах, хохочут. Пришли Вадик-злой, Борода, Криворыжий... Борода песни Высоцкого поет, Клепин стихи читает про Гойю...
– А ты что?
– У меня завтра работа, надо одному побыть, подсобрать немного сосредоточенности.
Кажется, Фуат не возражал против моего общества, и мы повернули в сторону Пионерского сквера... По дороге зашли в булочную и купили горячего черного хлеба... Отламывали его по кусочку и ели. Ржаной пар отваливался от рыхлого мякиша.
Фуат-Федька жил с родителями на улице Коминтерна, работал сутки через трое в газоспасательной службе. Работа самая простая: обходить цеха и делать пометки в журнале, ночью можно спать. Теоретически можно было и читать, и писать, но на деле ни то, ни другое не получалось. Не находило одобрения у товарищей. Денег на этой работе платили совсем мало, но ему много и не нужно, зато остается много свободного времени...
Я сразу настроился называть его только Фуатом, однако в какие-то моменты чувствовал, что в имени Федька есть своя абсурдистская правда. Ничего более неподходящего к его образу нельзя было и придумать. Все равно что Шопенгауэра назвать Толиком. Но именно оттого имя, став чем-то вроде прозвища, и приставало так крепко. Мы проходили мимо диетстоловой, когда я вспомнил о давнем разговоре у Вялкина насчет живописи. Тогда Фуат загадочно отмалчивался, сегодня я хотел узнать, что он обо всем этом думает.
– По-моему, художнику не стоит говорить о живописи, – сказал Фуат.
– Почему это?
– Пусть говорит на холсте.
– Хорошо, ладно... – немного растерялся я, вспоминая, сколько болтал при нем об искусстве. – О своей живописи – да, допустим. А о живописи вообще?
– «Живописи вообще» не существует, – спокойно ответил Фуат.
– Почему это? – спросил я, находясь под впечатлением платоновской теории идей.
– Я не видел. Ботичелли видел, миниатюры персидские видел... Клепина видел... А живопись вообще не видел.
– Вообще живописи не видел?
– Дурачина.
Мне хотелось во что бы то ни стало переспорить этого невозмутимого человека, который раздразнивал во мне спорщика именно тем, что не кичился своим мнением.
– А скажи, ты веришь в Бога?
Он помолчал и подумав, ответил:
– Верю.
– Ты христианин?
– Нет. А Христос был христианин?
Что было на это ответить?
– Я не знаю, кто я. Мне персидские миниатюры нравятся и Лао-цзы. Они разве уводят от Бога? А христианство... Христианство воплощает идеи Христа, но не подражает его личности. А как можно воплощать идеи, если не обращать внимание на личность?
– Очень просто. Какая разница, какой был характер у Пифагора?
– А ты поверишь в идею воздержания, если тебе ее будет проповедовать развратный обжора?
* * *
От нашей беседы город делался другим. По большей части говорил я. Фуат-Федька внимательно слушал и произносил «согласен», отрицательно качал головой или смеялся.
Наконец мы оказались на улице Скрябина, где заканчивались многоквартирные дома и начинался частный сектор. Я видел застрявший в щели забора одного из садов полумертвый подсолнух.
Фуат остановился прикурить. Я смотрел, как он легонько щелкает по дну красной пачки, выбивая сигарету, как разминает ее в тонких пальцах. Как наносит спичкой короткий штрих по истертому боку коробка. Каждое его движение было исполнено небрежного совершенства. Дешевая «Прима» в его пальцах казалась ароматной коллекционной сигаретой. Единственной, штучной. Именно теперь, к концу прогулки, я заметил, что в его присутствии вещи и слова обретают неоценимую значимость, а главное, размыкаются, как-то осмысленно выделяются из окружения. Мы говорили так, что добрая половина сказанного прямиком отправлялось в арсенал незабываемого.
– Вялкин говорит, что скоро придет время соборного творчества.
– Собор писателей? Сеансы одновременной игры?
– Не веришь в предсказания?
– Наступает время пророков. Пророки всегда появляются в мутные времена.
Присматриваясь к Фуату, я стал подозревать, что он знает нечто такое, чего не знает никто другой. По крайней мере, никто из моих знакомых. Похоже, это знание было взято не между строк журнала «Техника молодежи», не из научных изданий, вообще не из книг. Это как-то было связано с тем, как он ходил, как прикасался к вещам, как улыбался и говорил. Возможно, это знание было скрыто как раз в его стихах.
11
Вообще-то любопытство мое было бы куда сильнее, если бы речь шла не о стихах, а о картинах. В кругу знакомых художников поэзию ставили куда ниже живописи. Зачем говорить о том, что можно показать или сделать? Рассказ об огне никогда не заменит вида огня... Конечно, я никому не сознался бы в том, что стихи для меня так мало значат. Любой собеседник мог бросить в лицо, что я просто не понимаю поэзии. Разумеется, понимаю, чего там непонятного! Кроме того, у меня были любимые стихи, а это прямо доказывало, что в поэзии я разбираюсь. На вопрос о том, какие стихи мне нравятся, я всегда отвечал, что люблю «раннего Маяковского» и «Стихи о Прекрасной Даме». До сих пор все одобряли мой вкус.
Но, говоря по правде, что значило «любить стихи»? Повторять их без конца было неинтересно. Стихи о Прекрасной Даме я читал куда менее внимательно, чем историю взаимоотношений Блока и Любы Менделеевой. И вообще Блоку достаточно было выглядеть юношей с аскетическим одухотворенным лицом, чтобы я записал его стихи в любимые.
Маяковский привлекал своим бесстрашием и агрессивным нонконформизмом. Нравились его грубо-неожиданные образы и метафоры.
Мы уже шли по Коминтерна, возвращаясь в центр, когда я ни к селу ни к городу сказал:
– Тебе нравится ранний Маяковский?
– Маяковский... – фыркнул Фуат, превращаясь в Федьку. – Могуч... Плачет в мегафон...
– Что за бред! – возмутился я.
– А чего он орет?
– Ничего не орет. Просто хочет, чтобы его услышали.
– Ну, это еще не повод бить в тазы литаврами.
Образ был так нелеп и убедителен, что я просто рассмеялся. Ничего, за мной оставалась еще Прекрасная Дама...
– А по-моему ты – удрученный невротик.
Федька улыбался своей жимолостно-горькой улыбкой:
– Меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал то, от чего тиран визжал...
– А как тебе Саша Черный? – спросил я осторожно.
– Бессмертья вам, двуногие кроты? Понятно. Бедный Слава... – отчего-то он посмотрел на меня с состраданием.
Мы шли мимо казарм воинской части. Из окон длинной столовой уныло пахло казенными щами. Про Блока я говорить не стал. Если уж Маяковский с Сашей Черным не вызвали одобрения, чего было ждать от Прекрасной Дамы. У меня замерзли руки, я понял, что давно нагулялся и хочу домой.
– Мне, пожалуй, пора, – вдруг сказал Фуат.
Мы остановились у глухо-серой пятиэтажки неподалеку от перекрестка. Это был его дом. Мы попрощались, пожав друг другу заледеневшие руки. Он опять сунул их в карманы и зашагал по тротуару, словно по болоту. Не оглядываясь, в отличие от меня.
Повернув к дому, я ускорил шаг. Хорошо бы успеть до приезда родителей. В крайнем случае, конечно, можно сказать, что я уже выздоровел и в понедельник выписываюсь на работу. Я почти бежал.
Во мне перебирала колючими лапками мелкая досада на себя. Фуат не сказал, что я не понимаю поэзии. Не привел в пример свои любимые стихи и вообще никак не показал свое превосходство. Мое самолюбие не было задето. И поверх ничем необъяснимого стыда за свой апломб я чувствовал все нарастающее любопытство к этому человеку, безо всяких усилий добавляющему вещам истинности.
12
К моему удивлению, бюллетень в понедельник не закрыли. Участковая отправила меня на флюорографию, расслышав какие-то особые хрипы. В рентгеновском кабинете я прижимался грудью к холодной металлической панели и затаив дыхание вслушивался в тихое жужжание, с которым незримый свет шел сквозь меня. Мутно-серый пластик с моими кащеевыми подробностями ничего не показал. И все же больничный продлили до среды.
От поликлиники было рукой подать до площади Победы, и я решил навестить Клепина. Если он, конечно, у себя. Бодая встречный колючий ветер, я пошел мимо жавшихся поодаль пятиэтажек. В крайней, за которой начинался огромный пустырь перед старым кладбищем, как раз и была студия Клепина.
В пятиэтажке был подвал, принадлежавший ДОСААФу (в этом слове мне неизменно чудилось нечто библейское, вроде «И породил Досааф Васхниила, и воистину пожрал его во время оно»). ДОСААФ подпольно сдавал подвал – впрочем, как еще можно сдавать подвал? – трем художникам, разделившим его дощатыми перегородками на три клетушки. Художники там пили, буйствовали, выполняли производственные заказы и время от времени занимались творчеством. Из всех троих, впрочем, настоящим художником был только Клепин. Это не значит, что он пил и буйствовал меньше остальных.
Сергей Клепин был человеком, для которого живопись имела абсолютное значение, а все остальное не значило почти ничего. Конечно, ему приходилось где-то работать, чтобы содержать семью (жену, двух дочерей и тещу), он ходил в магазины, навещал приятелей или читал. Но все это делалось во вторую, в третью очередь, спустя рукава и без особого интереса. Сергей не имел вкуса к еде, не ходил в кино, и даже общаясь с женщинами, кажется, воображал их сначала на картине, а потом уже в своей постели.
Нет, он не был аскетом. Его богемная нищета не имела ничего общего с самоотречением. Кстати, уйдя с головой в творчество, он мог довольно долго ничего не писать. Работа, как подземная река, шла в его воображении. Подобно планетам Солнечной системы, обращающимся вокруг Солнца, вокруг Клепина постоянно кружили имена Пикассо, Шагала, Брака, Матисса и Миро. Звездная пыль цитат, слухов, манифестов и легенд, связанных с его кумирами, овевала и затягивала Клепина в свой неземной хоровод. В этом кругу Клепин был своим. Он говорил о Модильяни так, словно тот работал рядом, в соседнем подвале. И здесь не было ни тени бахвальства или безумия. Ведь то, что мы ценим и о чем постоянно думаем, нам всегда ближе. Для нас призрачно и мертво то, к чему мы равнодушны – пусть оно существует, двигается, дышит прямо сейчас, поблизости. Клепин думал о Шагале и Матиссе как о живых, говорил от их имени, призывал в свидетели, ждал и получал их советы – значит, они и в самом деле не умерли, иначе и быть не могло.
Можно писать стихи, не будучи поэтом. Некоторые занимаются живописью и пишут даже больше картин, чем Вермеер или Го Си – но они не художники. Многие картины Клепина в то время были грубее и наивнее, чем работы любого выпускника художественного училища. И тем не менее, в них Клепин был настоящим художником (чего я тогда не понимал). Идеи и принципы, о которых рассуждал мой гуру Вялкин, были похожи на лекции пингвина по аэродинамике. Они давали пищу уму, объясняли чужие полеты, но не помогали взлететь. Неумелые и методически неверные попытки оторваться от земли пресекались. Школа требовала летать только по правилам. Клепин жил и писал не по правилам – но это был полет.
В те времена полупустые картины Вялкина я явно предпочитал неряшливым клепинским джунглям. Вялкин создавал десятки уютных версий потустороннего, он тонко чувствовал цвет, имел вкус к немногословию вещей. Это был прирожденный иконописец, не терпящий никакого сумбура и хаоса. Или убегающий от хаоса в свои тихие иконы. Мне так хотелось убежать вместе с ним! Но мой хаос был быстрее меня.
Как обычно, я обогнул дом сзади и подошел к подвальным окошкам. Мертвая трава сухо шуршала под подошвами. У стены, исписанной корявыми именами, стояла ободранная рама от велосипеда «Школьник» без колес – и куда укатились те колеса?
Мне повезло: сквозь грязное стекло, наполовину закрытое кусками оргалита, было видно, что в мастерской горит яркая голая лампа. Я вернулся к торцу дома и по щербатым ступенькам спустился к приоткрытой железной двери. Изнутри пахнуло баней. Клепинская мастерская была в самой глубине подвала. Света в коридорчике не было, и я пробирался по дощатому настилу на ощупь, стараясь пореже прикасаться к занозистым стенкам. Из каморки Бороды послышались радио-позывные радиостанции «Маяк». Пропикало пять раз. «В столице полдень», – лучезарно объявил за спиной голос дикторши. В трубах возилась, пытаясь заснуть, горячая вода. Повернув в третий раз за угол, я увидел лучинки света, застрявшие в щелях около двери. Постучал. «Открыто», – раздался равнодушный голос. Я вошел.
Открыв дверь, я не увидел мастерской. Все помещение было перегорожено огромной картиной, стоящей на мольберте. Справа у стены виднелся придавленный журналами и книгами топчан, рядом на табуретке валялась старая засохшая палитра.
13
По палитре можно многое сказать о художнике. К примеру, палитра Валеры Горнилова походила на долину вулканов. Некоторые вулканы давно остыли, другие клокотали кадмием или багровым краплаком, извергали потоки белил, с ходу врезавшихся то в синий кобальт, то в ядовитую «зеленую ФЦ». Эта палитра была как бы прародиной горниловских картин, таких же вулканических, бурливших его ночными видениями и трагическим бредом.
Палитра Вялкина была совсем другой. Витя всегда выкладывал ровно столько краски, сколько было нужно для работы, и всю пускал в дело, слизывая кисточкой малейшие остатки и перенося их на полотно. Его палитра напоминала школьную географическую карту с пятнами стран, океанов и островов (причем границы этих стран и континентов оставались практически неизменными). Палитра Клепина была утыкана окурками, гвоздями, кое-где виднелись приставшие и пропитавшиеся маслом клочки газет. Там и здесь краски росли, как грибы или карстовые сосульки. Кроме того, палитру пересекали цветные нити пролитого масла. Эту палитру Клепин, насмотревшись абстрактных экспрессионистов, превратил в картину. Мне эта идея нравилась. Впрочем, любая палитра, особенно неновая и нечищенная, – уже картина.
* * *
В клепинской студии пахло лаком, куревом, несвежей одеждой и еще чем-то человечье-нежилым. Здесь не было уюта, не то что в мастерской у Вялкина. Квартира его, кстати, тоже вечно выглядела так, точно ее ободрали в преддверии ремонта. Клепину уют был ни к чему.
Протиснувшись между огромным полотном и прислоненными к стене подрамниками, я увидел Клепина. Он стоял в серых кальсонах и фуфайке у еще одного мольберта, сосредоточенно вглядываясь в холст. Огромная картина была скрыта от глаз двумя сшитыми рваными простынями. Места в мастерской почти не оставалось.
«А-а», – сказал Клепин, мельком взглянув на меня. Он никогда не показывал, что обрадован, удивлен или смущен моим появлением. Да и вообще ничьим появлением. Не видься я с ним год, реакция на посещение была бы та же, как если бы я просто вернулся через пять минут забрать забытый зонтик. Но, могу поклясться, он был мне рад. Не глядя на меня, он ударил кистью по холсту. Я должен был это видеть. Сосредоточенную, отрешенную работу мэтра.
Клепин, сколько я его знал, всегда играл роль гениального художника. Зачем настоящему художнику ходить в маске настоящего художника, затрудняюсь сказать. Для чего брюнетки красят волосы в черный цвет? Короче, Клепин был истинным художником, но и первоклассным позером тоже.
Я решил не поддаваться. Снял куртку и молча сел в двух шагах от Клепина на табурет. Какое-то время было слышно, как в трубах журчит вода и как Клепин гундит себе под нос песенку, теребя кисточкой липкие детали изображения. Мурлыканье сменилось свистом, но насвистывать у холста Клепину не понравилось. Это было все равно что насвистывать у алтаря. Он хмурился, вытягивал губы трубочкой, приподнимал одну бровь. Отходил назад, потом стремительно бросался с кистью или шпателем на картину, точно видел на ней скорпиона. Я молчал и иронически ухмылялся. Лицедейство всегда будит во мне правдолюба. Наконец Клепин спросил человеческим голосом: «Был у Витька?»
Я сказал, что сейчас сижу на больничном и давно не видел никого. Кроме Фуата.
– Мм. Федька... Он тут был в субботу, на дне рождения Вадима.
– Я слышал.
Клепин на миг оторвал глаза от холста, выжидающе глядя на меня. Я молчал.
– Случился у нас разговор насчет поэзии, – сказал Сергей, вытирая шпатель половиной старой, когда-то белой рубашки. – У Федьки не хватило аргументов, он, я считаю, сбежал от спора.
Я отчего-то вспомнил про теток с вымазанными помадой стаканами.
– Я говорю, Андре Бретон... – (мазок) – разработал... – (еще мазок) – э-э-э... – (красивый удар кистью) – принцип симультанной поэзии...
– Для мнимых больных? – не удержался я.
– Скажем так... – Сергей потер тыльной стороной руки свой высокий лоб античного мыслителя. – Ты находишься в особом психоделическом состоянии и сразу, безо всякого участия сознания начинаешь процесс симультанного письма.
– Как это без участия сознания?
– И вот тут-то, – Клепин сделал жест в направлении своей новой картины, которую я пока даже не посмотрел, – начинают просто извергаться глубины подсознания... Идет, понимаешь, чистый астрал...
– А что Фуат?
– Да это, понимаешь, какой-то консерватор... Ретроград непробиваемый: вот те Тютчев, вот те Гумилев, вот те Заболоцкий...
– А что Тютчев?
– Ну как тебе сказать, – Сергей задумчиво провел пальцем по периметру бороды. – Тютчев, конечно, гений. Но это же прошлый век. После Малевича, после Кандинского, после Андре Бретона так уже нельзя писать.
Это звучало довольно убедительно. Но я упрямо чувствовал, что в вопросах поэзии Фуат должен быть более сведущ, чем Клепин. И даже чем Малевич. А что этот Бретон понаписал, еще неизвестно.
– А Федькины стихи ты читал? – спросил я.
– Читал.
– Ну?
– Как тебе сказать? Неплохо, неплохо. Н-да... Есть места... Да, местами там что-то есть. Но Федька... – Клепин покачал головой. – Федька в последнее время деградирует. Совершенно отходит от творчества... В субботу ушел через полчаса... Неинтересно ему.
Я уже не первый раз замечал, что в глазах почти всех моих знакомых художников (кроме Горнилова) остальные непрерывно куда-то скатывались, доходили до маразма и исписывались. Вялкин говорил о деградации Клепина, Клепин посмеивался над тем, что Вялкин скатывается от творчества к теориям. И Вялкин, и Клепин соглашались, что вырождаются Лысухин и Глушко. Такие персонажи, как Криворыжий или Борода, не деградировали за неимением какой-либо отправной высоты.
– И что ты думаешь? – продолжал Клепин таким тоном, будто сейчас меня ожидал приятный сюрприз. – Вчера вечером сижу, листаю журнал. Чувствую... м-м-м-м... какое-то необычное состояние. Беру, как в тумане, лист бумаги, ручку. И просто выплескиваю на бумагу свое подсознание.
«Представляю», – подумал я.
Клепин обогнул мольберт, пошуршал где-то в тенях и вернулся с несколькими мятыми листками. В углу нижнего листка виднелись разноцветные отпечатки пальцев, точно для какого-то марсианского криминального досье. Клепин взял листок в левую руку и принялся с подвыванием заклинать, плавно покачивая рукой, будто взвешивал на ладони незримый слиток золота:
- Импровизация, импровизация...
- Лягушка времени прыгнула
- в зеленую лужу пространства, и —
- Хаос апельсиновых мячиков —
- танцуют молекулы, витаминки счастья.
Каждое слово, наслаждаясь декламацией, он произносил с воющим оттягом...
- Розовый бант в волосах Кассиопеи —
- прелесть, пьяными губами развяжу тебя...
Дальше я слушал не очень внимательно. Были какие-то «красные скрипки в темно-синем прошлом», «голые инфанты на мокрых мустангах», был «танец с луною в безумном сне Неаполя». Длинный Клепин в кальсонах цвета промокашки вещал, как древнеримский трибун, и неистовствовал, как шаман. В моей душе бродил забористый коктейль из ехидства и необъяснимого уважения. Поэзия наобум. Дико, комично, ни в какие ворота... Но в то же время безоглядно смело и так похоже на яркие, фантастически-шутовские картины Клепина.
Могли ли клепинские стихи понравиться Фуату? Конечно нет, это не вызывало никаких сомнений. Но... а вдруг это и есть новый путь? Только для чего говорить про апельсиновые мячики, если их можно нарисовать? Зачем дублировать картины в стихах? С другой стороны... Это же признак цельности. В какое окошко ни глянь, всюду увидишь лягушек времени, розовые банты, пантер, испанских грандов, цыганских баронов и прочую экзотику.
Слушая Клепина, я в который раз отметил про себя, что картины Вялкина нравятся мне больше клепинских. Вялкин серьезен, его мистика уютно-мрачна и слегка стерильна. А у Клепина реальность была непрекращающимся карнавалом, герои – ряжеными. Звездам он предпочитал бенгальские огни.
Текст, пролитый клепинским подсознанием на бумагу, был довольно долог. Наконец подсознание окончательно опорожнилось, и в наступившей тишине я услышал, как радио в каморке Бороды тихонько поет: «Дорогие мои старики, дайте я вас сюда поцелую... «Честное слово, я не собирался смеяться. К тому же мой смех относился не к стихам Клепина. Не столько к стихам.
– Ты «Громкоокеанское панно» еще не видел? – Не обращая внимания на мои пароксизмы, Клепин кивнул на огромное полотно.
Он подошел, сбросил с картины простыни. Передо мной открылся светло-зеленый океанский простор. Зелень была веселяще-химического оттенка: по малахитовым волнам скользит длиннейшая ладья, похожая на вытянувшуюся в линию карусель. Навес в виде балдахина, цыганские певички, сидящие на скамьях в развязных позах, тут же рыбак в костюме Пьеро, удящий рыбу. Из волн перед носом ладьи выглядывает небольшой миловидный кит, выпускающий радужный фонтан. На верхних брызгах фонтана пляшут совсем крохотные рыбки, сами похожие на жизнерадостные капельки. А справа, у самого края, волны разверзаются, и из них вылетает огромный дух, вроде отдающего честь военного. Дух тоже зеленый, как и вода, голова у него напоминает штормовой бурун, руки и тело сплетены из струй воды, а в струях взлетают темные водоросли и пузырьки.
Я смотрел на огромное, светящееся зеленью полотно. Этот яркий мир был мне совсем чужой, но все равно я чувствовал, как он заряжает меня своей дурашливой радостью. Захотелось рисовать. Немедленно, прямо сейчас.
– Хорошо бы выставить ее в каком-нибудь огромном помещении, – задумчиво сказал я.
– Как бы еще из этого помещения не выставили, – пробурчал Клепин. – Да вообще-то, Мишаня, давно пора выходить из подвалов. Если бы нашелся какой-нибудь маршан, организовал солидный зал, каталог. Продавать работы, поездить по миру. Жить на вилле, как Сальвадор Дали или как папа Пикассо.
– Звучит как музыка.
Тут стукнула дверь, и из-за мольберта, чуть не уронив клепинское панно, протиснулся Борода. Борода был плотный краснощекий мужчина с вечно слипающимися глазами, инфернальным басом, ну и, натурально, с черной бородищей. Между прочим, все обитатели подвала были бородаты, но Бородой звали только Бороду, потому что его можно было звать только так. Борода посмотрел на меня, потом на Сергея, медленно почесал тельняшку и сказал:
– Серега, надо бы это... Как думаешь?
– Толь, давай не сейчас, я работаю, – неожиданно раздраженно отреагировал Клепин.
– Дак я чо, работай. Я в принципе, – стал оправдываться Борода; полоски на его тельняшке сразу как-то помельчали.
– Толя, забодай тебя олень, это творческий акт, связь с астралом, третий раз уже приходишь...
– Да я просто, чо ты, как неродной.
– Все, Толь, пора тебе быть художником, наконец.
– А я кто? – обиделся Борода.
– Давай, Анатолий, иди, будь человеком!
– Я художник!
– Настоящий художник никогда мешать не будет, ясно?
– Кто говорит «мешать»? Я ерша и теще не посоветую.