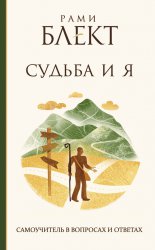Война: Журналист. Рота. Если кто меня слышит (сборник) Подопригора Борис

Андрей от неожиданности обжегся сигаретой, которую как раз решил забрать у Лены. Чертыхнувшись, он швырнул окурок в сад, тряся обожженными пальцами.
– Ни фига себе… А откуда, собственно, товарищ Ратникова, вы знаете мою жену? Кстати, бывшую… Хотя мы еще не развелись официально. А по жизни разошлись год назад…
Лена взяла ладонь Обнорского в свои руки и медленно провела языком по обожженным пальцам. Андрею еще никогда прежде женщины руки не целовали, и потому он был не в курсе того, что они у него эрогенная зона, – на прикосновение ее язычка к пальцам немедленно отозвалась совсем другая часть его тела. Лена, прижимавшаяся крутым бедром к его животу, почувствовала это, подняла голову и улыбнулась:
– В восемьдесят восьмом я была в Ленинграде – к дальней родственнице заезжала. Решила зайти на твой факультет – узнать хоть что-нибудь про тебя. В твоем деканате секретарша – кажется, ее звали Женей – все мне подробно рассказала… Даже более чем – очень эмоциональный разговор получился…
Обнорский только крякнул в ответ, хорошо представляя, что именно и в какой тональности могла рассказать про него деканатская секретарша Женя. Незадолго до выпуска у него с ней «случился грех», она, видимо, на что-то рассчитывала и даже по собственной инициативе, печатая дипломные вкладыши, поставила Андрею по ивриту «отлично» вместо реально полученного им когда-то «хорошо». Но, несмотря на такую самоотверженность, «грех» дальнейшего развития не получил, и Женя, видимо, на него сильно обиделась.
Уходя от скользкой темы, он начал целовать ее между лопаток и гладить рукой по ногам, постепенно подбираясь к низу живота.
– Подожди… Андрей… – внезапно севшим голосом выдохнула она, но сама не смогла себя сдержать: коротко всхлипнув, Лена повернулась к нему ягодицами, прогнулась в спине и чуть наклонилась вперед, раздвигая ноги… Обнорский ворвался в нее сзади, придерживая Лену одной рукой за груди, а другой за живот.
Нет, все-таки с ним творилось явно что-то необычное – он старался двигаться очень осторожно и все время думал о том, насколько хорошо и приятно ей, – с другими женщинами Андрей был раньше намного более эгоистичен. Задыхаясь от переполнявшего его желания, он все-таки сумел дождаться, пока кончит она, и лишь потом позволил улететь себе, бормоча что-то бессмысленно-ласковое на трех языках сразу… Он долго не выходил из нее, а потом поднял Лену на руки и отнес на кровать, сам присел на краешек и легко погладил ее по волосам:
– Леночка… Можешь мне не верить, но я все эти годы вспоминал о тебе… Какое счастье, что мы встретились…
Не надо было ему произносить слово «счастье» – оно, словно какой-то звуковой код, сразу вызвало воспоминание об Илье, прошедшее черной стрелой через мозг Обнорского. Новоселов уже никогда не сможет испытать счастья слияния с желанной женщиной – в лучшем случае ему уготован вечный покой. И Андрею счастья не видать – пока он не сделает то, что должен сделать. Должен.
Лена словно почувствовала возникшее напряжение, дотронулась прохладными пальцами до его лица и тихо спросила:
– Что с тобой? Тебя что-то гнетет? Ты как будто ушел куда-то…
Обнорский долго молчал, повернув к окну закаменевшее лицо. Наконец он вздохнул и сказал то, чего говорить не хотел и не собирался:
– У меня был друг… Еще с тех времен, с Адена. Два с лишним месяца назад он умер – здесь, в Триполи, в своей квартире. Якобы покончил с собой – письмо оставил…
Лена молчала, ее пальцы чуть подрагивали на бедре Андрея. Обнорский нагнулся, поднял с пола пачку сигарет, щелкнул зажигалкой и продолжил:
– Я в самоубийство не верю. Во-первых, не таким он был парнем, чтобы вот так, как таракана, газом себя травить… А во-вторых, в письме этом есть одно очень странное место, как будто он сигнал тревоги подавал… Такие вот пироги…
Сигарета сгорела до фильтра в несколько затяжек, но Андрей не замечал этого, продолжая неподвижно сидеть, глядя в темноту за окном.
– Может быть, тебе стоит поговорить об этом с вашим офицером безопасности? – еле слышно спросила Лена.
– Нет, – покачал головой Обнорский. – Не стоит. Во всяком случае, пока. В этой истории слишком много непонятного. Сам Илья говорить с особистом не стал – возможно, просто не успел, но может быть, и не хотел. Я не знаю почему, но думаю, что какие-то основания для этого у него были. Поэтому я должен сначала попробовать разобраться сам. Понимаешь?
Лена неуверенно кивнула:
– Понимаю… Он был очень… дорог тебе?
Андрей грустно усмехнулся и полез за новой сигаретой:
– Дорог… Да, наверное, можно сказать и так, хотя одним словом всего не объяснишь. Илья в Йемене мне жизнь спас… Хотя не в этом дело… Понимаешь, он таким парнем был… Настоящим. Мы не виделись несколько лет, только перезванивались – и то уже здесь, в Ливии… Но это ничего не меняет. Знаешь, только после его смерти я понял, кем он был для меня все эти годы. Жаль, что все это понимаешь, когда человека уже нет… Я… Я должен все проверить и выяснить. Потому что он поступил бы именно так. Я это знаю.
Андрей говорил короткими фразами, впервые формулируя вслух мысли, не дававшие ему покоя с того самого дня, когда он пришел на могилу Новоселова на Домодедовском кладбище. Говоря, он испытывал очень странное, труднообъяснимое ощущение – словно с каждым произнесенным словом постепенно освобождается от чего-то, от какого-то морока, злого заклятия… Он словно просыпался после многолетней тяжелой спячки, чувствуя, как вливается в него некая странная сила…
Лена села на кровати и обняла Андрея, прижимаясь грудью к его плечу:
– То, что ты хочешь сделать… Это опасно?
Обнорский пожал плечами и осторожно убрал упавшую Лене на лоб длинную светлую прядку волос:
– Не знаю, хорошая моя… Может быть.
Она коснулась губами его щеки и прошептала:
– Андрей… Я могу тебе как-то помочь? Я очень хотела бы…
– Ты? – удивился Обнорский. – Ты мне и так уже очень помогла, Леночка. Тем, что мы встретились. Тем, что мы вместе…
Внезапно он осекся: ему пришло в голову, что в складывающейся ситуации ему вполне мог бы пригодиться экстренный канал связи с Союзом – мало ли что там может понадобиться. А Лена как раз таким каналом вполне могла бы быть… Он не успел додумать эту мысль до конца – вдруг стало стыдно, что он, начиная просчитывать возможные варианты, отводит Лене роль какого-то канала… Вовлечь ее в эту историю означало бы подвергнуть возможной опасности. Но такой случай… А если действительно что-нибудь понадобится?
Он посмотрел ей в глаза – в темноте они казались еще больше, чем на свету, – и, мысленно ругая себя последними словами, медленно сказал:
– Не знаю… Посмотрим, как карта ляжет, может, и действительно…
Обнорский снова замолчал, раздираемый противоречивыми чувствами. Нет, все-таки сильно он изменился с тех пор, когда шесть лет назад впервые увидел Лену… Она словно поняла его сомнения и прижалась к его плечу еще сильнее:
– Не думай ни о чем. Делай то, что считаешь нужным. Я с тобой ничего не боюсь – и тебе легче будет, если ты будешь знать, что не один. А я теперь в Триполи часто бывать буду – в Шереметьеве блат появился, можно попользоваться… И ребята из экипажа только рады будут – нам ведь за каждый день здесь суточные в валюте идут, за такие пересменки наши на что угодно готовы.
Обнорский поцеловал ее в губы и крепко прижал к себе. Лена, задохнувшись от поцелуя, тихонько вскрикнула и засмеялась:
– Ох! Раздавишь же! Если тебе силу девать некуда, то я найду ей лучшее применение.
– Это пожалуйста, это сколько угодно, красавица ты моя неземная, – забормотал Андрей, осторожно пытаясь ладонью раздвинуть ей ноги.
Но на этот раз Лена вывернулась из его рук и вскочила с кровати:
– Нет, все, хороший мой, а то я сознание потеряю… Да и наши уже вот-вот должны вернуться. Не торопись, у нас с тобой не последний раз… Я тебя теперь так просто не отпущу, имей в виду.
– Не отпускай, – улыбнулся Андрей, нагибаясь с кровати к разбросанной на полу одежде. – Тебе я сдаюсь без боя.
– Посмотрим, посмотрим, – шутливо проворчала Лена, ловко и быстро приводя себя в порядок, надевая юбку и свитер прямо на голое тело. – Все вы так говорите…
И снова Обнорского кольнула ревность – он, конечно, понял, что она шутит, но от последней ее фразы ему вдруг представились какие-то другие мужики, непонятно что говорящие женщине, которую он не хотел отдавать никому. Лена эту реакцию заметила и улыбнулась довольно и лукаво:
– Хочешь выпить? – Она отошла к небольшому серванту в углу комнаты и открыла дверцу бара – в нем стояло несколько весьма аппетитных на вид бутылок.
Выпить Обнорскому очень хотелось, и он уже было кивнул, как вдруг словно со стороны услышал свой собственный голос:
– Нет. Спасибо, но я, пожалуй, уже попил – на много месяцев вперед. Пора трезветь. А откуда, кстати, такое богатство? В Джамахирии сухой закон отменили?
Лена рассмеялась и закрыла бар:
– Это нам из посольства подкидывают, у дипломатов особое снабжение… Они – нам, мы – им что-нибудь из Союза привозим. Натуральный обмен…
Прощаясь, они еще долго целовались, договаривались встретиться на следующий день, потом Андрей ушел с виллы, так и не увидев на ней никого из сотрудников Аэрофлота. До гостиницы он добрался уже во втором часу ночи. В администраторской, мимо которой ему пришлось пройти, несмотря на позднее время, еще сидела Алла Генриховна. Супруга начфина окинула его осуждающим взором, но ничего не сказала.
Дома так никого и не было – Кирилл, видимо, где-то загулял, – и Андрей, в одиночестве наскоро перекусив на кухне, лег спать. В эту ночь он спал спокойно и глубоко, кошмары не потревожили его ни разу.
Утром его разбудил протяжный крик муэдзина, вылетавший из динамиков новой, недавно построенной напротив гостиницы мечети. Андрей вскочил с постели, быстро умылся и побежал в столовую на завтрак. Кормили в столовой очень даже неплохо, официантками, поварихами и посудомойками здесь работали жены советских офицеров. Чтобы получить место в столовой, им приходилось по несколько месяцев простаивать в своеобразной «живой очереди». Как ни малопрестижна была эта работа для женщин, большинство из которых имели институтские и университетские дипломы, но все же за нее платили какие-то деньги, ну и, опять же, время шло быстрее. Ведь если только сидеть в квартире и ждать мужа с работы – свихнуться от скуки можно.
После завтрака Обнорский заскочил в Аппарат, узнал, что его официальное представление генералу Кипарисову и полковнику Сектрису состоится в 16.00, и вернулся в гостиницу. В своей комнате он сел за маленький письменный стол, положил перед собой чистый лист бумаги, авторучку, достал сигарету и глубоко задумался. Фактически он оказался в роли сказочного персонажа, перед которым стояла задача «пойти туда – не знаю куда, принести то – не знаю что». И тем не менее с чего-то надо было начинать.
Обнорский нарисовал в центре листа большую букву «И» и закурил, глядя на нее. Неожиданно ему вспомнились слова большевистского лидера Кирова. Много лет назад в турпоездке в заполярном Кировске Андрея от скуки занесло в домик-музей Сергея Мироновича, где он, слоняясь по комнатам, наткнулся на плакат с цитатой: «Гора только издалека кажется неприступной, а подойди к ней, начни взбираться – сам не заметишь, как окажешься на вершине». А большевики, надо отдать им должное, цели достигать умели.
Цель. Нужно определить цель…
Обнорский обвел букву «И» квадратной рамкой и начал внутренний разговор с самим собой:
«Итак… Вариант добровольного самоубийства мы отбрасываем. Значит, Илью вынудили уйти из жизни. Кому и зачем это могло понадобиться? Ливийцы… Нет, в это как-то не очень верится… Если Илья, предположим, выполнял какую-то деликатную работу, не понравившуюся местному Истихбарату, не стали бы они гасить его так – слишком сложно, слишком мудрено. Если уж они действительно решили бы Илью убрать (хотя зачем – выгоднее же задержать, подловив на чем-нибудь, а потом торговаться с советской стороной), то, скорее всего, был бы вариант «несчастный случай» или – нападение на улице каких-нибудь уголовников… Тем более что Новоселов умер в выделенной ему квартире в советском городке в Гурджи – там же все на виду, все друг друга знают… Чужих ливийцев обязательно заметили бы… А если они наехали на него где-то в другом месте? Шантажировали? Ну да, а потом отпустили домой, чтобы он там газом подышал, – нет, это ерунда, Илья обязательно пошел бы к особисту. Да и вообще – не стал бы Истихбарат такой дурью маяться… Всякое, конечно, бывает, но это направление маловероятно. Маловероятно…»
Андрей встал из-за стола и начал ходить по комнате из угла в угол.
«Продолжим. Предположим, его убрали наши… Зачем? Допустим, Илья сунул нос куда-нибудь не туда, Системе это не понравилось и… Могли наши комитетчики или грушники сварганить инсценировку самоубийства? Теоретически, конечно, могли, эти ребята еще и не такое могут… Но опять же – зачем? Зачем Системе городить такой огород, если Новоселова легко можно было бы просто отозвать из Ливии в Москву под каким-нибудь предлогом, там все, что нужно, из него выпотрошить и уж только потом… Это если Илья где-то перебежал дорогу конторе, то есть организации… А если он влез в частные дела каких-нибудь частных лиц? Вот тут уже теплее… Частная инициатива – это совсем другое дело, за частной инициативой не стоит Система, а только в лучшем случае несколько человек… Частная инициатива…»
Обнорский снова сел за стол и обхватил голову руками.
«Здесь у меня появляется хоть какой-то шанс. Систему в одиночку не переиграешь, это только в фильмах бывает, а вот частника… С частником можно попробовать потягаться… А вдруг это все-таки Система?..»
Андрей закурил новую сигарету и откинулся на спинку стула. Никакого опыта оперативно-следственной работы по раскрытию убийства (а вынуждение к самоубийству – это то же самое убийство) у него не было. Правда, в отпуске он все же не только пил водку, но и осторожно попытался проконсультироваться по методике раскрытия преступлений у Сереги Челищева (он все же следователем горпрокуратуры работал, как раз, кстати, убийства расследовал) и Женьки Кондрашова – опера угрозыска. Ребята думали, что Обнорским движет обычное любопытство дилетанта, и отвечали на его вопросы в основном шуточками, но, тем не менее, что-то все же рассказали.
Как там у них по науке-то? «„Сначала нужно танцевать от места совершения преступления“, – так, кажется, Серега говорил? Значит, нужно внимательно осмотреть квартиру Ильи? Это нам не подходит. Осматривать нужно было сразу после его смерти, а сейчас там уже другая семья живет, квартир в Гурджи не хватает… Стало быть, место осматривать мы не будем – и смысла особого нет, и реальной возможности. Нет, можно, конечно, познакомиться с семьей, которая там теперь, напроситься в гости… Но – смысл? Только время тратить и ненужные подозрения у разных людей вызывать… Так… Поехали дальше. „Отработка ближайшего окружения“… Мне нужно шаг за шагом изучить весь образ жизни Илюхи в Триполи, узнать, как к нему относились, были ли у него какие-то конфликты, установить его знакомства… Необходимо узнать, замечал ли кто-нибудь в его поведении какие-то отклонения от нормы, а если такие случаи были – чем они вызывались… Хорошо. Но начинать нужно все-таки с его контактов…»
Обнорский нарисовал вокруг буквы «И» несколько квадратиков и провел к ним стрелки.
«Контакты… Какие проблемы у меня могут быть при выявлении круга его знакомств? Самые очевидные: во-первых, если начать спрашивать всех подряд, у меня могут резонно поинтересоваться – твое-то какое дело, милый? Может возникнуть такой вопрос? Элементарно… Во-вторых, народ здесь зашуганный, хабиры запросто меня за шпиона примут и особисту стуканут – со всеми, как говорится, вытекающими… Надо это мне? Нет, мне это как раз не надо. Значит, интересоваться нужно осторожно, как бы случайно, невзначай…»
Андрей глубоко вздохнул: «Хорошо киношным сыщикам: пришел к людям в пиджаке, с галстуком и красной книжкой, скроил морду позначительнее – и всё тебе немедленно рассказывают… А здесь – попробуй-ка… Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что…»
Обнорский вдруг почувствовал, как на него наваливается усталость, видимо, этим и воспользовалась подленькая мысль, скользнувшая в мозг: «А может, и не стоит во всем этом копаться? Илью уже не вернешь, стена лбом не прошибается…»
Андрей вскочил и сердито замотал головой – мыслишка сразу же исчезла, словно испугалась его реакции. Обнорский помахал руками, поприседал, несколько раз нанес удары ногами невидимому противнику и почувствовал, что кровь быстрее побежала по жилам. Он сходил на кухню, включил электрочайник и бросил в найденную в буфете чашку две ложки растворимого кофе, привезенного из Союза.
Горячий кофе (хоть и дерьмовый) взбодрил его. Андрей вспомнил, какой кофе они с Ильей пили в Йемене – настоящий, крепкий, после маленькой чашечки, выпитой в пять вечера, трудно было уснуть и за полночь…
Он вернулся к столу и снова склонился над листом бумаги.
«Допустим, Илюхины связи я потихонечку установлю. Что дальше? Как пишут в детективах, нужен мотив убийства. В нашем случае – мотив доведения до самоубийства, что сути дела не меняет. Все равно все упирается в мотив. Мотив… В нем ключик к разгадке, только где его искать? Кому мог помешать Илья? Из-за чего вообще убивают?»
Андрей нарисовал в свободном нижнем углу листа цифру «1» и прикрыл глаза.
«Во-первых – из ревности. Ребята говорили, что этот мотив до сих пор один из самых популярных. Мог Илья здесь с кем-нибудь схлестнуться из-за какой-нибудь женщины? Маловероятно, но мог. Сколько он здесь успел пробыть? Почти четыре месяца. Вполне достаточный срок, чтобы сперма в башку ударила, – тем более что именно в первые месяцы тяжелее всего без бабы. Потом как-то привыкаешь, а сначала – просто беда. Ну предположим, не удержался и трахнул здесь кого-то, чью-нибудь жену. Об этом узнал муж и… И что? Уговорил уйти из жизни, чтобы не разрушалась ячейка советского общества? Бред какой-то. Не складывается. Хотя…»
Обнорский вдруг вспомнил две переводческие байки, рассказанные ему кем-то из коллег в Краснодаре. В одной речь шла о жене какого-то хабира, которая в кого-то втрескалась и на этой почве однажды застрелила собственного мужа из его же пистолета. Самое любопытное заключалось в том, что вся эта история впоследствии была представлена самоубийством. Андрей уж и не помнил, как этой женщине удалось выкрутиться, но ее в результате никто ни в чем обвинить не смог. Или не захотел… Скорее всего не захотели «волну поднимать», все-таки самоубийство – это, конечно, плохо, но убийство в группе советских специалистов за рубежом – просто полный мрак.
Вторую байку он помнил лучше, ее рассказывал тот самый майор Доманов, который объяснял Андрею тонкости, связанные с возрастом женщин. Дело было, кажется, в Сирии. Или в Ираке? Не так уж это и важно. Короче говоря, у одного веселого парня, молодого перспективного военного переводчика, начался роман с женой некоего хабира, причем дама была уже, что называется, не девочкой – чуть ли не на пятнадцать лет старше этого переводяги. В общем, трахались они себе и трахались, все было очень хорошо, пока срок командировки переводчика не подошел к концу. В день отъезда собрал он чемоданчики и из дома вышел к автобусу – в аэропорт уже пора было отправляться, – а в этот момент хабирша, любовница его, с восьмого этажа головой вниз ему под ноги бросилась. Она в том же самом доме жила, что и парень этот… Хабирша, естественно, умерла – до больницы довезти не успели. А переводягу отовсюду поисключали-повыгоняли, говорят, он спился потом совсем… Больше всего в этой грустной истории Обнорского, помнится, поразило то, что так же повыгоняли-поисключали отовсюду и мужа – хотя его-то вроде бы за что? За утраченную бдительность и халатность, приведшую впоследствии к гибели члена семьи военнослужащего?
Андрей грустно усмехнулся – тут ему в голову полезли еще какие-то байки переводяг про любовь и ревность: как в Мозамбике «шведская семья» образовалась, как в Алжире два старших лейтенанта женами махнулись, вспомнилась и йеменская дуэль на топорах двух летчиков из Бадера. В общем, не стал Обнорский зачеркивать нарисованную на листе цифру «1», но рядом с ней поставил вопросительный знак.
Нарисованная им под единицей двойка обозначала убийство из корыстных соображений.
«Это совсем нереально. Что с Ильи было взять? Йеменские денежки у него давно кончились, на „Выстреле“ он получал – только-только на еду хватало, а в Ливии всего ничего пробыл. Не на что у Новоселова было зариться. Если он только не нашел древний финикийский клад где-нибудь в Сабрате во время экскурсии[94]. Нет, денег у Ильи быть не могло – таких, чтобы из-за них его на тот свет отправить…»
Андрей тонкой линией перечеркнул двойку и нарисовал цифру «3».
«А если все-таки спецслужбы? Новоселов был ключевым фигурантом в какой-нибудь сложной комбинации, и… И что? Нет, это ерунда. Не такой уж важной птицей был Илья… Какие, в жопу, спецслужбы? Он был обычным переводчиком, сидел себе на „Выстреле“, потом поехал в Ливию на заработки… Если бы он после окончания ВИИЯ попал бы в ГРУ или КГБ, то обязательно на пару лет исчез бы из поля зрения, а он никуда не исчезал – ребята от него регулярно приветы передавали… Малореально».
Перечеркивать тройку Обнорский все же не стал, но поставил рядом с ней два вопросительных знака, обозначавших крайнюю степень сомнения.
«Но что же тогда? Если не ревность, не корысть и не спецслужбы – тогда что? Что-то другое. Другое…»
Андрей нарисовал цифру «4» и несколько раз подчеркнул ее… Ответ на вопрос, чем могло быть это «другое», надо было искать в связях Ильи.
Круг замкнулся, не принеся Обнорскому никаких открытий. Он почувствовал, как его неудержимо потянуло в сон, и решил прилечь на кровать – вроде и не делал ничего, только за столом сидел и из угла в угол ходил, а вымотался так, будто огород перекапывал. Даже в пот бросило…
Уже задремывая, Андрей задал себе еще один вопрос:
«Как все-таки можно было заставить Илью добровольно покончить с собой прямо накануне приезда в Триполи Ирины? Ирина…»
Какая-то мысль мелькнула у него в мозгу, но уцепиться за нее Обнорский не успел – он уже спал, свесив с кровати руку…
Во сне он увидел Назрулло и Илью – они сидели в каком-то огромном зале за столом из черного мрамора и играли в коробок. Андрей попытался крикнуть им что-то, но у него пропал голос, махнуть рукой тоже не получилось – не поднималась рука… А ребята не замечали его – подкидывали коробок один за другим над черной полированной поверхностью и беззвучно смеялись – молодые, красивые, оба в чистой йеменской песочной форме… Обнорский, не предпринимая больше попыток привлечь их внимание, долго смотрел на ребят, пока их фигуры не растаяли в появившемся откуда-то в зале голубоватом тумане. Андрею не было страшно, хоть он даже во сне помнил, что Илья и Назрулло – уже в стране мертвых. Обнорский только удивился, что они сидят вместе, – ведь один был потомком христиан, другой – мусульман. Вроде бы разные у них загробные миры должны быть… Или не добрались до них еще ребята, ждут чего-то?..
Разбудил его громкий стук в дверь – Андрей ошалело подскочил на кровати и бросился открывать. На пороге его комнаты стоял незнакомый парень в ладно сидящей светлой легкой форме, естественно, без знаков различия. Парень был на полголовы пониже Обнорского, его, наверное, можно было бы назвать красивым, если бы не излишняя рыхлость фигуры и чуть слащавое выражение лица. Кудрявые темно-русые волосы и розовые гладкие щеки делали его похожим на слегка повзрослевшего херувима. Херувим протянул ему руку и улыбнулся, обнажая мелкие ровные зубы:
– Здорово! Обнорский? Меня Кириллом зовут, соседями теперь будем!
Выродин излучал дружелюбие и приязнь радушного старожила к новому соседу. Однако долгого разговора по случаю знакомства не получилось – Кирилла, оказывается, поймали по дороге в гостиницу, референт велел посмотреть, не уснул ли там Обнорский: через пятнадцать минут его Кипарисову с Сектрисом представлять, а его все еще нет в Аппарате.
Андрей глянул на часы и чертыхнулся – долго же он проспал – на обед опоздал, на представление начальству почти опоздал. За минуту он переоделся в такую же, как у Кирилла, светлую форму: несмотря на то что на дворе стоял октябрь, в Триполи было еще довольно тепло. Застегивая на ходу широкий ремень брюк, Обнорский помчался вниз по лестнице и выскочил из гостиницы, едва не сбив с ног степенно входившую в нее Аллу Генриховну, – разминуться удалось в последний момент. Впрочем, если бы они столкнулись, то неизвестно еще, кто кого сбил бы с ног, – монументальные формы супруги начфина навевали ассоциации с гордым авианосцем, который не протаранить всяким там крейсерам…
Петров только укоризненно головой покачал, когда Андрей, запыхавшись, ввалился в референтуру. Обнорский оправил рубаху, пригладил волосы и развел руки:
– Виноват, товарищ подполковник, сморило…
Референт хмыкнул и повел его в генеральскую приемную, там еще никого не было, но генералы и полковники – они ведь не опаздывают, а задерживаются…
Церемония представления новому начальству прошла довольно быстро – генералу Кипарисову явно было не до какого-то там переводчика, поэтому официальная часть завершилась за три минуты. Зато полковник Сектрис, попросивший звать его Романом Константиновичем, после того как ушел генерал, не отпускал Андрея долго – расспрашивал о его биографии, о родителях, жене; много и высокопарно рассказывал о задачах пехотной школы в деле строительства ливийских вооруженных сил. Обнорский кивал, стараясь вовремя подавлять зевоту и делать вид, что ему очень интересно. Полковник и впрямь был «душевным дедушкой» – есть такой тип полковников, они своим ласковым занудством способны довести подчиненных до истерики быстрее, чем иные солдафоны – матерным рыком.
Освободился Андрей только в шесть вечера, когда к Аппарату подъехал советский «пазик» с русским водителем, забиравший всех гурджийских из Хай аль-Акваха. Не евший с самого утра Обнорский с удовольствием поужинал в столовой и пошел переодеваться в гражданку – вечером его ждала Лена, и от предвкушения встречи Андрею хотелось петь…
Правда, на этот раз на втором этаже виллы было довольно людно – в комнату Лены Обнорский прошмыгнул незамеченным, но за дверьми остальных комнат слышались голоса и смех.
– Наши гуляют, – пояснила Лена. – У инженера день рождения, я сказала, что у меня голова болит… Но все равно надо будет зайти – неудобно…
Обнорский сморщил нос и с намеком посмотрел на кровать – Лена замахала руками:
– Ты что, слышно же будет, у меня командир строгий…
Но Андрей смотрел на нее такими умоляющими глазами, что она не выдержала и согласилась:
– Ну что с тобой делать? Подожди, я сейчас дверь закрою… Только ради бога – тише…
– Как закажете, мадам, – шепотом возликовал Обнорский. – Могем медленно и печально, но с сохранением качества. Владеем новейшими технологиями.
Лена фыркнула и, закрыв дверь на два оборота ключа, начала медленно раздеваться.
– Что-то ты быстро резвиться начал, паренек… Вчера пэкал, мэкал, заикался, стеснялся, а сегодня – смотри-ка… Просто Казанова какой-то… и откуда что берется?
– Это у меня как раз от скромности, – пояснил Обнорский. – Ее, так сказать, обратная сторона.
Его голос осекся, потому что она как раз в этот момент расстегнула лифчик. Андрею стало трудно дышать, ему уже было не до ерничества. Лена, прекрасно видя, какое впечатление производит на парня ее обнаженная фигура, казавшаяся в полумраке комнаты матовой, насмешливо прищурилась и прошептала:
– Ну что же вы замолчали, молодой человек? Юмор иссяк? Одна скромность осталась? Так мы не договаривались… Где же ваши «новейшие технологии»? Обманули бедную девушку, а я вам так верила…
Обнорский шагнул к ней и закрыл рот поцелуем, потом легко поднял ее на руки и начал покачивать.
– Осторожно, что ты… Уронишь, я ведь тяжелая… Андрей…
– Не уроню… Своя ноша, как известно… Леночка…
В этот раз они отдавались друг другу настолько бережно и осторожно, замирая от малейшего скрипа кровати, что изнемогли намного быстрее, чем накануне. Лена душила свои всхлипы и стоны подушкой, а Обнорский до боли стискивал зубы, чтобы не потерять окончательно голову и не зарычать от избытка переполнявших его эмоций…
Когда они оба уже не в силах были даже пошевелиться, Лена, обнимая его за шею, прошептала:
– Завтра покомфортнее будет… У нас здесь в саду есть маленький гостевой домик – для начальства. Но поскольку начальство из Москвы наезжает раз в год по обещанию, он почти все время стоит пустой. Чистоту и порядок в нем поддерживает моя давняя подружка – она раньше тоже стюардессой летала, пока за одного нашего чиновника не выскочила, теперь вместе с ним тут, в Триполи, второй год уже… Я с ней почти договорилась – завтра она мне ключи даст, только свет там просила не зажигать, чтобы никто ничего не заметил…
– Круто… Это просто круто, воздухоплавающая ты моя… И везде-то у нее блат – и в Москве, и здесь, в Триполи, просто диву даешься, откуда такие возможности у скромной стюардессы… Это подозрительно, гражданочка, это наводит на размышления… Может, ты шпионка?
Андрей балагурил и дурачился, как ребенок, целуя ее живот и груди, – ими он был настолько увлечен, что не заметил странного, напрягшегося при последних его словах взгляда, которым она посмотрела ему в затылок… Впрочем, возможно, напряжение это было вызвано необходимостью очередной раз сдержать стон – язык Обнорского как раз добрался до ее крупных коричневых сосков, и Лена снова начала задыхаться…
В гостиницу он вернулся уже за полночь – завел будильник на половину шестого утра, чтобы успеть помыться, побриться и позавтракать до того, как за ним заедет автобус, доставлявший каждый день к месту службы преподавателей и переводчиков пехотной школы, и бухнулся в постель.
В комнате Кирилла Выродина было темно и тихо – то ли лейтенант снова где-то бродил по гостям, то ли уже спал… «Надо будет побыстрее поговорить с ним об Илье… Они же на одной базе работали», – успел подумать Обнорский, уже засыпая.
В оставшиеся до отлета Лены из Триполи дни Обнорский крутился так, что даже не успел заметить, как они пронеслись. Ранним утром он уезжал вместе со своими новыми коллегами в пехотную школу и до часу дня переводил там для офицеров ливийской армии лекции по тактике, технике, вооружению и огневой подготовке. В школе работали пятнадцать советских офицеров-преподавателей и пять переводчиков. Поскольку преподаватели читать лекции без переводяг не могли, получалось, что загружены они ровно в три раза меньше, чем коллеги Обнорского. Впрочем, полковник Сектрис не давал скучать своим подчиненным, свободным от занятий, – то заставлял рисовать какие-то схемы, то сам проводил с ними занятия, то выдумывал еще чего-нибудь. Роман Константинович очень боялся, как бы ливийская сторона не заподозрила его коллектив в бездельничанье и не отказалась бы от советских преподавателей, хотя ливийцам, судя по всему, все эти занятия были «до глубокого фонаря».
– Поймите, товарищи, – каждый день напутствовал Сектрис свой коллектив на новые свершения. – Два государства сразу оказали нам большое доверие. И мы должны его всячески оправдывать…
В принципе, народ в школе подобрался неплохой – хабиры уважали переводчиков, видя, как они пашут, работали все нормально и спокойно, особых интриг и драм Андрей в первые дни не заметил, да и некогда было замечать: в короткие перерывы между лекциями он успевал лишь выкурить сигарету и выпить чашку чаю или кофе.
В гостиницу он возвращался около двух часов дня, переодевался и ходил знакомиться с ее обитателями, стараясь показаться своим парнем и произвести приятное впечатление. Об Илье он сознательно пока разговоров не заводил, чтобы не насторожить раньше времени своих новых знакомых. Буквально через несколько дней нового переводчика пехотной школы знало чуть ли не все советское население квартала Хай аль-Аквах. Как ни странно, меньше всего за это время Андрею удалось пообщаться со своим соседом – лейтенант Выродин словно специально избегал его, в квартире появлялся редко, а порой и не приходил ночевать.
Правда, вскоре выяснилось, что в аппаратском квартале жили два семейных однокурсника Кирилла, попавшие, как и он, сразу после окончания ВИИЯ в Ливию, только к этим ребятам вскоре приехали жены. Андрей решил, что его сосед пропадает вечерами у своих друзей, – холостяки всегда тянулись к семейным, спасаясь от тоски одиночества. Кирилл, кстати, судя по обручальному кольцу на правой руке, и сам был женат. Обнорский удивился было, почему его супруга не приезжает к мужу, но потом вспомнил свою собственную эпопею с Виолеттой и удивляться перестал – мало ли какие обстоятельства могли возникнуть в семейной жизни лейтенанта, в каждой избушке свои погремушки…
Вечерами Андрей несся к своей стюардессе. Лена действительно получила ключи от гостевого домика, ставшего их гнездышком. За неделю работы на новом месте и любовных утех (тоже на новом месте) Обнорский похудел на несколько килограммов, осунулся, но зато по ночам его больше не мучили кошмары. Возвращаясь с аэрофлотской виллы в гостиницу, Андрей сразу падал в кровать и спал без задних ног, с трудом просыпаясь утром от звонка будильника…
Когда наступил вечер последнего свидания с Леной (на следующий день она вместе с экипажем улетала в Москву, а вернуться могла не раньше чем через три недели), Обнорский втайне даже от самого себя вздохнул с облегчением. Нет, конечно, красавица стюардесса ему ни капельки не надоела, отнюдь. Более того, с каждой новой встречей Андрей все сильнее прикипал к Лене, все сложнее им было насытиться друг другом хоть на несколько часов, они оба как с цепи сорвались, и это безумие не проходило, наоборот, засасывало их все глубже и глубже… Все это прекрасно, но Обнорскому было просто физически тяжело биться сразу на трех направлениях…
После того как Лена улетела, он наконец выспался от души, а отоспавшись, немедленно снова начал грезить о стюардессе… Правду говорил в Москве Серега Вихренко, когда они перед отлетом Обнорского в Триполи решили «снять» девок в кабаке: «Как показывает практика, про запас все равно не натрахаешься».
За время отсутствия Лены Андрей окончательно вошел в новый коллектив и полностью освоился в Триполи. На работе у него никаких особых проблем не возникало, Обнорскому даже нравилось переводить лекции изо дня в день, особенно полюбил он тактику – ее преподавал подполковник Сиротин, милый, приятный в общении человек, рассказывавший о своем предмете просто и интересно. Андрей очень удивился, когда узнал, что с восемьдесят третьего по восемьдесят пятый год Михаил Владимирович Сиротин командовал мотострелковой ротой в Афганистане. В принципе, Обнорский обычно безошибочно вычислял людей, опаленных войной, определял их по выражению глаз, иногда ему хватало одного взгляда на человека, чтобы понять – этот где-то хлебнул лиха полной ложкой. Сиротин был исключением, его глаза не таили в своей глубине отблеска скорби и жестокости, а сам он производил впечатление очень доброго и мягкого человека. Михаил Владимирович симпатизировал Андрею и старался так составить расписание своих лекций, чтобы переводил их Обнорский.
Что касается попыток Андрея выявить какие-то отклонения от нормы в поведении Ильи Новоселова в последний месяц его жизни, то явных успехов у него пока не было. Илью знали почти все специалисты и переводчики, работавшие в Триполи, он был парнем общительным и веселым, легко шел на контакты и разговоры. Безусловно Обнорский не мог переговорить со всеми, с кем Илья хотя бы раз вступал в контакт, это было просто нереально, поэтому Андрей составил списки трех групп: коллеги Новоселова по работе на авиабазе «Майтига», его соседи и приятели в период, когда он холостяковал в гостинице, и его знакомые и соседи по последним двум неделям, когда Илье выделили квартиру к приезду Ирины в советском городке в Гурджи.
«Отработав» почти треть людей из составленных им списков, Обнорский ничего интересного не узнал – Илья во всех своих поступках был абсолютно нормален, спиртным не злоупотреблял, любил посидеть в компаниях, потрепаться за жизнь, попеть песни под гитару. Все отмечали его заразительную энергию и смешливость. Ни в какие конфликты ни с кем Новоселов не вступал и денег ни у кого не занимал. Что касается женского пола, то, как сказал Андрею Володька Крылов, переводчик из Управления ракетных войск и артиллерии, с которым вместе Илья холостяковал в гостинице, перемигивался Новоселов с одной майоршей, официанткой из столовой, но дальше этого дело, судя по всему, не продвинулось. Илья был достаточно откровенным с Володькой, учившимся в ВИИЯ на курс позже; в принципе, он был бы не прочь по-тихому перепихнуться с этой майоршей, но его тормозил старый принцип – «не сри, где живешь». Новоселов ждал свою Ирину, надеялся на ее скорый приезд и заводить в этой ситуации роман остерегался – русские жили в Триполи как в деревне, где очень трудно утаить шило в мешке, вдруг потом кто-то что-то сказал бы Ирине, а жену свою Илья очень любил. Получив за две недели до своей гибели и приезда жены четырехкомнатную квартиру в Гурджи, Новоселов почти все свободное время тратил на ее ремонт и обустройство, доводя загаженное несколькими поколениями переводчиков жилище до почти идеального состояния: мыл стены, подбеливал потолки, подклеивал кафель в ванной, крутил какие-то абажурчики для настольных ламп и настенных бра… Илья работал настолько истово, что уже за четыре дня до приезда Ирины квартира сияла, как настоящий дворец, – по словам Крылова, в ней было «чисто, как в операционной». Получалось, что у Ильи просто физически не могло быть времени ни на тайные романы, ни на какие-то интриги-конфликты. Занят был человек – готовился к приезду жены. Готовился, готовился, а потом – взял и отравился… Почему?
Несмотря на то что первые беседы с людьми из составленных Андреем списков ничего особенно интересного не дали, он не сомневался, что рано или поздно натолкнется хоть на какую-то зацепку. В конце концов, Илья, при всей своей положительности и уживчивом характере, был все-таки не ангелом, и уж Обнорский-то знал это прекрасно. Конечно, люди меняются с годами, но не мог же Новоселов превратиться в какого-то толстовца, этакого непротивленца злу насилием. Должен же был ему кто-то не нравиться, кто-то наверняка его раздражал, кого-то он… И вспылить Илья мог, и наговорить резкостей… Просто его смерть произошла еще слишком недавно, и все, с кем беседовал Обнорский, инстинктивно придерживались русской традиции «о покойниках плохо не говорят». Тем более что Новоселов и в самом деле был славным парнем…
Но ведь назвал же он кого-то козлами в своем последнем телефонном разговоре с Обнорским. Кого? Андрей понял, что следует изменить тактику расспросов. Он решил попробовать метод провоцирования собеседника, сознательно отзываясь об Илье не самым лучшим образом. Как ни странно, первая же попытка дала результат.
Случилось это за два дня до возвращения в Триполи Лены Ратниковой. Обнорский заступил тогда помощником дежурного по Аппарату. Дежурными обычно назначали хабиров из числа старших офицеров, а помощниками – переводчиков. Дежурство заключалось в суточном сидении у телефона в зданиях Аппарата, приеме телефонограмм из различных городов и в решении при необходимости различных мелких проблем, возникающих ежедневно в группах советских военных специалистов. Дважды – утром и вечером – дежурный докладывал обстановку Главному, помощник же кроме всего прочего должен был еще слушать местное радио и просматривать газеты, чтобы составить к вечеру сводку последних новостей в Джамахирии. В день заступления в наряд дежурный и помощник, естественно, на основную свою работу не ездили.
Андрей первый раз тогда заступал помдежем в трипольском Аппарате, поэтому его проинструктировал лично референт. Ознакомив Обнорского с его обязанностями и правами, Петров улыбнулся:
– Главное – не дрейфь и смотри на генерала соколом. Побрейся как следует, форму погладь, остальное все по уставу. Шеф, конечно, бывает, что и не с той ноги встанет, но в принципе – дежурный с помощником у нас в Аппарате как часть мебели. Если нет никаких ЧП, то их никто и не замечает. Поскольку у тебя дебют, я тебя специально на такой день в график поставил, чтобы дежурный нормальный попался. С тобой заступает подполковник Бережной из группы ПВО. Он мужик опытный и понимающий, ребята сколько с ним ни дежурили – никогда не жаловались.
Бережной и впрямь оказался абсолютно нормальным мужиком – этаким армейским философом со своеобразным грубоватым юмором. Утром и днем, пока в Аппарате шастало начальство, он преданно ел глазами разных генералов и полковников, вскакивал, истово рапортовал, вытягиваясь в струнку, а когда, ближе к вечеру, все наконец разошлись, подполковник расстегнул пуговицы на форменной английской курточке (в ноябре в Ливии все перешли на зимнюю форму одежды – зеленые короткие кители и того же цвета брюки) и сказал, зевнув:
– Расползлись наконец-то… Дармоеды.
Дармоедами он назвал аппаратчиков не случайно. Дело в том, что ливийцы платили Советскому Союзу деньги только за специалистов и переводчиков, работавших непосредственно в воинских частях и военных учебных заведениях, заключая так называемые дополнительные соглашения на позицию каждого офицера. Создание советского управленческого аппарата местная сторона расценивала как ненужную блажь и, естественно, на его сотрудников никаких допсоглашений не подписывала. Получалось, что Аппарат с его многочисленными полковниками и генералами содержался исключительно за счет тех денег, которые платились за обычных хабиров и переводяг. В Ливии это ни для кого не было секретом, и, естественно, это обстоятельство популярности аппаратских не увеличивало. Их, как и всех штабных, сильно недолюбливали, тем более что сотрудники Аппарата жили в лучших квартирах, ездили на лучших машинах да еще получали продуктовые пайки и так называемую «выписку»[95] из посольства. Аппарат, основной задачей которого было обеспечение нормальной деятельности советских групп на местах, к 1990 году раздулся до размеров мини-министерства, и одновременно произошла окончательная подмена понятий – получилось, что не Аппарат был для специалистов, а специалисты для Аппарата. Единственное, что сотрудники Аппарата отстаивали с поистине героической самоотверженностью, это свои собственные шкурные интересы, на проблемы же простых рабочих лошадок им было трижды наплевать. Когда Обнорский служил еще в Бенгази, было несколько случаев, когда почта, и так-то шедшая из Союза по месяцу-полтора, еще недельки на три задерживалась в трипольском Аппарате – не было прямой оказии, а специально придумывать что-то никто из штабных не хотел, рассуждал просто: «Не бояре, столько ждали – еще подождут». В общем, не любили аппаратчиков в Ливии.
– Как вы можете, товарищ подполковник? – притворно возмутился Обнорский, как раз дописавший сводку новостей. – Это наши кормильцы… Как бы мы без них? Подумать страшно…
Бережной фыркнул и достал сигареты.
– «Кормильцы», – сказал он, закуривая. – Щеки отожрали – со спины видать. Кто чем занимается – не поймешь, но все бегают по этажам с деловым видом, аж пиджак заворачивается. В одном политотделе – пять рыл и цельный генерал! И все пишут какие-то бумажки – жопу от стула оторвать не заставишь. А у нас – ни библиотеки нормальной, ни кино, ничего. У нас в Белоруссии на точке и то больше для личного состава делали, а здесь… – Подполковник махнул рукой. – От такой жизни и впрямь хоть газом травись, как Илюшка Новоселов.
Обнорский вздрогнул, но тут же взял себя в руки и зевнул с деланым равнодушием:
– Все от характера зависит, всегда можно для себя какую-то отдушину найти… А у Ильи, царствие ему небесное, характерец был – не дай бог. Я Новоселова еще по Йемену знал, вместе кувыркались там в восемьдесят пятом, – так он вечно со всеми срался, ни с кем ужиться не мог.
– Да ну? – удивился Бережной. – Быть такого не может… Я, конечно, его особо близко не знал, так, сталкивался иногда – вроде нормальным он парнем был. И мужики о нем хорошо отзывались, всегда поможет, если что: в лавке там чего-нибудь перевести, в магазине… Не то что некоторые… Я тут одного переводчика попросил аннотацию к лекарству прочитать – мне для матери купить нужно было, – а он: «Мне за это деньги не платят». Знаешь, есть такой – Киря Выродин? Его еще Зятьком зовут… А Новоселов – совсем другое дело. Он с людьми всегда по-людски разговаривал… Один только раз я его и видел заведенным: на чем-то он с семейством Рябовых цапнулся – как раз за неделю до того как…
Бережной вздохнул и загасил сигарету в пепельнице.
– Рябов… – задумчиво протянул Андрей. – Это который из разведшколы, что ли?
– Да нет, в разведшколе – Ребцов. А Рябов – он в РВА работал, уехал в сентябре в Союз окончательно. Кстати, говорят, в Питер попал, на артиллерийских курсах теперь преподает. Скользкий был мужичок, все норовил всем аппаратским подряд в жопу без мыла влезть. Зато теперь – в Ленинграде, а не где-нибудь…
– А-а… – равнодушно поддержал тему Обнорский, – понятно… А что Илья с ним не поделил?
– Бог его знает. – Бережной явно был не прочь поговорить – до ужина еще оставалось минут сорок, телефон молчал, начальство отсутствовало, отчего же не потрепаться? – Я на них тогда случайно натолкнулся – в гурджийском городке у волейбольной площадки они стояли. Рябов, жена его и, значит, Новоселов. О чем там у них базар шел, я не слышал, но Илью аж всего перекашивало – он на них чуть ли не орал, прямо пятнами весь пошел. А Рябов и жинка его – кстати, красивая такая телочка, фигуристая, – те у него чего-то просили, Верка вроде даже как плакала, носом все время шмыгала. Ну а меня заметили – и замолчали. Вот это единственный был случай, когда Илья при мне плохо с кем-то говорил, обычно-то всегда улыбается, хохмочки запускает… Наверное, у него тогда уже нервишки пошаливать стали, вот и сорвался… Жалко парня. Чего он такую дурь удумал? Говорят, после Йемена у него крыша малость подтекала, накатывало иногда. А тут еще он с ремонтом этим как сумасшедший завелся – все квартиру пидорил, не отдыхал совсем. Вот и результат. Здесь, чтобы нервы нормальными были, нужно обязательно после обеда поспать часика полтора-два, вечером – партию в волейбол, потом нарды, телевизор – и в коечку. Тогда все о'кей. А надрываться – ни в коем случае, мне врач объяснял, что здесь тридцатипроцентная нехватка кислорода по сравнению с Россией. Деревьев-то нет, пустыня одна кругом. Вот и развивается болезнь такая – гипоксия называется, это типа кислородного голодания, на сердце сказывается, на мозге…
Подполковник говорил что-то еще, но Андрей его уже не слушал.
«Рябов, – повторял он про себя. – Рябов. РВА… Жена Вера. Вот он – конфликт. Только как узнать, о чем Илья с этими Рябовыми говорил, если они уже в Союзе? Просто невезуха какая-то!..»
– А почему Кирилла Выродина Зятьком кличут? Мы с ним в одном блоке живем, только видимся редко… – Обнорский увел разговор от Ильи. Как там Штирлиц говорил? «Запоминается всегда последняя фраза».
– А ты что, не знаешь? – удивился Бережной. – Ну ты даешь, а еще сосед. С таким человеком живешь… Он же за дочку генерал-полковника Шишкарева, замкомандующего сухопутными войсками, замуж вышел.
– Женился, – автоматически поправил Обнорский, но подполковник захохотал и с поправкой не согласился:
– Э-э, нет, сынок, на генеральских дочках не женятся, за них замуж выходят. Если только у тебя самого, конечно, папаша не маршал. Вот так, потому и Зятек твой соседушка. Ты его не обижай. У него и так, наверное, жизнь не сахар…
И Бережной снова захохотал.
Теперь Андрею стало понятно, почему Выродин жил в Триполи без жены, – разве же поедет дочка генерал-полковника в какую-то там занюханную Ливию? Никуда она из Москвы не поедет, кроме Парижа или там Лондона. А Кирилла в Москве было не оставить: в 1987 году вышел приказ министра обороны – не оставлять в столице выпускников московских военных училищ и институтов хотя бы на первые два года офицерской службы. С того времени все генеральские и маршальские сынки и зятьки, молодые лейтенанты, после выпусков обязательно направлялись куда-нибудь в «войска», где должны были получить должное представление о тяготах и невзгодах офицерской службы. «Войска» эти, однако, дислоцировались преимущественно либо в городах типа Ленинграда и Киева, либо за кордоном, в тех странах, где хорошо платят и не стреляют. Ливия, правда, была не самым престижным вариантом – видать, не очень-то любил генерал Шишкарев своего зятька…
Два следующих дня Обнорский наводил справки о семье Рябовых. Больше всего информации он получил, как ни странно, от Сиротина – им опять выпало проводить вместе несколько занятий подряд в пехотной школе. Оказалось, что Сиротин жил в Гурджи в одном подъезде с подполковником Рябовым: квартира Рябовых была на втором этаже, а Сиротиных – на третьем.
– А с чего ты, Андрей, Рябовым заинтересовался? – удивился Михаил Владимирович, когда Обнорский во время перекура между лекциями начал осторожно расспрашивать Сиротина.
– Так, – постарался придать своему лицу безразличное выражение Андрей. – Он в Ленинграде на артиллерийские курсы попал преподавателем, а там – бюро переводов, потому что есть спецфакультет, где иностранцы учатся. Парень знакомый – переводчик с этих курсов – мне написал, интересовался, что за человек… Я обещал поспрашивать.
Сиротин ответом удовлетворился и охарактеризовал Вячеслава Михайловича Рябова коротко:
– Говна кусок. Жмот первостатейный – из-за каждого динара удавиться был готов. И жена его Верка не лучше. В первый год она сюда дочку привезла, а в отпуск съездила – оставили ребенка в Союзе у тетки Веркиной, посчитали, что дите ест много… Они на всем экономили, все доллары накапливали, Слава – тот даже вечером по городку в бэушной форме ходил, как чмошник последний. Из-за таких вот… «офицеров» к нам ко всем отношение как к жлобам законченным… Рябов в Гурджи целый бизнес развернул: понавез из Союза фонариков, фотоаппаратов, кипятильников и все это ливийцам загонял. В Союзе-то все это барахло дешево стоит, а здесь, говорят, один кипятильник можно динаров за пять продать. А пять динаров – это, считай, пятнадцать долларов… Но я со Славой близко не общался. Да они с Веркой ни с кем не общались и в гости ни к кому не ходили, боялись, что придется кого-нибудь потом в ответ приглашать…
Другие источники, в которых Обнорский попытался почерпнуть информацию о чете Рябовых, лишь подтвердили слова Сиротина: Вячеслав Михайлович и его супруга были людьми крайне прижимистыми и малообщительными. О конфликте Ильи с этой парочкой никто ничего не знал, видимо, Бережной оказался единственным свидетелем странной сцены у волейбольной площадки в Гурджи.
Во второй половине ноября в Триполи снова прилетел экипаж, в состав которого входила Лена. На этот раз их пересменка длилась всего два дня, а потом они должны были лететь куда-то в глубь Африки – то ли в Анголу, то ли в Мозамбик – и оттуда уже возвращаться в Москву, но не через Триполи, а через Мальту.
У Лены и Андрея было всего два вечера, и они их провели не вылезая из постели в гостевом домике. Что их описывать, эти вечера? Если бы кровать, предназначенная для высокого аэрофлотского начальства из Москвы, могла бы говорить, она бы, наверное, просто кричала, потому что соскучившиеся друг по другу Обнорский и Ратникова вытворяли на ней такое – куда там всякой итальянской порнухе, не те эмоции…
Перед тем как попрощаться с Леной на очередные несколько недель, Андрей достал из нагрудного кармана незапечатанный конверт с письмом и, запинаясь от чувства неловкости из-за того, что он все-таки втягивает женщину в свои не самые безобидные дела, сказал:
– Лена, помнишь, ты мне сказала, что можешь помочь, если мне понадобится? Насчет друга моего, Ильи Новоселова?
– Да, – ответила Лена, пытаясь привести в порядок перед уходом многострадальную кровать, – конечно, помню. А что, тебе удалось что-то выяснить?
– Не знаю, – пожал плечами Обнорский. – Есть один странный факт… Был у Ильи какой-то непонятный разговор с одним хабиром и его женушкой. Проблема в том, что эта парочка буквально через неделю после смерти Илюхи вернулась в Союз – срок командировки закончился… Этот хабир сейчас в Ленинграде служит… У меня в Питере есть друг, он опер спецслужбы уголовного розыска, мы учились с ним вместе. Я ему написал письмо, объяснил что мог – надеюсь, что Женька что-нибудь придумает. Потому что мне этих Рябовых отсюда иначе не достать…
Андрей протянул Лене конверт и добавил:
– Ты прости, что я тебя об этом прошу, просто другой возможности нет. Письмо надо передать из рук в руки… Если обычным путем посылать – дойдет месяца через полтора, если вообще дойдет… Ты же знаешь, наши письма проверяют, не все подряд, правда, выборочно, но все равно… Если это письмо попадет в чужие руки – сама понимаешь… Ко мне будет много вопросов от разных навязчивых мужчин…
– Не волнуйся, – улыбнулась стюардесса понятливо, одергивая на себе юбку. – Все будет исполнено на высшем уровне, шеф. Всегда мечтала быть связной. А этот твой Женя-опер, он как, симпатичный?
– Лена! – с чувством сказал Обнорский.
– Что? – сделала невинные глаза Ратникова.
– Он… симпатичный. Но если я узнаю, что ты перед ним крутила хвостом…
– Ох как страшно! То что будет? – тихонько засмеялась Лена, маняще смотря на него своими глазищами.
– Что будет?.. – Андрей на секунду задумался, а потом сказал зловещим шепотом: – Я тебя тогда цинично изнасилую в особо извращенной форме!
– Правда?! – обрадовалась стюардесса. – Не обманешь?! А может, не будем ждать, пока я начну где-то крутить отсутствующим у меня хвостом?
Она, улыбаясь, провела кончиком языка по верхней губе и сумасшедше медленным движением расстегнула лишь недавно застегнутую юбку. Обнорский заурчал, подскочил к ней… Бедная кровать лишь всхлипнула в изнеможении, когда они упали на роскошное атласное покрывало…
Старший оперуполномоченный специальной службы уголовного розыска ГУВД Ленинграда Евгений Кондрашов служил в милиции уже пятый год. Для многих было неожиданным его решение пойти в угрозыск после окончания престижного восточного факультета ЛГУ. Жене пришлось выдержать жесткий прессинг со стороны родителей, которые полжизни провели за границей и хотели, чтобы сын пошел по их стопам. Собственно говоря, они в свое время и запихнули Евгения на востфак, с которого он несколько раз порывался перевестись на юридический, но его вовремя останавливали. Однако после получения диплома Кондрашов, пользуясь тем, что родители умотали в очередную заграничную командировку, пошел в 16-е отделение милиции и написал заявление… Когда папа и мама вернулись – их сын уже учился на офицерских курсах в Пушкинской школе милиции и уходить оттуда отказался наотрез. Да и не так-то просто было в 1985 году уволиться из милиции уже аттестованному офицеру… На все расспросы о мотивах его выбора Женя отвечал просто:
– Мне в ментовке интересно. И все.
Обнорский был одним из немногих однокурсников, понявших решение Кондрашова. Андрей даже морально поддерживал его, в глубине души завидуя Жене, – парень выбрал то, что ему по сердцу, плюнул на престижность, на гарантированную карьеру. Поступок Евгения чем-то напоминал бегство жениха из-под венца с богатой, красивой, но нелюбимой, к ненаглядной бедной Золушке…
Кстати говоря, Андрей поддержал Кондрашова не только морально – после разрыва с Виолеттой перед отъездом в Ливию на второй год Обнорский оставил Жене ключи от своей однокомнатной квартиры, куда тот сразу же перебрался на вольное житье от родителей, так и не смирившихся с милицейской карьерой сына, к тому времени ставшего уже старшим лейтенантом. Платы Андрей с Кондрашова, естественно, никакой не брал – просил только вовремя платить за свет, газ и телефон и не устраивать особо буйных оргий с агентами женского пола…
Учитывая все эти обстоятельства, Андрей, конечно, был вправе рассчитывать на Женькину помощь.
Прочитав письмо, привезенное симпатичной девушкой, назвавшейся Леной, Кондрашов сначала несколько растерялся. Просьба Андрея была, мягко говоря, достаточно необычной и весьма деликатной – речь все-таки шла о старшем офицере Советской Армии, подполковнике, а не о каком-нибудь бомже, полуспившемся работяге или никому не нужном инженере. Милиция вообще не должна была влезать в армейские дела, но ведь Обнорский написал, что для него это крайне важно.
От письма Андрея веяло явной тревогой. Ясно было, что Обнорский ввязался во что-то серьезное, только во что? Андрей толком ничего не объяснил, написал только, что в приватном порядке выясняет обстоятельства непонятного самоубийства своего йеменского друга Ильи Новоселова. И Женя вспомнил: когда-то Обнорский рассказывал, что этот Илья спас ему в Адене жизнь…
Все попытки расспросить доставившую письмо девушку также ни к чему не привели: Лена лишь мило улыбалась и твердо повторяла, что ничего сама не знает, что Андрей, мол, все, что хотел, написал в письме. По тому, как она говорила об Обнорском, Кондрашов (опытный уже опер, все-таки четыре года в розыске – это не четыре недели) понял, что эта уполномоченная красавица к Андрюхе явно неравнодушна… Черт, ну почему Обнорскому всегда так везет на красивых баб? Что они в нем находят? Женя вздохнул и сказал Лене, с интересом рассматривавшей небогатый интерьер квартиры Обнорского (а именно туда она пришла с письмом):
– Ладно, я попробую что-нибудь сделать… Подведет меня Андрюха когда-нибудь под монастырь… Куда мне сообщить, если я что-то нарою?
– Запишите мой телефон в Москве. – Ратникова продиктовала Кондрашову семизначный номер и добавила: – Звонить можно в любое время и в любой день. Если меня не будет, скажите тому, кто снимет трубку, что вы Женя из Ленинграда и что у вас есть новости, мне передадут, и я, как смогу, приеду.
– Соседи? – по профессиональной привычке поинтересовался Кондрашов.
– Нет, папа с мамой, – ответила Лена и наградила Женю легкой улыбкой на прощание.
После ее ухода Кондрашов надолго задумался. Не нравилась ему вся эта история, ох, не нравилась, верхнее чутье уже битого и тертого опера подсказывало, что вляпался Обнорский в какое-то говно очень крутого замеса… И как, скажите на милость, этого подполковника Рябова раскручивать? Прижми его – он в особый отдел, и всё, – «старшие братья» мигом могут оформить милицейскому оперу бесплатную путевку в Нижний Тагил, в санаторий для больных «непонятливостью мозга»[96]. А посадить мента в 1989 году было делом абсолютно плевым – было бы только желание, а статья, как говорится, всегда найдется… Ну так что, продинамить Андрюху? Сказать, что ничего не получилось, и посоветовать не ввязываться в дурно пахнущие истории?
Женя вздохнул и обвел взглядом стены квартиры, в которой Обнорский от чистого сердца разрешил ему жить… Неблагодарной сукой выглядеть в своих же собственных глазах Кондрашову не хотелось, и он снова начал думать: «Стоп. А чего я сразу в подполковника уперся? У него же, как Андрюха пишет, супруга имеется… Вера Тимофеевна Рябова, закончила педагогическое училище в Костроме… Да, небогатые данные… Ничего, мы их расширим и углубим, как наш генсек выражается. Посмотрим, как Вера Тимофеевна живет, с кем живет и на что живет. Глядишь, чего-нибудь и проклюнется… Если офицера раскручивать, то начать нужно с его боевой подруги. Это мысль. И шанс».
Женя погладил себя ладонью по голове – он всегда так делал, когда в голову приходили интересные идеи. Дело в том, что больше Кондрашова никто по голове не гладил – жены у него не было, а начальство все больше норовило его побольнее стукнуть, а не погладить. Такое уж оно в ментовке было неласковое…
Через неделю Женя знал о Вере Тимофеевне Рябовой если не все, то очень многое. Знал, что она родом из Костромы, где до сих пор у тетки находится ее дочка, знал, что морщин на чулках жена подполковника страшится больше, чем морщин на своем довольно миловидном личике, знал, что время свое Рябова проводит в основном в походах по ленинградским магазинам. Только за одну неделю Кондрашов выявил двух любовников Веры Тимофеевны – генерала из штаба округа и старшего лейтенанта с артиллерийских курсов. Дама, судя по всему, была горячая, и Женя даже посочувствовал в душе подполковнику.
Но больше всего Кондрашова заинтересовала даже не беспорядочная половая жизнь гражданки Рябовой (хотя он и прикидывал, естественно, как можно использовать информацию об изменах супругу), а ее отношения с некой официанткой Ниночкой из кафе в Доме офицеров, что на Литейном. Вера Тимофеевна забегала к Ниночке чуть ли не через день – попить кофейку, поболтать, а также обменять у официантки заработанные мужем в Ливии доллары. Видимо, Рябова крупных сумм с собой никогда не приносила, но Ниночка, известная в определенных кругах Ленинграда по кличке Гульден, брала и по мелочи, а потом передавала рябовские зеленые видному валютчику Гоше, тусовавшемуся у гостиницы «Москва». Получив эту информацию, Женя почувствовал себя немного увереннее, потому что валютчики и их нелегкая работа были для Кондрашова хорошо знакомой, можно сказать, родной даже средой, ибо пересажал их опер из спецуры много.
Поэтому все дальнейшее было делом техники. В самом начале декабря 1989 года Нина Гульден и Вера Тимофеевна Рябова были задержаны в кафе Дома офицеров, что называется, с поличным. Из маленького потного кулачка Ниночки были извлечены три сложенные двадцатидолларовые купюры, переданные ей Рябовой, а из похолодевших рук Веры Тимофеевны Женя аккуратно вынул помятую «рублевую массу».
– Товарищ милиционер, это у меня в первый раз, просто деньги очень нужны были… Этого больше никогда не повторится! Я клянусь вам! Я же приличная женщина, у меня муж подполковник! – рыдала чуть позже Вера Тимофеевна в кабинете администратора, где Женя составлял протокол изъятия валюты.
Кондрашова слезы Рябовой трогали мало, он состроил абсолютно тупую цинковую морду и монотонно повторял «разберемся» до тех пор, пока не закончил писать.
– Ну что же мне делать? – заломила руки Вера Тимофеевна. – Молодой человек, я клянусь вам – это было в первый и последний раз!