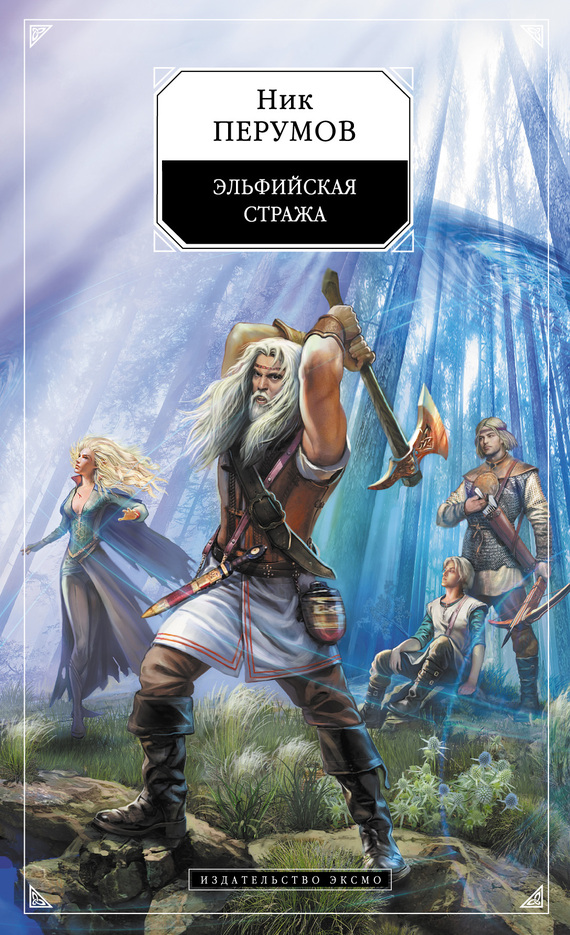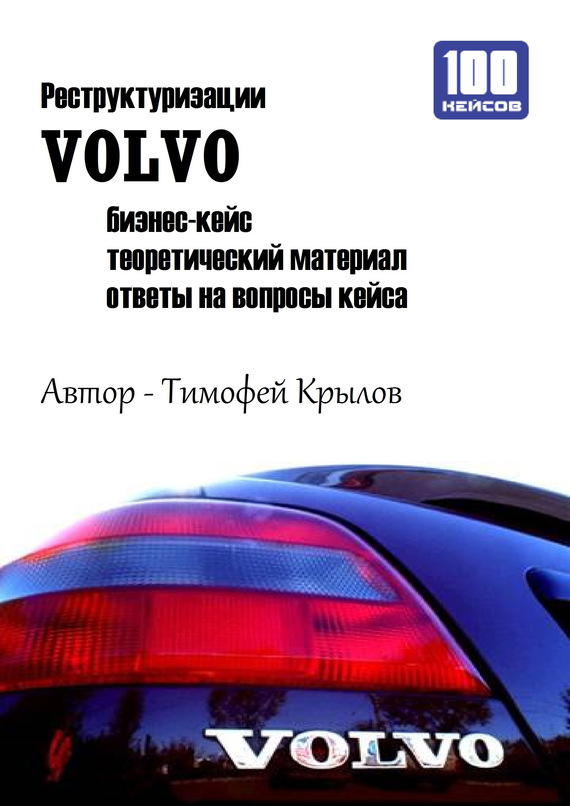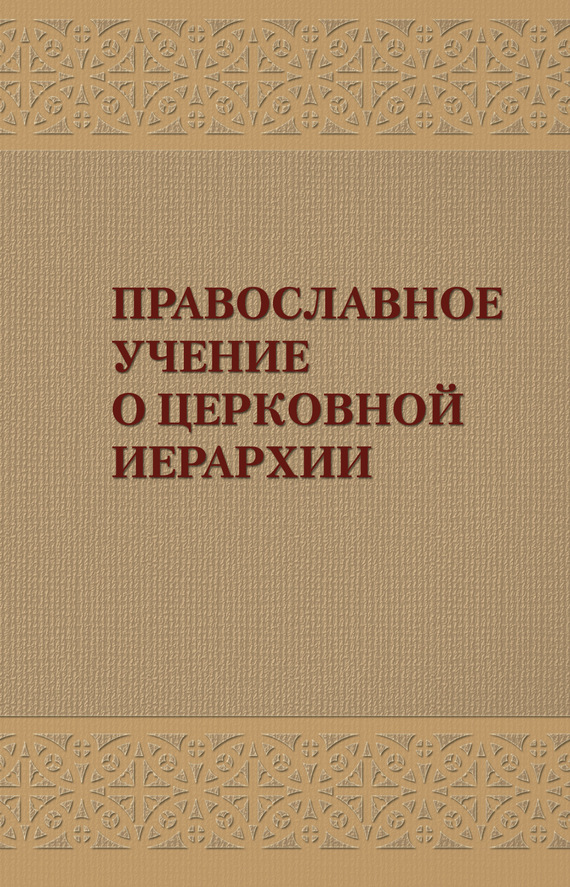Хельмут Ньютон. Автобиография Ньютон Хельмут
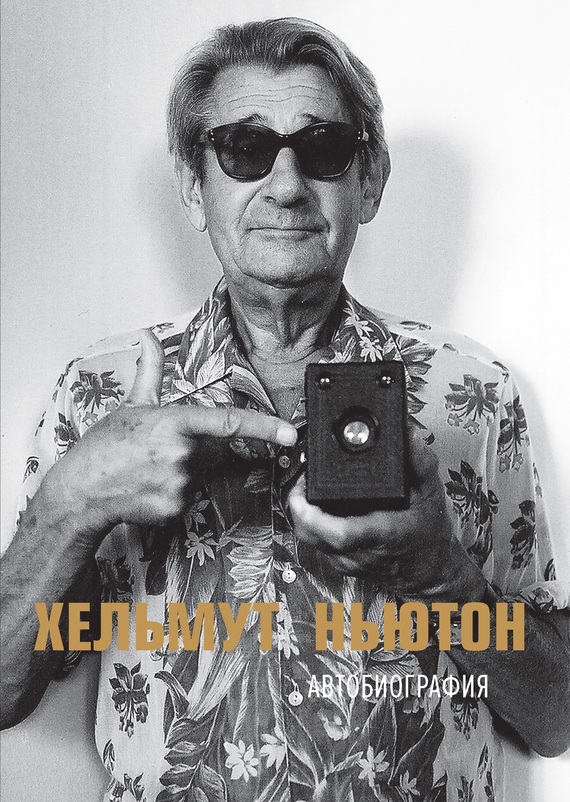
Партнерши для танцев сидели внизу, на уровне танцплощадки. Посетители приходили одни либо со своими подругами или женами и располагались на подиуме, окружавшем танцплощадку. Неподалеку располагались три уборные с надписями «Дамы», «Джентльмены» и «Партнерши» – интересное разделение, какого мне не приходилось видеть в Европе.
Девушки были необыкновенно привлекательными. Китаянки вообще очень хорошо танцуют. У меня было мало карманных денег, в основном доставшихся от Жозетты; не думаю, что я достаточно зарабатывал в фотостудии в универмаге «Робинзон». Денег хватало на простую еду; китайские блюда в Сингапуре тогда почти ничего не стоили.
Я много танцевал с профессиональной партнершей по танцам, которую звали Анита Гонсалес. Вскоре мы подружились, и она пригласила меня к себе домой, в крошечное бунгало у пыльной дороги в сомнительной части города, далеко от главных кварталов Сингапура.
Как и остальные профессиональные танцовщицы, Анита не была профессиональной шлюхой, но принимала клиентов в нерабочие часы. Мы договорились о свидании, и она сказала мне, что включит свет в определенной части дома, когда будет свободна. Разгоряченный и взволнованный, я приехал так быстро, как мог. Свет горел, но в другой комнате, и это означало, что она принимает клиента или встречается с другом или с кем-то еще. Я десять раз объехал вокруг квартала со все нарастающим нетерпением. Час спустя она подала сигнал, и я зашел в дом. Мы не стали разводить церемонии и очень быстро перешли к делу.
Перед тем как мы легли в постель, произошло нечто забавное. Анита была филиппинкой, и в ее спальне было много распятий и картин с изображениями святых. Она очень тщательно закрыла все лики белыми салфетками, чтобы святые не наблюдали за ней в такой неподходящий момент.
Мне меньше повезло со знаменитой танцовщицей из Старого Света, которая называла себя Бенгальской Тигрицей. Она была очень красива и пользовалась широкой известностью в Сингапуре. По происхождению она русская и попала в Сингапур через Шанхай. Меня очаровали ее огненно-рыжие волосы и чрезвычайно белая кожа. Я очень старался соблазнить ее, но потерпел неудачу.
Однажды я вернулся домой около двух часов ночи. Жозетта ждала меня. Она поняла, что я встречался с девушкой, и была в ярости. Я попробовал отделаться наспех выдуманной историей, но мои объяснения были слишком неуклюжими. Я понимал, что она все равно не поверит, будто я провел это время в обществе герра Нопфа.
Жозетта устроила безобразную сцену. Она так распалилась, что стала колотить меня в грудь своими кулачками. В конце концов мне пришлось взять вешалку, чтобы прикрываться от ударов. Она продолжала кидаться на меня и вопила: «Я содержу тебя, я тебя кормлю! Я даю тебе карманные деньги и одеваю тебя, а ты, маленький мерзавец, ты гуляешь со шлюхами!»
После этого эпизода расставание с Жозеттой стало для меня еще более актуальной задачей. Я снова проводил много времени в библиотеке, как после прибытия в Сингапур. Правда, теперь я больше листал журналы, а не книги, и просматривал замечательные фотографии таких мастеров, как Брассаи и Джордж Харрелл. Внезапно желание стать фотографом вспыхнуло во мне с новой силой. Я стал думать об Иве, о том, как был счастлив работать в ее студии. В Сингапуре я растерял профессиональное честолюбие и стал равнодушным к продолжению своей карьеры. Я осознал, как далек от цели, которую когда-то определил, – стать фотографом для журнала Vogue. Вместо этого я стал альфонсом.
Я был сыт по горло романом с Жозеттой. Во мне росло желание общаться с людьми своего возраста. Мне было девятнадцать, и я внезапно понял, что провожу все время с женщиной почти вдвое старше себя. Единственным исключением были воскресные прогулки с двумя маленькими дочерями Китти в парке развлечений. Иногда Китти, ее муж, Жозетта и ее друзья тоже уединялись, чтобы поговорить о вещах, которые, по их мнению, мне знать не следовало. Я был для них чуть ли не ребенком.
Приступы ревности у Жозетты продолжались, но я все равно ездил в город и не возвращался домой до трех часов утра. Неудивительно, что наши отношения стали крайне натянутыми. Я понимал, что должен вырваться из этого заколдованного круга, иначе мне конец. Если я проживу еще несколько лет в Сингапуре подобным образом, на мне можно будет поставить крест не только в моральном, но и во всех прочих отношениях.
Я все еще работал в своей студии и смог получить несколько заказов на портреты. Одной заказчицей была миловидная женщина евразийского происхождения, которая вышла замуж за китайца-дантиста. Они были состоятельными людьми, но находились в полной изоляции в своем социальном слое. Китайское общество отвергло ее мужа, а его жена не удостаивалась приглашений ни у китайцев, ни у европейцев. Отпечатав снимки, я привез их к ней домой во второй половине дня, когда она была одна. Она осталась очень довольна моей работой, но не заплатила мне, а предложила время от времени спать с ней и вдобавок разрешила пользоваться своим двухместным Chrysler с задним откидным сиденьем и огромным деревянным рулем. Я с раннего детства был без ума от автомобилей и с энтузиазмом принял оба предложения.
Наши тайные встречи всегда заканчивались в ее доме, интерьер которого представлял собой странную смесь европейской отделки, европейской мебели (вернее, того, что сингапурцы называли элегантной европейской мебелью, не имевшей ничего общего с европейскими представлениями об элегантности) и довольно дешевых китайских безделушек и мелких предметов обстановки.
Сингапур всегда считался первоклассным местом для людей второго класса.
Глава четвертая АВСТРАЛИЯ, 1940–1942
Угроза войны становилась все очевиднее. Помню, когда мы с Жозеттой смотрели фильм «Унесенные ветром» в кинотеатре «Капитолий», показ был прерван для объявления о том, что нацисты захватили Бельгию и вторглись во Францию.
Никто не выказывал особенного беспокойства по этому поводу, поскольку Сингапур находился очень далеко от европейского театра военных действий. Люди думали, что здесь, под охраной британской армии и флота, им ничто не угрожает. Однако постепенно до всех дошло, что Сингапур тоже может пасть. Японцы вторглись в Сиам и прокладывали путь через джунгли к Малайе.
Вскоре стало известно о тяжелой военной потере Британии в этом регионе, гибели двух главных боевых кораблей – «Отражающего» и «Принца Уэльского». Огромные, мощные линкоры были потоплены японцами у входа в сингапурскую гавань. Были введены определенные меры цензуры, проявлявшиеся в том, что правительство не терпело никакой критики защитных мероприятий, проводимых властями.
К примеру, станины больших флотских пушек, направленных на море, были зацементированы в холмы вокруг сингапурского порта, так что направление их стрельбы нельзя было изменить. Никто даже не рассматривал возможность атаки японцев со стороны Сиама и удара с тыла по защитникам города.
Многие американские и британские журналисты были высланы из Сингапура за статьи, где указывалось на недостатки городских укреплений и консерватизм армии, флота и местных властей. Кроме того, в колонии действовали жесткие правила депортации; на практике это означало, что правительство могло уведомить человека любой национальности о необходимости покинуть Сингапур в течение двух суток без какого-либо объяснения причин.
Если человек был нуждающимся европейцем, ему приобретали билет третьего или четвертого класса на пароход, идущий в Европу. Я знал журналистов, которых вынудили уехать незадолго до японского вторжения за критику действий местных властей. История депортации в Сингапуре восходит к временам Сомерсета Моэма; возможно, наиболее красноречиво написал об этом он.
Я уже избежал верной смерти от рук нацистов. У меня развилось сильное чувство самосохранения, позволявшее понять, когда определенное место становится слишком опасным для жилья. Срок действия моего немецкого паспорта, проштампованного буквой «J» («еврей») на каждой странице, истекал через год после моего отъезда из Берлина и продлить его можно было только в германском консульстве в Сингапуре.
Я не собирался совать голову в логово льва, поэтому мой паспорт оставался просроченным. В результате я стал гражданином без гражданства и без документов, отданным на милость любого чиновника.
Разумеется, я прекрасно понимал, что у меня возникнут проблемы с выездом из Сингапура в любую другую страну. В ранней юности я читал «Красавчика Жеста» (Beau Geste) и находил нечто очень увлекательное в службе на Востоке, особенно в Иностранном легионе. Я серьезно обдумывал мысль о вступлении в Иностранный легион в Сингапуре, где был вербовочный центр. Для меня это было единственным способом получить гражданство, так как отслужившим контрактникам выдавали французские паспорта.
Однако в конце концов мое еврейское здравомыслие взяло верх над эмоциями. Я рассудил, что это отчаянный шаг, и один лишь Бог знает, что может случиться со мной. Так или иначе, перспектива военной службы не сулила ничего хорошего для человека, который испытывал отвращение к стрельбе, насилию и не отличался физической силой. Я был «самцом», а не бойцом, так что от вступления в Иностранный легион пришлось отказаться.
К этому времени немецких евреев стали рассматривать как «пятую колонну». Пошли разговоры об интернировании или об их всеобщей депортации, но пока на уровне слухов. Ужасные вещи не случаются сразу, а назревают постепенно. Иногда это продолжается неделю, иногда месяц или больше. Как бы то ни было, местные власти решили, что мы никуда не денемся – да и куда мы могли деться? Трудно было представить, что все немецкие евреи отправятся в джунгли; даже самые отъявленные скептики не допускали этой возможности.
Тот факт, что у меня не было гражданства, не имел большого значения в Сингапуре, пока не началась война, но с началом войны в Европе я превратился в потенциального вражеского агента. Несмотря на отсутствие гражданства, все знали, откуда я приехал. Я был опасным чужаком на британской территории, как и остальные двести человек, прибывших на «Графе Россо».
Никаких драматических событий не происходило. Как я говорил, подобные вещи развиваются постепенно, и человек убаюкивает себя ложным чувством, что «все рассосется». Когда что-то случается, обычно бывает поздно. Это не обязательно связано с физическими страданиями. Если угроза неизбежна, человек пытается бежать от нее, но когда выходит очередной закон, ограничивающий его права, он привыкает к этому.
То же самое происходило в Германии в 1933–1934 годах, когда рассуждали следующим образом: «Владелец этой фабрики по производству пуговиц еврей. С первого марта он может по-прежнему работать там, но управляющим будет господин такой-то, чистокровный ариец, который уже долгое время работает в компании. Он будет распоряжаться денежными средствами». Это был медленный и юридически законный процесс, но гораздо более опасный, чем любые внезапные события.
Однажды я получил уведомление из полиции, гласившее: «Вы будете интернированы такого-то числа», примерно через месяц. «Место сбора – причал № 10. Вам разрешается взять с собой все личные вещи, но не разрешается взять автомобиль. Личный транспорт необходимо продать».
И все послушно приходят на сборный пункт в определенный день и в определенное время. Вот так просто, как в романах Кафки.
Я же лишь сказал: «Господи, как мне повезло!» Теперь у меня был прекрасный предлог, чтобы избавиться от Жозетты. Я переезжал в другое место – никто не знал куда, поскольку нам не сообщили, куда собираются нас отправить. Я знал лишь то, что уеду отсюда и окажусь в одной компании со своими знакомыми из Берлина и других немецких городов. По крайней мере, мы будем вместе.
Более того, я не попаду на проклятую войну. Мне не придется воевать с японцами, и я больше не буду встречаться с Жозеттой!
Я второй раз пускался в дальнее странствие и был на седьмом небе от счастья. Я избавился от автомобиля (отдал его женщине, от которой получил) и отправился на сборный пункт. Что я там увижу? Что ждет меня в порту? Я знал, что там стоит судно «Королева Мэри», оборудованное для перевозки войск.
Я поднялся на борт со своими чемоданами и маленькой фотокамерой и поселился в удобной каюте вместе с двумя другими юношами. Так началась новая глава жизни.
Мы не имели представления, куда нас везут. Ходили разговоры об Индии, но никто не заводил речь об Австралии. Никто вообще не думал об Австралии. Отплытие решило для меня две жгучие проблемы – отношения с Жозеттой и перспективу войны в Сингапуре, – и в силу возраста я не очень беспокоился о том, где в конце концов окажусь.
На борту «Королевы Мэри» мы жили в настоящей роскоши. Нас охраняли, но не слишком строго, потому что никто, разумеется, не собирался прыгать в океан. На корабле уже были размещены британские войска, но к нам относились превосходно. Мы даже получили отпечатанные бланки судового меню, как настоящие пассажиры.
Воздушное кондиционирование было не слишком эффективным. В каюте и в общих помещениях стояла удушливая жара, и однажды вечером, через три или четыре дня после отплытия из Сингапура, мы открыли иллюминатор каюты, чтобы подышать свежим воздухом.
Я проснулся около четырех утра и ощутил порыв прохладного воздуха, ворвавшийся внутрь. Именно тогда я понял, куда нас везут. Я был уверен, что «Королева Мэри» направляется в Австралию.
После прибытия в порт Мельбурна нас пересадили на поезд с наглухо забитыми окнами. Первой остановкой была станция Сеймур, где я впервые попробовал чудо австралийской кулинарии – мясной пирог, реклама которого гласила: «Двадцать четыре часа в сутки во рту у каждого» – под картинкой с изображением стаи черных дроздов, вылетающих из пирога. На меня эта реклама произвела самое отталкивающее впечатление; я не хотел есть пирог, который побывал «во рту у каждого».
Местом нашего назначения был лагерь для интернированных Tatura-1, расположенный неподалеку от Мельбурна. Каждый такой лагерь состоял из четырех отделений – А, В, С и D – с наблюдательными вышками и оградой из колючей проволоки. В одном отделении содержались одинокие женщины, в другом холостые мужчины, в третьем супружеские пары, а в четвертом уже не помню кто. В лагере Tatura-2 содержались так называемые враждебные элементы, то есть немцы арийского происхождения, уличенные в связи с нацистами.
В лагере для интернированных я находился с соотечественниками, которые были евреями или коммунистами и все вместе назывались «антинацистами». Между нацистским и антинацистским лагерем был налажен активный обмен информацией, но большей частью новости поступали в искаженном виде через наших охранников, пожилых австралийских резервистов, призванных на военную службу. Их образование, мягко говоря, оставляло желать лучшего, но они относились к нам с неизменной благожелательностью.
Кормили нас хорошо и вдоволь; в нашем отделении были профессиональные повара, творившие чудеса с армейскими пайками, которые нам выдавали. Мы спали по двое в одном помещении в бараках из двадцати четырех очень непритязательных комнат. Бараки представляли собой длинные постройки из гофрированного железа, где зимой стоял пронизывающий холод, а летом невыносимая жара. Над окном располагалось вентиляционное окошко, затянутое проволочной сеткой. Летом разыгрывались сильные песчаные бури, и, хотя мы закрывали окна, через вентиляционные отверстия проникали тучи красноватого песка из пустыни, покрывавшие все внутри ровным слоем толщиной несколько сантиметров. В нашей еде – в супах, кашах и во всем остальном – тоже было полно песка. Для берлинского паренька вроде меня такое было в новинку.
В лагере установилась строгая иерархия, настоящее государство в государстве. При полной поддержке коменданта Tatura были выбраны органы управления и представительной власти. В каждом отделении содержалось 250 человек; население каждого лагеря насчитывало до 1000. Каждую неделю устраивались собрания с участием «президента» и «парламента», где люди бесконечно спорили об устройстве лагерной жизни.
Я делил свою комнату с Вэлли Вюрцбургером, очень одаренным музыкантом, с замечательным чувством юмора. Мы вместе обустраивали свой маленький дом и были довольны друг другом. Часто мы сидели на крыльце у входной двери; разумеется, в бараке не было черного хода. Вэлли сочинял музыку мысленно, обычно во время работ по лагерю. Все были обязаны участвовать в лагерных работах и заниматься каким-то общественным делом. Я предпочел вступить в команду, чистившую туалеты. Это была очень неприятная работа, но она отнимала лишь два часа в день, так что остальное время я мог проводить по своему усмотрению: лежать на солнце, читать (у нас была очень хорошая библиотека) или находить другие развлечения. Мне понадобилось время, чтобы привыкнуть к чистке уборных, но, в конце концов, дерьмо и есть дерьмо, а ожидание свободного дня с лихвой искупало отвращение к нашему ассенизаторскому труду.
Более двух лет, пока мы находились в лагере, моя сексуальная жизнь находилась в дремлющем состоянии. Помню, как я наблюдал за борцовскими схватками молодых людей; любовные романы часто начинались во время этих игрищ на плацу. Мы были обязаны строиться на плацу рано утром и вечером для переклички. Иногда предпринимались попытки побега, но бежать было практически некуда, и беглецов всегда ловили. Даже самых удачливых легко можно было узнать среди местных жителей по акценту. Я ни разу не пытался бежать, так как не видел в этом никакого смысла.
Я считал, что мне крупно повезло, и знал, что после окончания войны нас отпустят на свободу. Конечно, ожидание было тревожным, потому что сначала война для союзников складывалась очень неудачно. Мы включали радио и с трепетом слушали фронтовые сводки. Наши симпатии – и коммунистов, и евреев – были на стороне союзных государств.
Летними вечерами, когда работа в лагере заканчивалась, мы сидели на крыльце, прислонившись к стене, и смотрели, как «мир проходит мимо». Частью этого мира был молодой паренек по имени Осси. Он носил очень короткие шорты, самые облегающие рубашки и закатанные вниз маленькие носки, выставляя напоказ красивые ноги. Он был таким округлым, что выглядел как хорошенькая девушка.
Его по праву считали «лагерной шлюхой», и он оказывал массу услуг своим любовникам. Все одобрительно свистели, когда он проходил по лагерным улицам между бараками, и ему это нравилось. Он находился под протекцией кого-то из лагерного начальства.
Мне исполнилось двадцать лет, и самым тяжким испытанием для меня было отсутствие секса. Я ужасно тосковал по женщинам, но даже не помышлял стать гомосексуалистом – это меня не интересовало.
Разумеется, в лагере были запрещены спиртные напитки, но некоторые из наших наиболее изобретательных товарищей ухитрялись соорудить перегонные кубы и гнали довольно крепкое пойло из фруктов или джема. Мы устраивали вечеринки, где многие совершенно откровенно напивались, но самогонные аппараты всегда прятали с большой тщательностью. Лагерное начальство давало нам алкоголь только на Рождество и на Новый год, который в Австралии приходился на пик жаркого сезона. Нам выдавали немного пива, но в сочетании с самогоном этого было вполне достаточно.
Мы спали на кроватях, сколоченных из деревянных реек с проволочной сеткой, покрытых грубыми матрасами с соломенной набивкой, которую меняли примерно раз в месяц. В начале месяца солома была очень жесткой, а в конце месяца сон превращался в сплошное мучение, потому что солома ломалась и впивалась нам в спины через тонкую ткань матраса. Период сравнительного удобства наступал в середине месяца, тогда фактура соломы становилась наилучшей.
После вечерней трапезы гомосексуалисты обычно вытаскивали свои матрасы и подушки на лагерный плац. В канун Нового года, в жаре австралийской ночи, однополое население лагеря устраивало настоящие римские оргии под звездами. Повсюду на плацу в полутьме можно было видеть обнимающиеся пары.
С Вэлли Вюрцбургером в лагере для интернированных Tatura-1. Австралия, штат Виктория, 1941 г.
Мы выходили посмотреть на это увлекательное эротическое зрелище. Единственным облегчением для меня и других гетеросексуальных людей в этой ситуации была мастурбация, но ею тоже нельзя было злоупотреблять. Помню одного довольно пожилого человека, чей сосед в конце концов отказался жить с ним в одной комнате. Этот тип так часто мастурбировал, что сосед не мог спать по ночам. В результате великого мастурбатора переселили в один из отдаленных бараков, где он мог заниматься всем, что душе угодно, не тревожа окружающих. Потом мы прозвали этот барак La Salle de Masturbation.
Меня сильно угнетала неизвестность и неопределенность в отношении будущего и свободы. Молодому человеку очень тяжело провести два года в заключении. Я прибыл в Австралию в 1940 году, в двадцатилетнем возрасте, и с тех пор время как будто остановилось. Отсутствие женщин и каких-либо контактов с внешним миром тяжким грузом давило на душу. Некоторые наиболее предприимчивые мужчины прорезали проходы в колючей проволоке и тайком навещали отделение, где жили одинокие женщины. Разумеется, там они находили массу желающих, которые были в таком же отчаянном положении, как и мы. Я не принадлежал к числу тех, кто регулярно совершал рискованные походы «на другую сторону». У меня было несколько случаев безобидного флирта через ограду, но не более того.
Из внешнего мира часто прибывали подарки: Еврейский комитет посылал нам книги и вещи, а кроме того были еще квакеры, Общество друзей и Армия спасения. Помню одну поставку от Еврейского комитета, где было огромное количество одежды, в том числе отслуживших свое смокингов и даже цилиндров. Эта вопиющая нелепость стала поводом для всеобщего веселья. С другой стороны, Армия спасения посылала нам полезные вещи – зубную пасту и зубные щетки. На территории лагеря была товарная лавка, где мы могли тратить деньги, которые получали за работу. Впрочем, эти деньги были лишь кусочками картона с чернильным штемпелем.
Некоторые бывшие заключенные из лагеря Tatura до сих пор проводят встречи в Мельбурне и Сиднее. Они даже выпускают газету, тиражируемую в ксерокопиях. Мне присылали экземпляры, которые я сразу же отправлял в мусорное ведро, поскольку считаю такой способ жизни в прошлом бесполезным и непродуктивным. Джун плакала, когда в Мельбурне перед отъездом в Европу я стал жечь старые фотографии и письма. Это всегда было моей отличительной чертой, особенно в молодости: я выбрасывал ненужные вещи и путешествовал налегке, с самым простым багажом. Я всегда смотрел в будущее и никогда, никогда не интересовался вчерашним днем. Сегодня мне было хорошо, а завтра могло стать еще лучше.
Наступил 1941 год, и в Австралии сменилось правительство. До этого в стране правила консервативная партия, а теперь к власти пришли лейбористы во главе с премьер-министром Куртэном. Эти люди обладали более реалистичными взглядами, чем консерваторы. В Австралии ощущалась острая нехватка рабочей силы; население огромного континента составляло немногим более шести миллионов человек. Все здоровые мужчины находились за морем и служили в войсках союзников на Ближнем Востоке, поэтому, кроме женщин и стариков, в стране могли работать только эмигранты, евреи и коммунисты, томившиеся в лагерях для интернированных лиц.
Лейбористское правительство рассудило, что вместо того, чтобы держать беженцев за колючей проволокой, можно дать им возможность поработать на благо Австралии и на то, что они называли «программой военной экономики». Была учреждена комиссия, члены которой отправились в лагеря для интернированных, где выслушивали истории людей, задавали вопросы о политических и расовых убеждениях, а потом решали, кого можно выпустить, а кого лучше оставить. Естественно, в нашем отделении ни у кого не было проблем с комиссией: все искренне ненавидели нацистов.
Однако после того как война повернулась для Германии к худшему, обитатели нацистского лагеря для интернированных обратились к австралийским властям с просьбой отправить к ним такую же комиссию. Они утверждали, что их несправедливо осудили и что они должны находиться в лагере для антинацистов. «Да, мы не евреи, – говорили они, – но мы тоже презираем нацистов и требуем пересмотра наших дел».
Их призывы становились все громче, они доходили до истерики в своих попытках вырваться из заключения и присоединиться к нам в лагере Tatura-1, где могли обрести надежду на будущее. Из Мельбурна прибыла новая комиссия, состоявшая из военных офицеров и гражданских чиновников, и все желающие откреститься от нацизма представали перед ней.
Однажды ворота нашего лагеря раскрылись и впустили небольшую группу молодых людей, которых перевели к нам из нацистских лагерей. Незадолго до этого прошел слух, что нас ждет пополнение, поэтому все обитатели лагеря собрались у колючей проволоки посмотреть на новоприбывших. Мы смотрели, как эти люди неуверенно входят на территорию нашего лагеря, не зная, что им делать дальше. Это была странная немая сцена, когда около двухсот человек молча наблюдали за двумя десятками.
Среди новоприбывших я узнал троих. Одним из них был мой старый приятель Питер Кайзер, а другим Козловски, которого мой отец застал в двусмысленном положении вместе с Питером на празднике моего семнадцатилетия. Имени третьего я не знал, но помнил его лицо. Впоследствии я узнал в нем молодого штурмовика, которого видел на станции Halensee в Берлине. Его звали Ханс Магулис, его отец работал в немецком посольстве в Лондоне.
Однажды мне сообщили, что несколько коммунистов из нашего лагеря собираются повесить Козловски, Кайзера и некоторых других новичков. В тот же вечер я договорился о встрече с Питером, чтобы рассказать ему об опасности. Мы встретились в неприметном месте за бараками. Это было весьма рискованно, потому что коммунисты могли сильно избить меня, если бы увидели нас вместе. Кто-то должен был обратиться к австралийским властям и уведомить их о происходящем. У барака, где жили Питер и Козловски, выставили охрану. Впоследствии на них все-таки совершили покушение, но они остались живы.
Как-то утром в конце лета 1942 года, больше чем через полтора года после нашего прибытия в Австралию, нам приказали собирать вещи. Я держался вместе со своим другом Вэлли и несколькими приятелями. Вообще лагерное общество было очень сплоченным, но делилось на группы, члены которых предпочитали проводить время друг с другом. Ворота лагеря распахнулись, и мы увидели поджидавшую нас вереницу грузовиков. Не было ни охраны, ни австралийских солдат-резервистов. Мы не знали, куда нас повезут.
Поездка закончилась в городке Шеппартон в штате Виктория, недалеко от лагеря Tatura. Это был важный сельскохозяйственный центр Австралии, средоточие фруктовой и консервной промышленности. Вокруг на много миль раскинулись фруктовые сады (в основном персиковые) рядом с огромными консервными заводами. Наш вклад в развитие военной экономики Австралии должен был заключаться в сборе персиков.
Нас отвезли на Шеппартонский консервный завод, выгрузили во внутреннем дворе и построили в группы. Мы жались друг к другу, словно рабы на аукционе. Потом на автомобилях стали приезжать местные фермеры и осматривать нас.
Наш разношерстный строй представлял довольно жалкое зрелище. После двух с половиной лет, проведенных в лагере для интернированных, мы были одеты во что попало. С одной стороны заводского двора стояло две сотни евреев в возрасте от восемнадцати до пятидесяти с лишним лет: профессора, преподаватели, врачи, писатели, музыканты – останки кораблекрушения, вынесенные на австралийский берег. С другой – около пятидесяти садоводов из окрестностей Шеппартона, ищущих рабочую силу для сбора урожая в своих владениях.
Они ходили по рядам, внимательно оценивали наше физическое состояние и даже щупали мышцы. Их интересовали не пожилые профессора, учителя и дантисты, а молодые парни вроде меня и моих товарищей, достаточно здоровые для ежедневной физической работы.
Эти австралийцы были не похожи на тех, которых я видел раньше. Они носили шляпы с широкими полями и разговаривали на гортанном диалекте, мне почти непонятном. Мы с Вэлли и другими приятелями держались плотной группой. Больше всего мы боялись, что нас разлучат, но, к счастью, пять или шесть человек попали в одну партию. Нас отвезли на грузовике в окрестности Шеппартона.
Персики разбирали по размеру на сортировочных столах с большим наклоном. Фрукты скатывались по нескольким желобам и попадали в отверстия разного диаметра. Нам сказали, что спать придется в амбаре для сортировки персиков. Повсюду было разбросано сено, но такому ночлегу было далеко до роскоши нашей спальни в лагере Tatura. В первую ночь стоял жуткий холод; в это время года дни были жаркими, а ночи чуть ли не морозными. Мы пытались спать на полу, но вокруг ползало множество разных существ, в том числе пауков и змей. В Австралии очень много змей, и почти все они ядовиты. Мы с Вэлли паниковали так сильно, что забрались на сортировочный стол и попробовали уснуть на жесткой деревянной поверхности. Из-за большого наклона приходилось держаться одной рукой, чтобы не скатиться вниз. Неудивительно, что нам все время снились кошмары.
У фермера была дочь по имени Саншайн. Нам не разрешали подходить к парадной двери дома; можно было пользоваться лишь задней. Девушка давала нам остатки еды с кухни. По воскресеньям Саншайн приходила в амбар с громадной миской персиковой каши – нашего главного лакомства в те дни. Мы ели сырые персики, тушеные персики, но в первую очередь консервированные персики. Еще много лет после этого я не мог смотреть на персики. Вскоре мы наладили дружелюбные отношения с фермером, а поскольку Вэлли был хорошим музыкантом (у него имелась скрипка и аккордеон), нас часто приглашали в дом. Мы рассаживались в гостиной, и Вэлли играл на скрипке или садился за пианино, и тогда звучали песни. Помню, как фермер однажды сказал нам: «Видите, собирать фрукты – это вроде как играть на скрипке: стоит набить руку, и все идет как по маслу».
Мы привыкли к австралийскому диалекту. Однажды, когда мы еще почти не были знакомы с отцом Саншайн, кто-то назвал его wag [7] . Я не знал, что это такое, и Вэлли тоже терялся в догадках. Что это значит? Может быть, он будет бить нас кнутом или приготовит другой неприятный сюрприз? Так или иначе, мы ничего не могли с этим поделать.
В конце концов стало невозможно спать в сортировочном амбаре, и фермер сказал, что мы можем поселиться в принадлежащем ему пустом доме, расположенном в полумиле от фермы. По его словам, там никого не было. Мы с Вэлли собрали свои пожитки и устроились в этом доме.
Однажды ночью раздался громкий стук в дверь. Мы отперли ее, и в дом ворвались албанцы с обнаженными кинжалами. Они сказали, что дом принадлежит им, и велели убираться вон. Мы мгновенно натянули нижнее белье, собрали пожитки и опрометью помчались через поля. Это была ужасная ночь, непроглядно темная, и мы несколько раз падали в придорожную канаву, прежде чем добрались до фермерского амбара.
Вскоре после этого фермер собрал приятелей, отправился к дому и избавился от албанцев. На этот раз уже они удирали со всех ног. Он сказал, что мы можем снова поселиться там, вместе с двумя местными сезонными рабочими, трудившимися в другом саду. Впрочем, в доме хватало места для всех, так что у нас не возникло проблем.
Двое парней жили в комнатах по другую сторону коридора от нас вместе с девушкой, которая готовила для них. Они были неграмотными австралийскими парнями, а девушка выглядела не так уж плохо. Прошло совсем немного времени после нашего освобождения из Tatura, и мы больше двух лет не имели нормальных отношений с женщинами. В городке Шеппартон мы бывали редко, поскольку так уставали после сбора фруктов, что падали на лежанки и сразу засыпали.
Сбор плодов начинался ранним утром, когда еще подмораживало, но к полудню стояла страшная жара. Между ветвями деревьев часто встречалась паутина. Австралийские пауки – крайне опасные твари; лишь несколько видов не ядовиты. Помню, как однажды утром я увидел необыкновенно красивую паутину, покрытую каплями росы, по которой бегали огромные пауки. Я испугался до полусмерти. Пауки на деревьях, между деревьями и под ногами – опасность грозила отовсюду.
Как-то раз я прохаживался в саду по палой листве и вдруг наступил на что-то твердое, взметнувшееся мне навстречу. Я не сомневался, что это змея, поэтому завопил и отскочил назад, но эта штука снова выпрыгнула на меня. В утреннем сумраке я не сразу разобрался, что дважды наступил на длинную ветку. Я был так напуган, что до сих пор помню это происшествие, как будто оно случилось вчера.
Работа в саду требовала внимания, нужно было собирать персики только определенного цвета и спелости. Один из наших приятелей Гарри Джейдельс собирал персики, надев солнцезащитные очки. Когда отец Саншайн пришел в сад, чтобы посмотреть, как мы работаем, он пришел в ярость, увидев этого парня на лестнице в темных очках, и закричал: «Эй ты, скотина, ну-ка спускайся и дай мне заглянуть в твою сумку». Во время сбора мы носили заплечные сумки, куда складывали персики. Когда сумка наполнялась, сборщик спускался с лестницы и выкладывал содержимое сумки в деревянный ящик. И вот толстый, неуклюжий Гарри спустился с лестницы и поставил сумку для осмотра. Разумеется, в сумке было полно зеленых персиков, которые он не заметил, потому что носил темные очки. Фермер сорвал очки с его носа и крикнул: «Не смей носить темные очки, когда собираешь фрукты! Ты не получишь ни гроша за сегодняшнюю работу!»
Когда начались дожди, сбор персиков прекратился, потому что влажные плоды срывать нельзя. Насколько я помню, таких дней было довольно много. Когда мы не работали, то не получали денег; нам платили за каждый собранный ящик. Когда заканчивались деньги и еда, мы ходили от одной фермы к другой с протянутой шапкой. Мы стучали в заднюю дверь и спрашивали, не нужны ли люди для любой работы, которую могут предложить. Я умел водить машину, Вэлли всегда мог сыграть на скрипке, а иногда мы выполняли мелкую черновую работу, так что на хлеб с джемом хватало. И хлеб, и джем стоили дешево, поскольку мы находились в центре сельскохозяйственного региона Австралии. Когда дожди прекращались, мы возвращались к сбору персиков.
Самым замечательным в нашей работе было чувство локтя. Мы все находились в одной лодке. Много шутили и смеялись над странными обычаями и словечками австралийцев. Когда мы шли на работу, обычно встречали местных жителей, отправившихся на прогулку или по делу, и заранее знали, что услышим от них. Обмен банальностями был совершенно предсказуемым. К примеру, они говорили: «Доброе утро, как дела? Не жарко сегодня для вас? Работа идет нормально?» Мы составляли готовые ответы и никогда не ошибались в предсказаниях.
Вернемся к дому, в котором мы жили. Двое парней со своей девушкой поселились в комнате справа по коридору, а мы с Вэлли жили в комнате слева. Мы познакомились и на третий или четвертый день поужинали с ними. Когда мы ложились спать, в дверь постучали; один из парней зашел в комнату и спросил меня: «Не хочешь поразвлечься с моей бабенкой?» Конечно, это показалось мне даром небесным, поэтому я выскочил из постели и последовал за парнем в комнату на другой стороне. Девушка лежала с другим парнем на матрасе, рядом валялось несколько подушек. Она была очень хорошенькой – по крайней мере, в тот момент она показалась мне безумно привлекательной. Она поманила меня к себе, и я набросился на нее, не обращая внимания на ее приятеля, который лежал рядом.
Мы замечательно скоротали время, но через несколько минут первый парень, который привел меня в комнату, тоже залез в постель. Получился сандвич из его приятеля и девушки на одной стороне и меня с ним на другой стороне. Он явно хотел поиметь меня и уже занял выгодную позицию, так как я находился спиной к нему. Он был абсолютно голым. Я испустил душераздирающий крик. Не знаю, как мне удалось вырваться из его объятий, потому что я не отличаюсь физической силой, а эти ребята были чрезвычайно мускулистыми и не собирались шутить, но я в каком-то отчаянии выпрыгнул из постели, помчался в нашу комнату, запер дверь и, трепеща, заполз под одеяло. Это было мое первое сексуальное приключение после лагеря Tatura.
Время от времени мы ходили в Шеппартон, в том числе на танцы вечером по субботам, но местные юнцы относились к нам не слишком вежливо. Конечно, местные девушки были очарованы нами, ведь они раньше никогда не видели иностранцев. Не следует забывать, что шел 1942 год, мы находились в захолустном городке Австралии – огромной страны с малочисленным населением. В ту пору в Австралии почти не было иностранцев; несколько греков, державших рестораны, китайские бакалейщики, но не более того. Мы были экзотическими существами. Девушки заглядывались на нас, но парни, как и некоторые политики, принимали в штыки.
Помню одного члена парламента по имени Джо Галлетт, писавшего статьи в еженедельной газете The Truth – скандальной, праворадикальной, фашистской газетенке, полной сплетен и ненависти. Ее читали практически все: в Австралии не было семьи, не получавшей The Truth в пятницу вечером.
Так или иначе, Галлетт писал: «Иностранцы топчут наши мостовые в Шеппартоне и с вожделением глазеют на наших девушек». Вечером в субботу, то есть через сутки после выхода статьи, мы, как обычно, отправились в город, поскольку не читали газет и ничего не знали о случившемся. Там нас поджидала целая шайка шеппартоновских громил, собиравшихся избить нас до бесчувствия, так что мы едва успели убежать и спрятаться в фермерском саду.
В выходные, когда у нас было достаточно денег и появлялось настроение покутить, мы с Вэлли снимали номер в гостинице Shepparton. Это были апартаменты со старой мебелью в викторианском стиле и с огромной двуспальной кроватью. Мы принимали горячую ванну и обедали в столовой. Разумеется, мы не приводили девушек из-за шовинистских статей Галлетта и местной шпаны, но нам и вдвоем было неплохо. Мы наедались до отвала в ресторане, потом отмокали в ванной и крепко спали в настоящей постели.
Через два месяца сезон сбора урожая закончился, и нам сказали, чтобы мы возвращались в Мельбурн. К тому времени мы скопили немного денег – достаточно для билета на поезд. Нас напутствовали следующими словами: «Теперь вы можете пойти добровольцами в армию. Если вы не сделаете этого, то знайте, вас быстренько вернут обратно в лагерь». С самого начала, с аукциона «рабов» на консервном заводе в Шеппартоне, этот дамоклов меч висел над нами. Нам говорили: «Если не будете хорошо работать, мы вернем вас в лагерь для интернированных». Разумеется, мы пуще всего боялись такого исхода и ни за что не хотели возвращаться туда. Не знаю, был ли у нас другой выбор – уверен, что-нибудь нашлось бы, – но для меня и моих друзей армия казалась гораздо привлекательней, так что мы сели на поезд и поехали в Мельбурн. Нам велели по прибытии явиться на Флемингтонский ипподром, где находился призывной пункт.
Глава пятая АРМИЯ, 1942–1946
Я сошел с поезда на станции Флиндерс-стрит – австралийцы уверяли меня, что это самая оживленная железнодорожная станция в мире – и вышел на главную дорогу.
Я шел по улице, а нежданные слезы ручьем струились по щекам. Слава богу, эта депрессия продолжалась недолго. Мы с друзьями явились на Флемингтонский ипподром и доложили о прибытии. К счастью, призыв в армию шел размеренно и неторопливо, в подлинно австралийском духе. Каждое утро мы должны были приходить для переклички на ипподром, превращенный в плац, где нам сообщали, что мы можем быть свободны до вечера. Австралийцы не вполне представляли, что с нами делать. Они знали, что нас нужно как-то использовать, поскольку страна нуждалась в рабочей силе, но еще точно не решили, с чего начинать.
В конце концов нас призвали в армию и выделили места для отдыха на Флемингтонском ипподроме. Обстановка была чрезвычайно примитивной, но определенно более комфортной, чем в амбаре под Шеппартоном. Многие из наших друзей целыми днями пропадали в городе. У меня появилось несколько знакомых австралийцев из числа призывников, которые были ревностными любителями лыжного спорта. Они брали с собой подружек и отправлялись в горы в окрестностях Виктории, чтобы покататься на лыжах. Их никогда не искали. Им хватало времени вернуться на ипподром к началу переклички. Когда называли их имена, они просто говорили: «Здесь, сэр», и больше их ни о чем не спрашивали.
Я держался вместе с Вэлли и другим моим близким другом Филипом Кремсом из Вены. В довоенное время Кремс был подающим большие надежды молодым офицером бронетанковых войск. Когда выяснилось, что он на четверть или наполовину еврей, его вышвырнули из армии и заставили эмигрировать. Мы познакомились в Сингапуре, стали друзьями в Tatura, и дружба продолжилась в Мельбурне.
Вскоре после призыва нас разместили в большом военном лагере Кемп-Пелл в пригороде Мельбурна, в пяти минутах езды на трамвае от центра города. Здесь мы наконец смогли вовсю гулять с местными девушками, и в отличие от Шеппартона никто не мешал этому.
Жизнь была очень простой. Одна подружка сменяла другую. Я познакомился с замечательной девушкой по имени Мэри Фланаган, ирландской католичкой с огненно-рыжими волосами. Один ее брат работал на пивоварне в Ричмонде, другой – на сигаретной фабрике Carreras. Разумеется, в те дни пиво и сигареты жестко рационировались, их было трудно достать, но Мэри щедро снабжала меня ими. У нее было еще одно замечательное свойство. Она никогда не хотела в кино, гулять или посидеть в кафе. Она хотела только одного: пойти в нашу комнату и заняться любовью.
Единственная трудность заключалась в том, что она, как истинное дитя народа, была совершенно безграмотна. Ее английский, мягко говоря, оставлял желать лучшего. Она любила болтать в постели и говорила «тябе» вместо «тебе», «чо такое» вместо «что» и так далее. Я просил ее: «Пожалуйста, Мэри, не разговаривай, пока мы трахаемся, мне больше нравится молчать». Разумеется, мне нравится, когда люди разговаривают друг с другом в постели, но юный чванливый Хельмут не выносил ее простонародных выражений. Каждый раз, когда она говорила «чо», я становился импотентом.
Множество беженцев прибывало со всей Европы. Среди них была очень миловидная польская графиня и ее муж, по-видимому настоящий толстосум, потому что они поселились в старом викторианском особняке на Сент-Килда-роуд, в живописном, фешенебельном квартале Мельбурна.
Она часто развлекалась с парнями из армии, а ее мужа почти никогда не видели. Мы устраивали безумные вечеринки в доме графини. Помню всякие экзотические истории о том, как они с мужем бежали из Польши и эмигрировали в Австралию. Я закрутил с ней бурный роман и вскоре обнаружил, что являюсь лишь одним из многих в нашей армейской компании. Мы с Филом и некоторыми другими ребятами, которые были ее любовниками, обменивались интимными подробностями и веселились от души, сравнивая наши впечатления. Не забывайте, что мы были молодыми жеребцами, которых так и распирало от собственной удали.
Когда Китти, сестра Жозетты, объявилась в Мельбурне (ее муж Дик вступил в армию союзников), она поселилась в комфортабельной квартире. Для меня это стало способом восполнить утраченные возможности, и вскоре мы вступили в греховную связь. Была зима, она принимала меня в меховом пальто на голое тело, которое снимала и использовала как подстилку для наших любовных игр перед камином. Несколько позже я познакомил ее с моим другом Филипом, который ей понравился, в отдельные вечера она стала встречаться и с ним. Когда мы были вместе, она в подробностях описывала свои любовные похождения. Филип имел большие виды на армейскую карьеру и вскоре стал младшим капралом, а закончил войну сержантом и настоящим патриотом Австралии, в то время как меня никогда не привлекала армия и я довольствовался скромным званием рядового.
Я спросил Китти, что случилось с Жозеттой, и она сказала, что ее отправили в тюремный лагерь. Она даже не знала, жива Жозетта или нет. Когда я спросил, почему Жозетта не воспользовалась возможностью приехать вместе с ней, она ответила: «Она не хотела ехать сюда».
Много лет спустя, в 1960-х годах, когда я пил чай в холле гостиницы Piccadilly в Лондоне вместе с Джун и ее другом-актером, ко мне подошел посыльный и сообщил, что мисс Ван Дойл хочет видеть меня. Это оказалась дочь Китти – та самая маленькая девочка, которую я прогуливал за руку в сингапурских парках, чтобы взрослые могли спокойно побеседовать.
Она выросла в статную, полногрудую девушку, и я не отказался бы завершить порочный круг, если бы только Джун не было рядом. Впоследствии Джун сказала мне, что, по словам ее друга-актера, ее присутствие определенно помешало развитию ситуации, которая во всех отношениях выглядела очень многообещающе.
Мы с Филипом решили снимать очень дешевую комнату в пригороде Мельбурна под названием Южная Ярра. Комнату нарекли Schloss Rammelfeste в честь знаменитого австрийского порнографического романа XIX века; в переводе это приблизительно означало «Замок жестоких трахов». Мы поочередно водили туда подружек, покупали вино и старались с лихвой возместить вынужденное воздержание в лагере Tatura.
До поры до времени армейская служба была совершенно необременительной. Я научился выполнять необходимый минимум работы. Стоило вразвалочку пройтись по лагерю с равнодушным видом и без какой-либо цели, и первый же сержант привлекал вас к работе. Вы получали наряд на кухню, мытье полов, мелкую уборку или что-нибудь подобное. Впрочем, это меня не слишком напрягало. Слишком много оставалось нерастраченных сил и слишком много городских развлечений, поэтому я научился ходить целенаправленно и с решительным видом. Я брал в руки большую линейку или три планки и молоток и бродил по лагерю, ничего не делая, но производя впечатление занятого работой человека. Всем проходящим мимо офицерам я отдавал молодцеватый салют на прусский манер – им это очень нравилось.
Нашим командиром был капитан Броутон, маори по национальности, герой Первой мировой войны. Он очень гордился тем, что ему доверили командовать скопищем хилых интеллектуалов и гуманитариев, которые должны были проявить доблесть в бою. Он прилагал все силы, чтобы попасть туда, что уклончиво называлось «там, на севере» – в район боевых действий против японцев. Разумеется, нам меньше всего хотелось попасть «туда, на север»: это было бы концом для всех нас. Но вот печальный день настал, и наш взвод получил приказ выдвинуться из Мельбурна. Нас послали на север, но не очень далеко, примерно за пятьсот километров, в полевой лагерь Токумваль у границы штатов Виктория и Новый Южный Уэльс.
Капитан Броутон был романтичным человеком, полным забавных идей. Тот факт, что он считал нас будущими военными героями и великолепными солдатами, лучше всего говорит о его восторженном нраве. Приказ был помещен на доске объявлений в лагере Кемп-Пелл, и однажды ночью, вскоре после отхода ко сну, чья-то рука начала трясти меня за плечо. Я сплю очень крепко и вижу сны, поэтому если кто-то внезапно будит меня, я просыпаюсь с криком. Я вскочил с постели и вцепился в горло человека, который тряс меня. Конечно же это оказался капитан Броутон.
«Не пугайтесь, водитель Нойштадтер, это я, ваш командир», – сказал он. «Да, да, сэр», – пробормотал я. «Одевайтесь, мы выезжаем под прикрытием темноты», – распорядился он. На улицах Мельбурна и по дороге к Токумвалю не наблюдалось признаков врага, но было гораздо внушительнее сказать, что мы отбываем под прикрытием темноты, чтобы разбить лагерь на берегу реки у границы двух штатов.
Я быстро натянул форму, затолкал в вещмешок немногочисленные пожитки – несколько книг и разные мелочи – и бросил его в кузов грузовика. Вэлли Вюрцбургер тоже находился поблизости, потому что он был трубачом и музыкантом в нашем лагере. Австралийцы сколотили хороший полковой оркестр из еврейских музыкантов, когда-то игравших в ресторанах и концертных залах Европы. В кузов загрузили барабаны и другие инструменты, а потом Вэлли Вюрцбургер, капитан Броутон и его водитель Хельмут отбыли «под прикрытием темноты».
Я спал так глубоко, что не вполне проснулся. Мы выехали на шоссе, представлявшее собой разбитую дорогу от Мельбурна до Олбери – последнего города перед Мюррей-Ривер, протекавшей по границе штатов Виктория и Новый Южный Уэльс. Было темно, хоть глаз выколи, Вэлли кутался в три или четыре армейских одеяла, дрожа от холода в кузове вместе с инструментами. Я сидел за рулем, капитан Броутон рядом со мной, и, разумеется, я заснул.
Машина съехала в глубокую канаву на обочине дороги. Все инструменты вывалились наружу и раскатились вокруг, но, слава богу, никто не пострадал. Мы вытолкнули грузовик из канавы, а потом мне и Вэлли пришлось собирать разбросанные в кювете и на обочине инструменты и грузить их обратно. Капитан Броутон сидел и наблюдал. В конце концов мы приехали в Токумваль.
Капитан Броутон устроил нас на новом месте, в уютном лагере, расположенном неподалеку от реки. Это было действительно прекрасное место, расположенное в живописной австралийской глубинке, с большими эвкалиптами, которые местные жители называют «смоляными деревьями». Сам Токумваль был крошечным городком с единственной улицей, великим множеством церквей и еще большим количеством пабов. Нас прикомандировали к другой роте. Новый командир имел под началом около пятисот солдат, которым предстояло работать на железной дороге в Токумвале.
Я солдат австралийской армии, 1940-е гг.
Помню, как капитан Броутон произносил речь перед взводом незадолго до нашего отъезда из Кемп-Пелл. «Что бы вы ни делали, парни, не забывайте, кто вы такие, – сказал он. – Помните, что вы из Восьмого корпуса, и гордитесь этим».
Мы попали к офицеру, командовавшему подразделением из пятисот греков – неотесанных и довольно агрессивных парней, которые не ладили с нами. Этот офицер, мягко говоря, без энтузиазма отнесся к нашему прибытию и предпочел бы, чтобы мы провалились сквозь землю. Но капитан Броутон сделал напоследок еще одно доброе дело. Он назначил некоего лейтенанта Томаса на непыльную работенку после битв в пустыне в составе австралийской армии: присматривать за еврейскими интеллектуалами.
Кудрявый Томас – так его называли с истинно австралийским юмором, поскольку он был лысым, как яйцо, – оказался славным добродушным человеком, большим любителем выпивки и женщин. Меньше всего он интересовался повседневной работой и управлением нашим взводом.
Как в любом армейском лагере, у нас был плац для маршировки, а также для утренней и вечерней переклички. Перекличку всегда проводил лейтенант; капитан выходил на плац в последнюю минуту, салютовал и уходил. Поскольку я служил водителем в нашей роте, на меня была возложена особая обязанность – разыскивать Кудрявого Томаса (который обычно пил в городе) и привозить его к вечерней перекличке. У меня уходило около часа на посещение всех восьми или десяти пабов, после чего я находил мертвецки пьяного лейтенанта и увозил его. Я передавал его с рук на руки старшему сержанту, который следил за тем, чтобы он вовремя оказался на плацу и отдал честь командиру роты, когда тот выйдет на перекличку. Это была одна из самых важных моих обязанностей.
Австралийская армия производила на меня потрясающее впечатление своей неформальностью и полным невмешательством начальства в дела подчиненных. Между Кудрявым Томасом и его храбрыми солдатами установились замечательные отношения. Как я уже говорил, он был большим бабником и по вечерам часто обращался ко мне: «Давай, Хельмут, подъезжай к задней двери войсковой лавки и погрузи три одеяла и ящик пива». Потом мы отправлялись на танцы в соседний городок под названием Кобрэм. Там находился большой госпиталь ВВС, где работало множество медсестер, а по вечерам устраивались танцы в зале местного механического института.
Я в качестве военного водителя, 1943 г.
Кобрэм был славным маленьким городком с ровными рядами деревьев вдоль улиц, напоминавшим уголок Дикого Запада. Лейтенант выбирал себе медсестру и советовал мне сделать то же самое. Он был не из тех, кто сам развлекается, а подчиненный в это время ждет в кабине грузовика; ему было приятно, если я получал удовольствие с ним за компанию. Поэтому я тоже старался познакомиться с привлекательной девушкой. Потом мы вчетвером выезжали на берег реки Мюррей или в другое укромное место, где расстилали одеяла и приносили пиво. Кудрявый Томас располагался в десяти-пятнадцати метрах от меня, пока трахался со своей медсестрой, а когда все заканчивалось, мы отвозили девушек обратно в госпиталь ВВС. По пути к военному лагерю лейтенант заботливо спрашивал: «Как ты провел время? Тебе понравилась девушка?» Он просил меня подробно рассказать о впечатлениях, а потом делился подробностями своей ночи. Это было фантастическое время, которое надолго осталось в моей памяти.
Причина нашего расположения в Токумвале заключалась в том, что на границе штатов Виктория и Новый Южный Уэльс существовал так называемый «разрыв в ширине колеи». В те дни (1943–1944) в каждом штате Австралийского содружества имелись железные дороги с разной шириной колеи. Это означало, что поезд из Мельбурна прибывал на границу штата Виктория неподалеку от Олбери, после чего все его содержимое – пассажиры, груз и так далее – перемещалось на поезд из Нового Южного Уэльса, так как поезда одного штата не могли ездить по рельсам другого. Наша роль заключалась в перетаскивании грузов с одного поезда на другой.
Вся работа происходила вручную при отсутствии подъемных кранов и очень плохой организации. Мы работали на жаре днями напролет. Будучи хитроумными евреями, мы посовещались и предложили офицерам способ значительно повысить производительность труда в обмен на сокращение рабочего дня.
Двери товарных вагонов с обеих сторон раскрывались, а затем между ними клали две или три длинные доски, наподобие мостика, и грузы переправляли прямо из одного вагона в другой. Работу выполняли группы по пять человек. Двое клали груз на спину третьему, который переходил по деревянным мосткам и отдавал груз четвертому, а тот относил его пятому для окончательного складирования в глубине вагона. Многие грузы были скоропортящимися, например лук и помидоры. Вес мешков составлял от двадцати до сорока килограммов. Их нужно было укладывать определенным образом, по шесть в ряд вертикально и горизонтально, чтобы они не падали и оставались на месте при движении поезда.
Работа грузчиком на железнодорожной станции в Токумвале, 1943 г.
Это было немалое искусство, но мы овладели им в совершенстве. Наше предложение к офицерам заключалось в следующем: норма для команды из пяти человек составляла пятьдесят тонн в день, и мы обязывались выполнить ее в любое время и в любом порядке, в каком пожелаем. Пятьдесят тонн – довольно большой груз, но при наряде на целый день все зависело от нашего мастерства грузчиков и носильщиков. Мы выполняли свою норму примерно за три часа и освобождались до конца дня.
Стояла прекрасная погода. Можно было валяться на солнце, отправиться в город, напиться и так далее. Мы, возмужав, ощущали себя настоящими мастерами своего дела. На соседних вагонах работали гражданские из местных жителей. Помню двух братьев, одному из которых было примерно семьдесят, а другому шестьдесят восемь; старший обращался к младшему «мой маленький братишка».
Городок Токумваль стал для нас чем-то вроде родного дома. Мы хорошо поладили с его обитателями и даже крепко подружились с некоторыми из них. Тот факт, что мы носили форму австралийской армии, менял все. Нас принимали с радушием, приглашали домой, а после войны трое или четверо ребят из моей роты женились на дочерях состоятельных горожан.
В Олбери, где нас на время расквартировали, мы занимались такой же работой. По одну сторону от станции Олбери находился грузовой перрон, а по другую – перрон для пассажирских поездов. В те дни между Мельбурном и Олбери курсировал поезд, который мы в шутку называли «отборным составом». Это был пассажирский поезд под названием «Дух прогресса», для того времени весьма роскошный и скоростной.
Когда мы работали ночью, что случалось довольно часто, то поджидали очередного прибытия «Духа прогресса». У нас была взаимовыгодная договоренность с работниками поезда. Мы ждали у того места, где останавливался вагон-ресторан и у открытой двери стояли официанты с коричневыми бумажными пакетами, полными объедков от вечерней трапезы богатых пассажиров. Они продавали эти объедки по бросовой цене, но для нас куриные ножки и прочие деликатесы были королевским кушаньем. Мы брали пакеты в лагерь и устраивали праздничные ужины, запивая вкусную еду огромным количеством пива. Кулинария «Духа прогресса» по три-четыре шиллинга за бумажный пакет была большим подспорьем для нас. Помню, словно это было вчера, как стою на станции с двумя-тремя друзьями, жду поезда и точно знаю, где остановится вагон-ресторан.
В Олбери я завел подругу по имени Лесли, очень красивую девушку, высокую и белокурую. Она работала учительницей и иногда приглашала меня домой к своей матери на добрую трапезу. Мать считала, что ее дочери повезло оказаться под культурным влиянием настоящего европейца, который может научить ее многим интересным и полезным вещам с другого края света. Естественно, что у этого европейца на уме было одно: как бы поскорее затащить Лесли в постель. Девушка оказалась крепким орешком, но была очень мила и добра ко мне.
Мы целыми часами целовались и обнимались на траве, но я не помню, дошло ли дело до того, чего я добивался. Так или иначе, все было замечательно, а ее мать кормила меня превосходной едой. Мое «культурное влияние» день ото дня возрастало, и я уверен, что, если бы не мой ненасытный сексуальный аппетит, мы бы по-прежнему чудесно проводили время вдвоем.
В Олбери также было заведение, где подавали стейк с яйцом – традиционное блюдо австралийского рациона. Помню, как я приходил туда по вечерам и получал пароль «стейк наверху»; это означало, что на втором этаже есть девушки для развлечений. В те дни можно было найти самые необыкновенные способы знакомства с местными обычаями и культурой. Мы действительно вписались в общество, и люди очень хорошо относились к нам.
Еще я работал на CSR (колониальном сахарорафинадном заводе), где управлял лебедкой, грузившей мешки с сахаром. После этого у меня от запаха сахара две недели болела голова. Это была невероятно трудная работа. В летнюю жару от сахара поднимались невыносимые удушливые испарения.
Друзья-солдаты из Восьмого корпуса на реке Мюррей в Токумвале, 1944 г.
Потом была работа в другой команде, с которой мы разгружали суда с цементом из Америки. Нас на две недели послали в мельбурнский порт грузить большие мешки с цементом. Грузовые суда подходили одно за другим. Помню, что я ходил весь белый, потому что цемент схватывался под душем и смыть его было невозможно. Именно тогда прошел слух, что японцы вот-вот вторгнутся в Австралию. К счастью, Америка спасла континент от японского вторжения, что было кстати, потому что дома осталось очень мало австралийских солдат. Большинство из них сражались на Ближнем и Дальнем Востоке.
Ближе к окончанию войны я сменил свою комнату на маленькую хижину на задворках большого дома с меблированными комнатами на Бромби-стрит в Южной Ярре, пригороде Мельбурна. Это была настоящая хижина под большим старым деревом, с небольшим навесом, под которым я держал свой автомобиль. Размер жилья составлял примерно два на четыре метра. Мой большой чемодан, с которым я путешествовал всю дорогу от Берлина, стоял слева от входа.
На стенах висели маленькие фотографии и коллажи в рамках, которые я изготовил еще мальчишкой. Стены были оклеены выцветшими обоями с цветочным узором, а в углу стояла очень узкая железная кровать, накрытая покрывалом тоже с выцветшим цветочным узором. Еще в хижине имелся умывальник и зеркало над ним. Это была вся мебель, потому что больше там все равно ничего бы не поместилось.
Единственная дверь была с «мушиной проволокой», по австралийскому выражению, то есть с металлической сеткой для защиты от насекомых. Для того чтобы принять душ, я должен был пойти в главное здание: пересечь уютный дворик с цветочными клумбами, войти в дом и пройти по коридору в единственную ванную. Люди, снимавшие там просторные комнаты (это был старый австралийский особняк), вовсе не были нищими, но тем не менее пользовались одной общей ванной, и, когда она была занята, что случалось очень часто, мне приходилось возвращаться по коридору, выходить в сад, ждать в течение некоторого времени, а потом возвращаться. Чтобы включить обогреватель, нужно было опустить монетку в один шиллинг, после чего газ зажигался с громким хлопком.
Я водил всех своих девушек в маленькую зеленую хижину. Среди них я помню одну потрясающую красотку по имени Бетти. Она была очень сексапильной девушкой, с тонюсенькой талией и большой грудью. Я увел Бетти у ее ухажера Джека, который иногда прятался за моей хижиной. Попасть на задний двор не составляло труда: для этого требовалось лишь войти через парадные ворота и обойти вокруг дома.
Когда мы занимались любовью на моей узкой постели, я порой слышал шорох в кустах за хижиной и говорил Бетти: «Тише, Джек там», а Джек вопил: «Я знаю, что ты здесь, Бетти, выходи, я знаю, что ты трахаешься с Хельмутом!» Иногда он так доводил меня, что я вскакивал с постели и в бешенстве кричал в ответ: «Проваливай отсюда к чертовой матери!» Думаю, он тоже устал от этого занятия, потому что исчез с моего горизонта, но в конце концов Бетти вернулась к Джеку и они, как ни странно, поженились.
У меня была другая любовница – одна из немногих, если не единственная, еврейка среди моих многочисленных подруг. Ее звали Луиза Голдинг. Она происходила из богатой семьи. Ее отец владел типографией, где печатали золотые буквы на кожаных книжных переплетах.
Луиза была милой девушкой, и я действительно любил ее. Однажды, в момент непростительной слабости, я сделал ей предложение, которое было принято мгновенно и без колебаний. Иногда я ходил к ней обедать и, поскольку это был настоящий еврейский дом, ее мать подавала превосходную еду. Впрочем, я заходил не слишком часто, потому что изнемогал от скуки. Честно говоря, я точно не помню, кто из нас сделал предложение, но если это была она, то я как последний идиот ответил согласием. Меня сразу же пригласили к ней домой на обед, и за столом Луиза объявила о нашей помолвке.
Я буквально умирал от тоски, сидя за столом вместе с ее родными. Потом ее отец отвел меня в сторонку и сказал: «У тебя не будет никаких забот, мой мальчик. Мы состоятельные люди, и я приму тебя в дело». Когда я вернулся домой, то от сомнений не мог заснуть. Я не спал несколько ночей подряд.
Война почти закончилась, и дисциплина в армии стала еще более слабой, чем в военное время, но мне приходилось оставаться на армейской службе, потому что демобилизация в австралийской армии происходила по балльной системе. Это означало, что человек, который не был женат, не имел детей и семьи, демобилизовывался последним. Я не переживал по этому поводу и хорошо проводил время. Мне не приходилось тяжело работать. Наконец в 1946 году меня уволили из армии.
Свидетельство о перемене имени, Мельбурн, 1946 г.
В том же году, снова побуждаемый стремлением стать великим фотографом, я решил изменить свое имя. Фамилия Нойштадтер не подходила для персонажа, которого я себе представлял. Это было все равно что сбросить старую кожу или отслужить в Иностранном легионе и получить новое удостоверение личности. Я решил, что этот человек должен сохранить связь со своей ранней юностью, поэтому сохранил имя Хельмут и выбрал фамилию Ньютон, которая показалась мне хорошим английским аналогом фамилии Нойштадтер. Я поклялся никогда больше не думать о себе как о Нойштадтере. Хотя некоторые люди подозревали, что моя настоящая фамилия звучит иначе, я с большим успехом убедил весь мир, что меня зовут Хельмут Ньютон. Когда австралийское правительство выдало мне паспорт, я с радостью принял его, памятуя о своих первых годах, проведенных в этой гостеприимной стране, но когда меня спросили, какой город указать как место рождения, я без колебаний ответил: «Берлин». Таким образом, мое прошлое осталось реальным, но в нем появилась некоторая двусмысленность.
Глава шестая МЕЛЬБУРН, 1946–1956
Помню эйфорию, которую я испытал, когда уволился из армии в 1946 году. Мне выдали сто австралийских фунтов, что называлось «отсроченным жалованьем». На эти деньги, зажатые в потной ладони, я сразу же купил себе чудесный автомобиль, четырехдверный туринг-кар Ford V81930 года выпуска, словно вышедший из фильма «Неприкасаемые». Теперь я снова остался без гроша, как в Сингапуре после посещения борделя.
Моя мать, жившая с моим сводным братом в Аргентине, прислала письмо, в котором просила меня приехать к ним (мой отец к тому времени уже умер). В ответном письме я написал: «Это совершенно невозможно. Я люблю Австралию и не собираюсь ехать в Южную Америку. У меня даже в мыслях нет уехать отсюда. Я счастлив здесь; люблю эту страну и обожаю местных жителей».
В том же 1946 году я открыл крошечную студию в Мельбурне. Я нашел мансарду на Флиндерс-лейн, за которую ежемесячно платил пять фунтов в австралийской валюте.
Я никогда не думал, что буду зарабатывать приличные деньги, потому что в те дни, когда я начинал свою профессиональную карьеру, фотографы очень редко были состоятельными людьми. Если вы стремились к богатству, бесполезно было быть фотографом. При определенной удаче можно неплохо зарабатывать на жизнь, но не стоило и мечтать о настоящих деньгах.
Мне претила идея о собственном офисе и штате сотрудников. Я всегда был одиноким волком и работал с одним ассистентом. С тех пор почти ничего не изменилось. У меня по-прежнему нет офиса и студии, но есть секретарша и один ассистент.
У девушки, которая подрабатывала ретушированием моих снимков, была подруга-актриса. Она предложила пригласить ее ко мне для позирования, чтобы заработать немного денег на стороне. Молодая актриса вошла в переднюю моей студии. Там никого не было; тогда у меня не хватало средств на секретаршу, а сам я, наверное, в этот момент проявлял снимки в темной комнате или занимался чем-то еще. Она села и стала в ожидании разглядывать фотографии, развешанные на стенах моего крошечного кабинета. Так я познакомился с Джун.
Потом она говорила мне, что никогда раньше не видела ничего подобного. Она была совершенно зачарована и ожидала, что «Хельмут Ньютон» окажется пожилым человеком с длинной бородой. Но когда я приоткрыл дверь и высунул голову в комнату, то оказался вовсе не бородатым стариком, а молодым, симпатичным щеголем-иностранцем!
Она была очень хорошенькой, и я сразу же сказал: «Вам нужно будет прийти, чтобы сделать пробные снимки», как говорят все фотографы, даже в наши дни. Если молодой фотограф хочет переспать с моделью, он говорит: «Приходите для пробных снимков после окончания рабочего дня». Джун пришла, но я так ничего и не добился.
Я пригласил ее пообедать, она согласилась. Я отвел ее в мельбурнский ресторан «У Марио», который считался шикарным и дорогим. Мы сели за столик для первой совместной трапезы, я нервно пересчитывал в кармане скудные сбережения.
Когда дело дошло до десерта, Джун заглянула в меню и решила, что она хочет Crpe Suzette [8] . Она даже не знала, что это такое, но десерт был самым дорогим блюдом в меню. Сейчас она клянется, что не смотрела на цену и ей просто понравилось название. Я же сказал себе: «Вот дрянь! Она заказывает самый дорогой десерт, а я сижу как на иголках, не зная, хватит ли у меня денег заплатить за обед».
По выходным я вывозил Джун за город на пикники с пивом и цыплятами в своем замечательном автомобиле, который я любовно окрестил «Вероникой». Однажды мы нашли уютное местечко, расстелили одеяло и закусили на свежем воздухе, а потом я покрывал ее поцелуями, что ей очень нравилось, и попытался раздеть. У нее была масса ухажеров. Одно время она носила красивый белый свитер с вышитыми на нем мужскими именами. Там были Гастон, Билл, Дэвид и еще кто-то, но я никогда не страдал от ревности и находил все это очень забавным.
Мне не удалось далеко продвинуться в своих ухаживаниях. Сначала это возбуждало меня, а потом начало бесить, поскольку я европеец и не люблю всех этих китайских церемоний. Но она просто никак не решалась уступить мне.
В конце концов я переспал с ней в моей маленькой хижине.
Потом мы надумали отправиться на несколько дней в старый шахтерский городок Балларт, в нескольких часах езды от Мельбурна, для проверки нашей совместимости. Мы зарегистрировались в гостинице и провели ночь на скрипучей железной постели с ужасным продавленным матрасом. Обстановка была не самой подходящей для бурной страсти, но это нас не остановило, и мы пришли к выводу, что с каждым разом становится все лучше.
Мой первый автомобиль Ford V81930 года выпуска, с подружкой и ее отцом
В то же время я продолжал встречаться с Луизой Голдинг. Тогда я встречался со многими девушками. Дора Маклеллан была моей подругой в военные годы; хотя мы больше не спали вместе (или, по крайней мере, не очень часто), но оставались добрыми друзьями. Она была умной женщиной и гораздо старше меня. Дора работала в лаборатории промышленного химического анализа на Флиндерс-лейн, а ее босс был ее бывшим любовником. В прошлом у нее было огромное количество мужчин. Потом она завела любовника, который бил ее. В то время мы еще продолжали встречаться, и мне кажется, ее не смущало, что время от времени ее колотят. Так или иначе, ее босс был очень любезным человеком. Иногда, когда я заходил к ней в офис, мы втроем отправлялись на ланч.
Пробная фотография Джун Браун в моей студии, 1947 г.
Хотя я свободно разговаривал по-английски, босс Доры знал, что я иностранец, и обычно обращался ко мне в полный голос, поскольку думал, будто я лучше пойму его, если он будет говорить очень громко. Во время ланча он начинал кричать, что очень забавляло меня. Разговор велся на таких повышенных тонах, что Дора говорила: «Перестань кричать на него, он хорошо говорит по-английски. Он знает английский!»
С какого-то времени мои отношения с Джун стали серьезными, и я начал подумывать о том, чтобы жениться на ней, но в то время мы еще были обручены с Луизой. Я находился в ужасном затруднении. Когда дело дошло до крайности, я позвонил Доре и сказал: «Послушай, давай встретимся в кафе. Мне нужно посоветоваться с тобой». Я рассказал ей о своем положении и действительно получил от нее отличный совет. Она спросила: «Ты действительно хочешь жениться на Джун?» – «Я еще не вполне уверен, но думаю, это возможно», – ответил я. «Луиза беременна?» – спросила она. «Нет, конечно нет!» – воскликнул я. «Тогда в чем проблема? Просто скажи ей, что между вами все кончено!»
Это был очень хороший и разумный совет. Я всегда очень высоко ценил женский прагматизм и здравомыслие.
Мы с Джун стали встречаться регулярно. Она полностью устраивала меня в качестве подруги еще и по той причине, что играла по вечерам в театре. Днем она работала в офисе. Должно быть, начальник отдела очень хорошо относился к ней, поскольку на службе она практически ничего не делала. В течение дня она обычно раскладывала под столом либретто и заучивала роли для тех пьес, в которых должна была играть вечером.
Я стал завзятым театралом. Ранним вечером я печатал фотографии в темной комнате, а в девять часов приходил в театр, садился в заднем ряду и смотрел пьесу, в которой играла Джун.Это повторялось изо дня в день. Я был совершенно очарован ею. После представления мы отправлялись ужинать, а потом я отвозил ее домой в зажиточный пригород Мельбурна Кентербери.
Днем я гулял по Флиндерс-лейн – длинной, узкой улице с многочисленными магазинами и ателье, – где показывал свои фотографии и пытался получить работу в надежде приобрести славу модного фотографа.
После загородной прогулки или посещения кинофильма с подругой было принято «приглашать» кавалера на чай или домашний ужин, в зависимости от времени суток, но Джун никогда этого не делала. Потом я выяснил причину: она не умела заваривать чай. Она даже не могла вскипятить чайник. Когда она наконец пригласила меня к себе домой, чай подала ее мать. Вместе с тетушкой Элли, старой девой, они подвергли меня экспресс-оценке. Они раньше никогда не видели иностранца, тем более еврейского происхождения.
Однажды утром, после бурной ночи, проведенной в моей маленькой хижине, Джун появилась дома рано утром, одновременно с разносчиком молока. Когда она вошла, дверь скрипнула и послышался голос тетушки Элли: «Вот она, Мод! Ах ты, негодница! Мать всю ночь не спала, сидела у окна и высматривала тебя!»
После этого случая мать Джун целый месяц не разговаривала с ней и запретила встречаться со мной. Джун было двадцать три года. Я сказал ей: «Послушай, ты взрослая женщина. Ты можешь делать все что хочешь и вовсе не обязана слушаться мать – во всяком случае, насчет нас с тобой». Джун сказала, что она никогда не сможет солгать матери, но мы продолжали тайно встречаться. Я забирал ее из офиса после работы, и мы заезжали в паб, где пили пиво и разговаривали.
Впоследствии Джун рассказала мне о моменте, когда она поняла, что действительно любит меня. Дело было субботним вечером; я отвез ее в уютный мельбурнский паб под названием «Риверсайд Инн». На мне был двубортный серый костюм, который я привез из Сингапура. Она сказала, что смотрела, как я иду к стойке бара, беру напитки и возвращаюсь к столику, где мы сидели. Именно тогда, по ее словам, она по-настоящему влюбилась в меня. Я хорошо помню этот момент.
В центре Мельбурна есть озеро под названием Альберт, которое находится в одноименном парке. Озеро искусственное, но оно всегда мне нравилось. Альберт-парк был любимым местом наших вечерних прогулок. Однажды мы сидели в автомобиле, над озером сияла полная луна, и я спросил Джун: «Ты не думала о том, чтобы выйти за меня замуж? Мне бы этого хотелось! Но я не уверен, что брак пойдет тебе на пользу, потому что ты очень хорошая актриса». Мы оба понимали, что, если она выйдет за меня замуж, ее актерская карьера пострадает. Игра на сцене была единственным занятием, к которому она серьезно относилась. Значительно позднее, в Париже, когда ей пришлось прекратить выступления из-за языкового барьера, она впала в глубокую депрессию.
«Почему бы нам не жить вместе? – предложил я. – Я не против супружества, но хочу предупредить тебя об одном: моя работа всегда будет стоять на первом месте. Я отправлюсь туда, куда она потребует, как бы сильно я ни любил тебя». Мне было двадцать семь лет, и я уже не сомневался в этом.
Я также сказал Джун, что никогда не буду богатым человеком. Возможно, на каком-то этапе у нас будет достаточно денег, чтобы приобрести хорошую квартиру, но тогда это казалось мне нереальным, принимая во внимание скудные заработки фотографов. Я счел нужным сообщить все это Джун еще и потому, что ненавижу обязательства. Я считал, что, если скажу об этом заранее, потом она не сможет меня упрекнуть: «Ты уговорил меня выйти за тебя, мерзавец!» Поэтому я предупредил ее обо всем, но она сказала: «Ладно, давай поженимся».
Что в ней было особенного? Прежде всего то, что раньше я никогда не встречался с актрисой. Она всегда могла рассмешить меня (и сегодня может). Кроме того, она замечательная певица. Я помню, как целыми часами водил свою «Веронику», опустив боковые стекла; дул легкий ветерок, солнце ярко сияло в небе, а Джун распевала чудесные австралийские и английские песни и шекспировские баллады. Наш роман совершенно отличался от тех, которые я имел со всеми другими девушками. Они, по большому счету, ждали только секса, а с Джун я словно попадал в другое измерение.
Мне была очень симпатична ее мать. Помню, как мы с Джун сидели на кровати в спальне ее матери, и я сказал: «Мод, я хочу жениться на Джун, а она хочет выйти за меня замуж!» Она всплеснула руками и спросила: «А на что вы собираетесь жить?» Это был очень хороший вопрос. Джун сказала: «Он очень талантливый и будет знаменитым фотографом!» Но ее мать ничего не понимала в фотографии – единственным представителем этой профессии, которого она знала, был Этхол Смит, шикарный светский фотограф, да еще уличные фотографы, которые стояли на мосту Свенстон-стрит и делали моментальные снимки прохожих. Откуда бедной женщине было знать больше? Поэтому она сказала: «Он будет стоять на мосту и фотографировать прохожих. Как вы собираетесь жить? Что вы будете есть?» – «У Хельмута есть идея совершить путешествие по Австралии на автомобиле, – сказала Джун. – Мы проедем через Северные территории, будем ночевать под открытым небом и увидим всю страну». – «Северные территории? – ошеломленно спросила мать. – Но это же сплошная пустыня. Вы там погибнете!» И она оказалась права: мы действительно могли там погибнуть.
Тем не менее Джун продолжала убеждать ее, так как верила в мои способности, что было довольно удивительно с ее стороны. У меня было ровно три фунта в банке, что в пересчете на современные деньги составляло не более двадцати долларов. У нее не было ничего. Наконец Мод дала свое согласие, но настояла на том, чтобы мы обвенчались в католической церкви. Для бракосочетания был выбран собор Св. Патрика в Мельбурне, а свадьбу назначили на 13 мая 1948 года.
Как еврей, я должен был получить от священника семь уроков по католицизму, иначе меня не могли обвенчать в церкви. Священник оказался очень приятным молодым человеком, который, кстати, заведовал фотографией для католической церкви в штате Виктория. Я с самого начала объяснил ему, что не являюсь достойным кандидатом на обращение в католицизм, и если у нас когда-нибудь будут дети, то не могу обещать, что они станут католиками. Он отнесся к этому с пониманием и сказал, что моя душа потеряна для церкви. В конце концов мы обвенчались, хотя и не у главного алтаря, потому что при венчании католички и неверующего это запрещено. Для людей вроде меня имелся маленький алтарь в боковом приделе собора. Вот так мы с Джун сочетались законным браком. Ее сестра два года спустя вышла замуж за методиста, и на этот раз ее мать ни на чем не настаивала. Ее вполне удовлетворило, что Пегги обвенчалась в методистской церкви, но Джун восприняла случившееся очень болезненно. Я же только посмеялся – это показалось мне забавным.
Наша свадебная фотография, 13 мая 1948 г.
После свадьбы мы отправились провести двухдневный «медовый месяц» в Коусе на Филип-Айленд, а затем сняли свою первую жилую комнату (то есть комнату с кроватью и стульями). Помню, как Джун впервые готовила. Раньше ей никогда не приходилось этого делать. Она жарила сосиски, а я стоял рядом с ней на коммунальной кухне. Это было просто чудовищно! Мы делили кухню с супругами Маскелл, жившими в соседней комнате. Они каждый день снова и снова заводили одну и ту же запись под названием «Ром и кока-кола», да еще и подпевали. Эта проклятая музыка звучала день и ночь.
Однажды я постучал в их дверь и попросил: «Пожалуйста, прекратите». Дверь открылась, в коридор вышел здоровенный австралиец. Я никогда не был любителем драться и не отличался мускулистостью. Он сказал: «Сейчас я сверну твою паршивую шею, ублюдок, и разобью твою поганую башку об эту поганую стену». Мне ничего не оставалось, как втянуть голову в плечи и поскорее вернуться в свою комнату. Он бросился следом и попытался вышибить дверь с криком: «Выходи и дерись, ублюдок, выходи и дай мне надрать твою поганую задницу!»
Итак, наш с Джун первый семейный обед состоял из сосисок. Она положила масло на сковородку, а я стоял рядом и наблюдал. Я очень гордился ею. Потом она бросила сосиски на сковородку, и они сразу же лопнули – то ли из-за жира, то ли из-за масла, то ли еще из-за чего. Разумеется, брызги полетели ей на платье. У Джун вспыльчивый нрав, и ее ирландское упрямство иногда дает о себе знать. Что же она сделала? Схватила сковородку, вывалила сосиски на пол и энергично выругалась. Но я сказал: «Давай-ка, подними сосиски и положи их обратно на сковородку. Я хочу есть!»
В следующий раз мы поссорились из-за Доры. В субботу во второй половине дня у мельбурнцев было принято проводить время в пивных на открытом воздухе. Мы с Дорой договорились встретиться и выпить пива в Фолкнер-парке. Я пробыл там два, может быть, три часа, потом вернулся домой, и Джун спросила: «Где ты был, Хельмут?» Я выпил довольно много пива и разомлел от жары, поэтому зевнул и ответил: «Выпил несколько бокалов пива вместе с Дорой». Джун пришла в ярость. Не помню ее слов, но помню, что она была страшно возмущена тем, что я пил пиво с Дорой в первую же субботу после нашего медового месяца. Она закатила такую сцену, что я сказал: «Послушай, дорогая, я пойду прогуляюсь. Надеюсь, что ты успокоишься, когда я вернусь». И я ушел, потому что ненавижу ссоры. В конце концов, я не сделал ничего плохого – просто выпил пива с Дорой. Я вышел на улицу и погулял еще часа два, а когда вернулся, она действительно успокоилась. Я до сих пор так реагирую на ссоры – не вступаю в них, а просто молчу или ухожу. На следующий день инцидент можно считать исчерпанным. Я не из тех, кто может снова и снова припоминать былую обиду.
Чтобы мы могли есть и платить за квартиру, я делал портреты и свадебные фотографии. Я очень не любил фотографировать на свадьбах. В субботу во второй половине дня я устанавливал свою камеру перед церковью, рядом с тремя или четырьмя соперниками, жаждавшими запечатлеть новобрачных. Приходилось быть настороже, потому что сосед запросто мог открыть кожух вашей камеры и засветить пленку.
После съемки фотограф вручал свою визитку в надежде, что супруги обратятся в его студию и сделают заказ.
Работа Джун заключалась в том, чтобы сидеть в студии и продавать свадебные фотографии женихам и невестам. Они могли выбрать черно-белые или сепиевые снимки, ручную раскраску (что стоило дороже) и миниатюры в крошечных золотых рамках, которые существенно увеличивали наши доходы из-за пробы, вытисненной на них.
К несчастью, Джун была худшей продавщицей, какую можно найти, и испытывала отвращение к торговле. Я до сих пор помню ее в нашем маленьком офисе, сидящей за столом напротив клиента. Она показывала образцы рамок, увеличенные готовые снимки и свадебные альбомы – в общем, делала что могла. Она знала, как много зависит от продаж. Время от времени я открывал дверь, чтобы посмотреть, как у нее идут дела. Продала ли она хоть что-нибудь? Какое у нее настроение? Каждый раз я падал духом, потому что знал, что все это ее адски раздражает. Образцы были разложены на столе для всеобщего обозрения, однако хороших заказов было ничтожно мало.