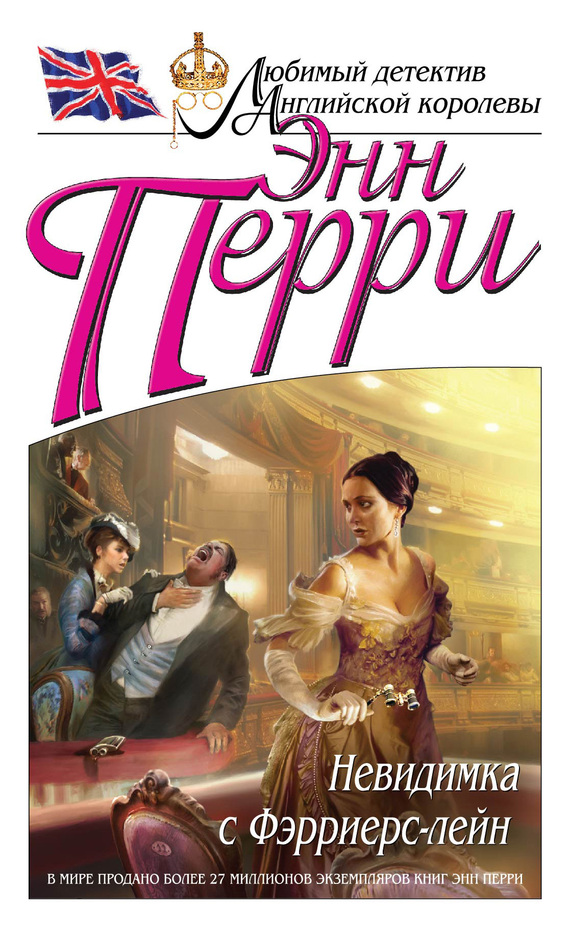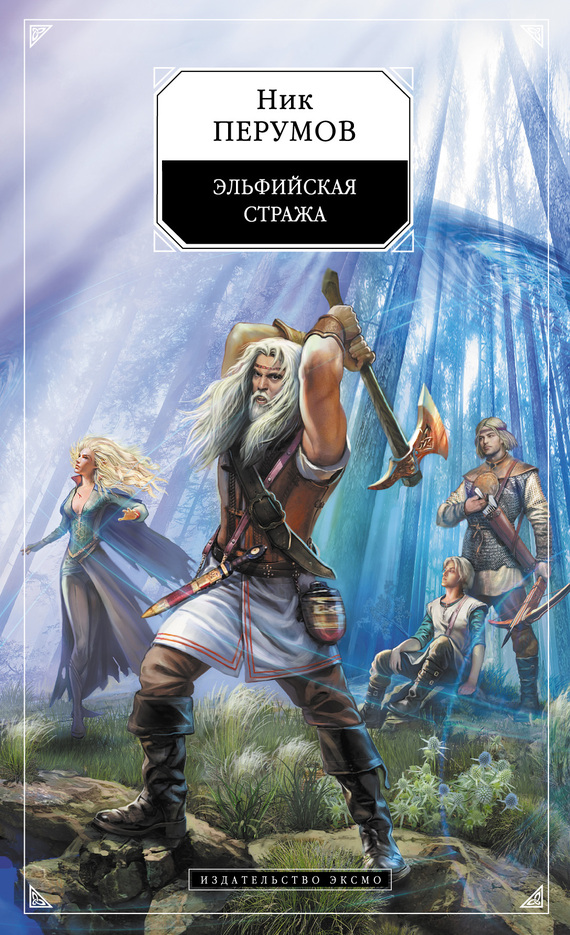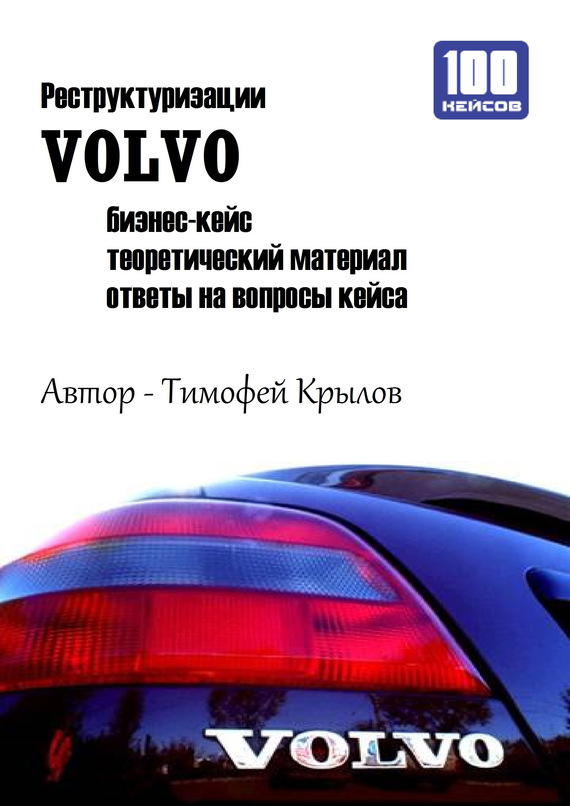Распутин. Жизнь. Смерть. Тайна Коцюбинский Александр
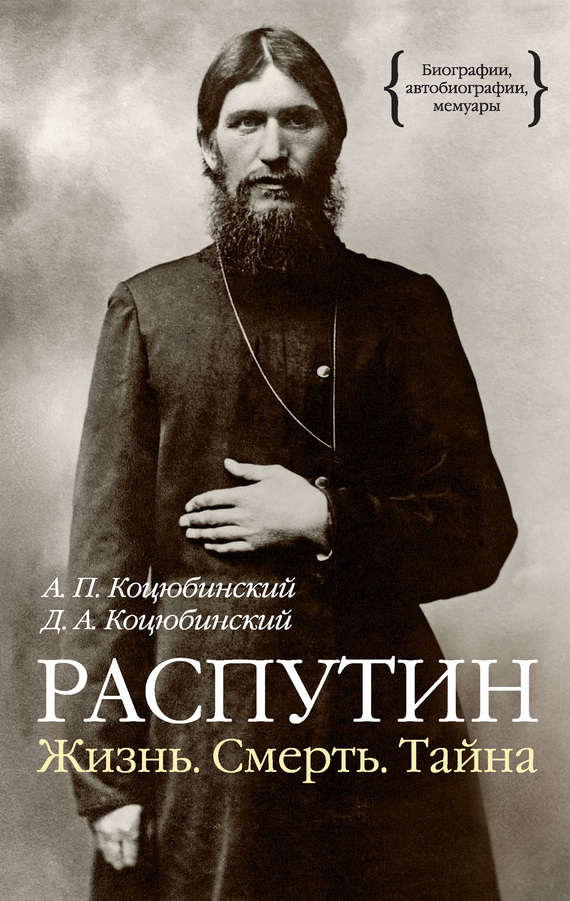
А я яму, – откуль такая смелость взялась, не знаю, – и говорю: «Вот, что: сие запомни, – я сам от себя. А потом от меня будут. И не от хлыстов, а от Григория!»
И он испугался. Даже в лице переменился: «Значит, – говорит, – новое затевается?» – «Новое, новое, свое…» Он отошел.
Потом поздно ночью пришел, сел со мной рядом. Я в углу дремал. «Вот, – говорит, – слушай. Из головы это у меня не отходит, как ты сказал: „Я – сам от себя!“ Вижу, сила большая в тебе». Я молчу.
«Ну… сила, говорю, большая. А большому кораблю – большое плавание». Я молчу, а чувствую, как в жилах у меня кровь переливается. «Что это, – думаю, – дьявол-искуситель, или сама судьба ко мне пришла?» Гляжу на него и – шепчу: «Да… сила большая. Решился так, что мне в столицу надо». – «Куда?» – «Туда, где большие бояре царские, где царь-батюшка и царица-матушка», а… у меня в ушах звон. «Повезу тебя в Петербург, – говорит, – повезу – будешь в золоте ходить. Помни тогда своего благодетеля». А я молчу. «Что, егумен, что ли?» – говорит. Я ему в ноги поклонился. «Коли, – говорю, – ты моя судьба – то как я тебя забыть могу?! Куда поведешь – туда и пойду за тобой, только теперь, – дай одумать судьбу свою». – «Думай, – говорит, – благословляю… А уже утром разговор писать будешь». И ушел… А утром он мне сказал: «Теперь ты мне ближе брата, точно мною рожден. Скажу тебе, что поведу тебя к архимандриту Феофану – святой он старец. Духовник царицын – титулярный. С тем – ты в его душу войдешь, как в мою вошел, что судьба твоя великая, дорога перед тобой – широкая. Понравишься ему – перед тобой – великий путь. А уж он об тебе – наслышан».
Было это не то в 1903, не то в 1904 году. Нет, в 1902. Потому, что года за 2 до войны с Японией.
Позвал это меня архимандрит и говорит: «Получил письмо из Санкт-Петербурга, пишут, чтобы тебя привезти. Крепко тобой интересуются. Не токмо архимандрит Феофан, а барыня одна… из великих княгинь которая… – едем». – «Твоя, – говорю, – воля. Велишь ехать – так поедем».
Оглядел это он меня и говорит: «Приодеть тебя надо, а как таким поедешь в столицу». А я и говорю: «А пошто одевать меня – хоть в пяти водах мой, сразу барином не сделаешь, и не надо, чай-от, не барина, а мужика ждут».
«Мужика-то – мужика, – говорит, – а все же дух от тебя нехороший». – «А, пущай, – понюхают мужицкий дух».
Так он и свез меня.
И было это под Зимняго Николу. Помню это, никогда мне этого дня не забыть… Потому с этого дня моя судьба повернулась, как поворачивается подсолнух к солнышку. Повели это меня к отцу Феофану. Подошел я к нему под благословение. Впилися в глаза мы: я – в него, он – в меня… И так-то у меня на душе легко стало. Будто не я к нему за ключами, а он ко мне. «Гляди, – думаю, – меня не переглядишь… Моим будешь! Будешь, будешь!» И стал он моим.
Не то благодействую, не то уживаюсь… не то скучаю… Потому хоча и возил он меня и показывал, как райскую птицу, и восчувствовал я, что хотя и позолотилась моя судьба, но что-то в моем сердце подломилась. И так мне было и сладостно и грустно… Понял я, что моей мужицкой свободе – конец пришел. Что будут они все со мной в мужичка играть, а что мне их, господ, их хитрости постигнуть надо, а не то мне скоро – крышка, капут. Тут-то и разбилась моя дорога в два конца.
Часть 2
Папа, Мама и Маленький
Папа1
Папа… что ж, в нем ни страшного, ни злобного, ни доброты, ни ума… всего понемногу. Сними с него корону, пусти в кучу – в десятке не отличишь. Ни худости, ни добротности – всего в меру.
А мера куцая – для царя маловата. Он от нее царской гордости набирает, а толку мало. Петухом кружится. И тот мучается. Только у него все иное… Все полегче… одначе, чувствует: не по Сеньке шапка.
Мама2
Мама – это ярый воск. Свеча перед лицом всего мира. Она – святая. Ибо только святые могут вынести такую муку, как она несет. Несет она муку великую потому, что глаз ее видит дале, чем разум разумеет. Никакой в ней фальши, никакой лжи, никакого обману. Гордость – большая. Такая гордая, такая могучая. Ежели в кого поверит, так уж навсегда обманешь ее.
Отойдет от нее человек, а она все свое твердит: «Коли я в него верила, значит, человек стоящий». Вот.
Такая она особенная. Одну только такую и видел в своей жизни. И много людей видал, а понятия об ей не имеют. Думают, либо сумасшедшая, либо же двусмыслие в ней какое. А в ней особенная душа. И ей, в ее святой гордости, никуда, окромя мученичества, пути нет.
Чем я взял Маму
О чем бы ни писал, все к одному вернуться надо. Как удержать власть над Мамой… Потому ей – замест Папы хоча. Бывает, найдет на яво такое. Хошу, мол, штоб по мояму было. Тогда он, как бык сорвавшись, делов понаделает? А все же нам всем хорошо известно, что большие дела делать – значит с Мамой в ладу быть.
«Вот ты, [Бадма3,]лекарственник, всяку хворь лечить умеешь. А можешь ты сделать таку хворь, штоб тобой человек болен?» Он не понял. Ну, пришлось ему растолковать. «Надо мне, – говорю, – штоб Мама все обо мне печаль носила. Штоб в кажном шаге обо мне мыслю имела. И окромя меня штоб никто ей не мог настоящего дать покоя и веселья».
Задумался Бадма… и грит потом: «Сие большим шарлатанством почитается, одначе есть такое. Вот, – грит, – она от твоего послуху не уходит?»
«Аж ни Боже мой! – говорю, – как дитя малое меня слушает и почитает, только это ежели я к ей часто наведываюсь. А ежели надолго отлучиться, так оно и тово… страшновато». – «Ну вот, – грит, – дам я тебе несколько платков шелковых… ну, пузырек тоже. Тебе ежели отлучиться надо, ты ей платочек дай, сперва не боле 4-х капель вспрысни и скажи: „Ежели, мол, тебе кака докука али печаль, мой платочек повяжь… так, штоб на виски замест кампрессу. Пройдет головка – спрячь, да штобы в темноте“. Такой платочек месяца на три хватит. Ну а ежели в отлучке, так ей другой пришли… попомни».
«А секрет с сим платочком такой, што повяжешь им голову, будто туман какой, тошно пьянеешь. Ну, так то приятно и легко… и будто слабость кака и ко сну клонит… И уже ни за што от яго не отвыкнешь».
А как я ей сказал, што повязываясь, то так мое имя поминать должна и обо мне думать, то уже, конешно, она верила, што сия сила от меня, Григория, исходит… Вот.
Боле 5 лет сими платками я Ее и Ево (Николая II и Александру Федоровну. —Д. К., И. Л.) тешил.
Унять кровь
Многое дохтур знает, а о многом и понятиев не имеет. Што, откуль и почему у Маленького (Маленький, Солнышко – наследник престола Алексей Николаевич. – Д. К., И. Л.) така незадача. Чуть где царапина (ежели, скажем, булавкой ткнул, што у всякого три капли, три кровиночки выйдет, а у него ручьями хлынет). Такая болезть бывает редко. Одначе случается и в деревнях. У кликуш. А лечим ее так, што заговором зовут. Одначе «заговоры» – одно дело пустое. И в них только бабы верут. И то скоро понимают, што тут обман. А действовать, одначе, можно. И хоча я и сам в этом деле кое-што понимал, ну а больше меня Бадма научил. Клопушка али Бадма человек очень даже полезный. Только к яму надо умеючи подойти. Дело в том, что такие, у которых так кровь бьет, очень они люди нервные, тревожные, и штобы кровь унять, надо их успокоить. А это я умел. Одначе надо еще и лекарство, и это он мне дал. Это такие маленькие подушечки (в пятак величиной), а на их белый крест вылит. И ежели сильно кровоточит, на больное место положь – и все тут. Средствие это верное, только яго клади с оглядкой, от яго большая слабость.
Этим он меня снабдил, ну а я Маме дал. Научил, как класть. А в подушечке – так я ей пояснил, моя молитва вшита. Вот.
А главное, всегда говорил я Маме: «Помни, все с верой и моим именем». Вот.
Как Мама испугалась
Кто сердцем искренне верит в Бога, тот и в черта верит. И как ни хитри, ни лукавь, а черт бок о бок ходит с Господом Богом. Вот.
Мама не токмо верит в Бога, а вся ее чистая душа в этой вере живет, и потому ее спугнуть так же жалко, как неоперившегося птенчика. И наши святители сие знают. И часто неразумно ее пугают, смущают ея покой.
Было это давно. Мама сидела с Маленьким на руках в саду у себя; ан вдруг большой черный орел над ея головой пронесся, да так близко, что Мама почувствовала, будто на нее ветром подуло от взмаха его крыльев. Мама вскрикнула…
А когда ввечеру спросила у свово духовника – был тогда Феофанушка4, – что сие обозначает? То он сказал: «Надо молиться, ибо черный орел – вестник смерти; надо молитвой отбить сию страшную весть».
Уже к ночи с Мамой такой был припадок, што ея профессор Боткин5 сказал, что трудно поручиться за нее. Она билась, как подстреленная чайка, и все шептала: «За мной, это за мной прилетал он!» Ночью вызвала меня Аннушка6. Когда я пришел к ей, то думал, што уже запоздал – такое у ей было страшное лицо. Гляжу на Аннушку и спросить боюсь. Только чувствую в душе своей, что Мама жива. Ея дух всегда со мной… Думал иное: не потеряла ль она разума? А Аннушка чуть шепчет: «Иди, иди скорее. Доктора в тревоге. Папа в ужасе…»
Вошли. Всех выслал. Положил руку на голову. Уснула и, засыпая, чтой-то шептала, да мне не понять. Спрашиваю у Аннушки: «Чем она?» Говорит: «Спрашивает у тебя: к жизни, к смерти этот сон?» Стал гладить ее и говорить ей такое веселое, такое хорошее, что у ее лицо, как у младенца, заулыбалось. Заснула. Проспала часа два. Велел Зати7 принести ея питье, когда выпила, спрашиваю: «Откуль такое? Кто и как напугал?»
Оказывается, никто не знает, она даже Аннушке не сказала. Рассказала мне и про орла, и про то, как святой дурак разъяснил.
Рассердился я и прикрикнул на нее (уж я в то время стал яво отваживать от Папы и от Мамы): «Он не духовник, а злой каркун, завидные глаза яво! Черный орел – это не вестник смерти, а вестник великой Царской радости! Случится чудесное твое избавление от тех, кто от тебя и от Солнышка заграждает милость Божию. Ен есть знак хороший!» Опосля еще, как Мама совсем успокоилась, то сказал ей: «Помни таку мудрость: „Дураку и ворогу николи сна не рассказывай!“» Вот.
Так надо завсегда ее оберегать и от божеского, и от нечистого. Вот.
Игнатий8
У каждого человека должен быть такой дружок, будь то жена, полюбовница или вор-половинок, с которым всю душу выворотить можно. И нет человека, который сие не поймет.
Всякое бесстыдство, всякая разбойность укроет, а сам, может, страдает боле того, кто сотворил худо. Потому нет ничего горше, как чужое дерьмо руками перебирать.
Такое дружок у Папы – Игнатий. Они его так величают, а как он окрещен и крещен ли, об этом не знаю. Мама его зовет Эрик. Держут его в тени… мужик и мужик. А колупни его, попробуй… Он те такой дворец поставит, что любому князю любо-дорого.
Казна большая… Почет большой… А знати нет.
Князья-родичи его как огня боятся и как от черта отплевываются.
Мужик мужиком, так для всех, а у себя над баринами барин. А с виду лесной разбойник. Никогда глаз не подымает, никому руки не подаст. Меня кабы мог, живьем бы съел. Вот он какой. Штука ядовитая.
И вот какой вышел случай:
Илиодорушка9 до баб человек чистый. Брезгует ими… А может, хитрит. Ну вот.
Жила при ем одна монашенка, говорил – племянница. Думаю, это верно, потому лицом схожа. Краса – жгет прямо. Повадилась это она в Царское ходить… И подглядел ее как-то Игнат. Для себя ли, для Папы наметил, доподлинно не знаю. Только раз девонька побывала в Софийском соборе, а оттуль уже не вернулась…
Ждал это Илиодорушка день, другой, третий… волноваться стал, мне про сие рассказал. Не иначе, подумал я, как у наших пакостников. А Илиодорушке говорю: «Ты не горюй, девка вырастет». Вот. А он даже почернел весь. Изо рта пена бьет. «Что ты, – говорит, – мелешь. Она от срамоты помереть может. Очень уж гордая». А я в смех… Все гордые до первой кучи золота. Вот.
А с ней такая вышла незадача: ее Игнат для себя приманил, встретил он ее у Петровнушки, гадать вздумала девонька, как увидал ее – точно ошалел… обожгла девка: глаза у нее так и обволакивают, а голос будто песня. Ох и красива девка. Приластился к ней Игнат, и видно, и ей по сердцу пришелся. Одна помеха – монастырь.
А он смеется. «Если надо, – говорит, – я монастырь руками снесу, золотом засыплю…»
Одним словом, то да се, пятое-десятое, завертелась девонька. И так парня закружила, что жениться решил, а пока что за сродственницу выдавал. У себя жить оставил.
И случись беда – повидал ее Папа… рот до ушей раскрыл. «Откуль такая, почему не показал?»
Игнат впервые оскалился. «Душу, – говорит, – мою возьми, а ее не тронь».
Ну дней эдак через пяток приказал ей Папа цветы полить, ну и пощупал…
Мертвей мертвой кинулась к Игнатию Настюша… и слов нету, и слезы не идут.
«Вот, – говорит, – убей меня, а к нему не пойду, и еще помни: ежели приставать станет, горло перегрызу…»
Потемнел Игнатий, за сердце взяло, задумал девку пока что справадить… Только бы хоть на время спрятать. А назавтра Игнат ушел, а Папа заявился – и пошла потеха… На крик заявился Игнат, видит, девка корчится, а у Папы шрам во всю щеку. Кинулся меж них. Вырвал ее и обземь. Мертвую вынесли: «Вот, – сказал Папе, – ни мне, ни тебе…»
Да так на Папу поглядел, что тот в страхе убег.
Старуха10 пужает
Говорят, ей был такой сон. Еще как она тяжелой царем ходила. Снилось ей (это мне ее енерала – енеральша рассказывала, графиня Джепаридзе), и вот сон ей был. Будто взбирается она с царем Ляксандром11 в гору. Летом это, солнце печет, она с трудом ноги передвигает, а он ее торопит: «Скорей да скорей». А она просит: «Дай ты мне отдохнуть», а ен грит: «Младенец наш погибнет, ежели мы до заката солнца до горы не дойдем». А гора далеко, чуть-чуть вершина маячит. А солнце уже спускается. Напрягает это она последние силы… Вот уже гора видна, вдруг видит, ребенок у ней из рук падает. Она к царю Ляксандре: «Чей, – мол, – младенец?»
А ен грит: «Разве не видишь, корона на ем золотая. Наш, значит, наш сынок родной, а Расеи царь Богоданный». Хотят они взять младенчика на руки, а ен от них катится. Никак не догнать его. А когда догнали, он быстро так на гору стал карабкаться. На самую вершину забрался, а на вершине мужик стоит босой, волосы на ем огневые, красная рубаха шелковая, а в руках – топорик. Он топором помахивает, а дите прямо к нему. Ен топором взмахнул, ребячья голова отлетела и прямо ей, матери, на руки упала…
После этого сна большое с ей беспокойство было, даже захворала. Все просила, чтобы ей сон растолковали, и никто ничего ей сказать не мог. Только старушка такая была, Манефой звали, ране в кормилках у царевой тетки жила, так по старости оглупела, аль бесстрашная стала так, ей пояснила: «Будет сын твой царить, все будет на гору взбираться… чтобы богатствие и большу честь заиметь, только на саму гору не взберется – от мужицкой руки падет».
Царица-матушка с перепугу голоса лишилась. Потом, когда очухалась, велела старуху наградить, только на глаза больше не пускать, особенно был ей строгий наказ – никому про царский сон и толкование не рассказывать. Ну а уж баба – известное дело: «Чего не скажет попу на духу, то скажет мужику на пуху».
Об этом, одначе, мало кто знает. Только Старуха всегда поет: «Погибнешь от мужика». А я так думаю, што не от мужика, а от мужиков…
Ну так вот, как сказал ей Пузатый12 про мужика, она точно очумела: «Пойдите к царю, напугайте его чем хотите, только пущай он мужика прогонит, потому что имею предчувствию, што ен чрез яго погибнет». Пузатый успокоил: «Все, – мол, – сделаю… дакументами его (меня) убью!»
А Старуха его подгорячила, да и сама Папу вызвала, долго с им говорила, а потом про свой вещий сон разсказала: «Все, – грит, – от тебя скрывала, да уже боле скрыть не могу».
А Царь-то всего боле – сна испугался. Вернулся домой. Ни с кем не разговаривает, ходит хмурый да сердитый. Ну а Мама, известно, до всего доберется – узнала и про сон, и про то, как его истолковали… тоже не мене его испугалась.
Позвонила это мне Аннушка: «Приезжай, потому с Мамой плохо!» Приехал. Спросил што, да отчего? А она – так да так. Такой, мол, сон и тако толкование…
Я Маму как мог успокоил. И говорю: «Ты яму скажи, што я с Им разговор иметь должон, а про то, што мне сон рассказала, – ни-ни-ни, штоб не знал и не догадался!»
Ну вот, назавтра сижу это я у Аннушки. Ен приезжает. С виду веселый, а Сам как заяц загнанный: все с перепугу оглядывается, дрожит, будто отдышаться не может. Подошел я это к яму и говорю: «Очень мне даже тяжело глядеть, как ты мучаешься… и хотелось об тебе помолиться». А ен молчит, да все так с боязней на меня глядит.
«Ну вот, – говорю я, – не знаю кто и не знаю чем тебя напужал, только сдается мне, что тебя обоврали. Замест великой радости, про печаль сказали». Вот.
А ен даже подскочил: «Откуль знаешь? Кто сказал?» А я так смеюсь: «Ничего не знаю, нихто ничего не сказывал. Только Твои глаза испуг и печаль показуют». Вот.
А ен в растерянности и грит: «Григорий, мне сказывали, будто… ты… меня… убьешь!» А Сам глазами так и колет.
От Яго таких слов и я задрожал… И говорю: «Папа мой! Я раб Твой… против тебя, што пушинка легкая: подул и нет ее, унесет ветром и затеряется… и больно мне и обидно такие слова слышать. И язык мой того не скажет, об чем ты подумал.
Ну а теперь вот слушай: Твоя судьба с моей перепуталась. Еще до рождения, понимаешь, до рождения тоненьким росточком твой царский корень об мой мужицкий обвился, а для сие нужно было, штобы помочь тебе до солнышка дотянуться, а Твое солнце – Твоя царская мощь и слава! Вот. Я тебе в помощь. Вот послушай, завертят тебя твои враги, скрутят, а я топориком, топориком все сучья обрублю. Может, сам упаду, а Твою царскую голову из прутьев освобожу». Вот.
Говорю это я, а сам дрожу… И Господи ли Боже мой! Лбом… царским лбом земли коснулся и сквозь слезы сказал: «Отец Григорий! Ты мой спаситель. Ты святой, ибо тебе открыты пути Господни…» А сам весь дрожит. Запинаясь, рассказал про сон своей матери.
И я Яму сказал: «Об чем буду говорить, ежели я сон разгадал, не зная яго. Я защита твоя – твоим врагам на страх и на унижение». Вот.
Дедюлину – Дулю13
Было сие в 12-м году под Рождество. Уж очень Папа стал куражиться и все Ей [Маме] грит: «Большой мне конфуз чрез Григория». Мама грит: «Уже што хошь делай, а надо штобы в Папе веру подкрепить, ну и языки кое-кому зажать».
Ну, думаю, легко сказать зажать… Еще проверочку сделать. Откуль ветер дует?..
Сказал я: «Аннушке поглядеть надо – кто да как обо мне доносит… Кто пакостит… Видать, што в дому кто-то срет… узнать надо, откуль воняет… Духовито уж оченя стало…» После этого прошло недели две, а может, и боле, только грит Маме Аннушка: «Узнала, – мол, – про Дулю: уже очень он супротив нас идет». Грит, будто бы на обеде со Старухой и сказал: «Головы не пожалею, а уже мужика изведу». Вот…
И сказал он будто тож тако крылато словцо: «Вели, – мол, – казнить – только ране дозволь правду молвить», а потом сказал: «Царь, от тебя твой народ отказуется, потому, – грит, – большой позор российским столбовым дворянам быть под мужиком». А после того грит: «А всего страшнее, што об нас уже печалится… и заграничная страна».
А когда Папа спросил: откуль ему так известно? – он, поганец, пред ним – таку не то немецку, не то аглицку газету выложил. В коей стоит баран (понуря голову), а за ним русска корона волочится, а барана мужик корявый (мой патрет) кнутом подгоняет, а сам пляшет (это я-то), и за мной куча баб «ура» кричат и руки мне целуют. А под сим подпись: «Гибель Рассеи».
Вот стербулы! Ловко!
А потом, грит Аннушка, Папа даже… позеленел весь… И сказал: «Спасибо! Ужо подумаю!»
Ну не дурья ли башка? С него петрушку строят, а ен «спасибо» грит? Одначе это много хлопот поделало…
Все тошно помешались…
1912 г. Покушение
Комиссаров14 ко мне приходил. Всякая дрянь бывает среди людей, особенно среди придворных, но такой дряни – даже я не видывал. За «ленточку», за прибавку, скажи – «отца родного задуши ты», – задушит, не задумается. А уж что касается подвоха или пакости какой – на все пойдет. «Вот, – говорит он, – тихо… А в такой тишине нам не только выслуги, но и дела-то нет никакого». Вот.
«Оно, конечно, деловому человеку без дела зарез», – сказал я. И говорю яму: «Послушай, я, да ты, да стены… понял».
«Как не понять», – говорит, а сам дрожит. «Чего, – спрашиваю, – дрожишь-то?»
«А уж очень, – говорит, – страшный ты, Григорий Ефимович». – «Так вот, – говорю, – будет дело. Будет. Только надо, штоб от этого дела Дуля выкатился, понял?»
Мотнул головой. Глаз с меня не сводит. «Только пошто, – грит, – яго трогать? Уж очень он близкий». Вот.
А потому самому, што близкий. Коль хошь близким стать, место опростать надо. Вот.
«Только, – говорю я, – ты теперь уйди, а повидай меня вечером попозже. Уже одумаю, што да как. Одно вижу, што ты в самый раз теперь мне нужен». Вот.
Ввечеру вместе к Агаше на Васильевский поехали. Што для пьяного дела, што для душевной беседы – во всем Петербурге лучше места нет. Скажи я: «Веселись!»
Винное море польется, весь дом вприсядку пляшет: што голого тела, што песен, так оченно через край! Скажу: «Замри! Хочу дело делать!» За пять комнат ни одного человека – лишняго гвоздя в стене не увидишь! Вот! К ней и приехали. Ужо попито-погуляно… Девчонки с ног сбились, все по приказу. Такой тишины и на кладбище нет.
Вот говорю Комиссарову: «Слухай, в каки часы и где Папа бывает среди офицерья и штобы с выпивкой и все такое? Можешь разузнать и это около вертеться? и штобы небеспременно с ним Дуля перся, понял».
«Ну?..»
«Дак вот… Проследи за этим делом. И парочку-другую отметь»15.
Задумался. А потом бесы так в глазах и запрыгали: «А ежели, – грит, – отмечу кого… так и того… по шапке можна!»
«Можно!»
«Ох, – вздохнул он, – ужо будет весело». Поглядел я на него. Мурашка по телу заходила. Дай, думаю, хотя на минуточку крови, так крови не оберешься. Бес лютый!
«Вот што, – говорю. – Только ежели будешь себя тешить, так штоб по шапке, а не по голове! понял».
«Ну?»
«А вот, черт ты кровожадный. Помни, потешить могу. А крови штоб – не немало»16.
Понял…
Вот чрез три недели это было.
«Все, – грит, – как на гармонике разыграли. Мне, – грит, – Петруша17 вот как подоил. „Мы, – грит [офицер-заговорщик], – старые столбовые не дозволим того, штобы нам под мужиком быть. Еще, – грит, – гвардия себя покажет. Ежели что – прямой с Царем разговор будет!“» А еще сказал [Комиссаров] такое, што «кабы не уговор, што дале шапки не итти, то его [офицера] уморить надо». Матушку царицу просто «Блядь» назвал.
«А тебе што, – грю [Комиссарову], – жалко што ли, ты блядовал? Лицом бес не вышел?»
Вот.
А он [Комиссаров] бесом вертится. «Тоже ведь я Царю слуга верный!»
«Ну, ладно, говори кому безухому, а у меня уши есть. А теперь слушай. На когда наметил?»
«В пятницу ввечеру будет ен: там готовятся к полковому празднику».
«А Дулин-то будя?»
«Должен быть».
«Так. Дак ты побываешь поранее у меня, ужо скажу».
В четверг, сидя у Мамы, сказал ей: «Чую… чую… што-то дымом пахнет, глаза слезисты…» А Папа и грит: «Што ты, Григорий Ефимович, пужаешь Маму-то». А я как крикну на него: «Ты – Царь, а я твой раб, а только чрез меня Господь блюдет Дом Сей. Помни, ты – Царь, а я – Григорий, не тешь беса, не гони от себя благодати!»
Мама затряслась вся, и Папа потускнел. Ничего не сказав, вышел.
Успокоил Маму и ушел.
С утра заявился Комиссаров: «Все, – грит, – в полном сборе. Только Папа чего-то мечется. Одначе сказал: „Буду“. Ящо повелел с Им быть Дуле-то».
«Так-так, – говорю. – Надо следить – кто с им будет. Как его стошнит»18. Вот.
В три часа 15-го 12-го года стало известно чрез Боткина, што было покушение отравить Царя…19
Окромя Аннушки, сие дале не должно было итти. Надо было сей слух затушить тут же. Особенно потому, что среди пирующих был и великий князь Михайло20. А много было разговору, что меж них какой-то спор шел. Вот.
Сбились доктора. Рвота не унимается. Уже в 9-м часу я был вызван. Бадя был у меня. Успокоил, што, окромя лишнее посрет, ничего не будя. Одначе – воротить долго будет. Когда в 8 машину мне подали, я уже чрез Аннушку обо всем был оповещен. Штобы меня вызвали – на этом Мама настояла.
Пришел я к Нему. Не то дремлет, не то стонет. Поглядел на меня и шепчет: «Спаси, святой Отец. Прости меня!» – «Господь спасет», – говорю. Приложил ко лбу, потом к устам крест. Потом говорю: «Дай моим платком (с креста снял) покрою Тебя. Господь с Тобой!» Чрез пять минут спокойно спал.
Профессор Боткин сам чуть не обосрался: «Вот, – грит, – што значит хорошее сердце!» Вот дурак. Индюк краснозобый! Мама вся так и впилась в меня. А Папа, очнувшись, шепчет: «Вот он дым-то, што глаза ел! Друг ты наш. Спаситель. Один ты только нам верен». Даже заплакал. «Вот, – грит, – никому я зла не желаю, нет у меня ворога. Нет супротивника, за што, Господи, такое на меня зло имеют?»
Я яго успокоил. «Люди, – мол, – не умеют понимать Царя мягкого, царя милостиваго, им бы только понимать лютого ворога. Вот. Зверюгу какую. Одначе, – говорю, – лежи спокойно; доколь я с Вами – милость Божья не оставит!»
Написал Папе
Третий день Мама в слезах измывается. Большая обида вышла через Н. П.
Сказывала Аннушка, что Мама чегой-то боится со мной встретиться. Ничего не понимаю. Велел Аннушке проследить.
Оказалось, от Папы ей тайное послание было, в коем он пишет, что ежели не будет мне – Григорию – конца положено, то он – Папа – боле домой не вернется и свои меры примет. Такое строгое письмо он еще впервые пишет. Не иначе, как Старуха науськала.
А Папа, известно, скажет – что в лужу перднет.
От этих его слов с Мамой такой припадок случился, что два часа в бесчувствии лежала. Два раза Аннушка мой платок клала на лоб: действия никакого. Только как в третий раз положили – очнулась и велела Аннушке мне обо всем рассказать и еще велела мне в тайности ее повидать у Знаменья, потому у Аннушки не можно. Там столько глаз, что ничего не скроешь.
А узнав обо всем, послал я Папе телеграмму: «Над твоим домом вороны каркают, гром гремит. Большой ливень, были слезы. Но не будет гроба, ибо родится радость великая. Молись Богу, я за тебя молюсь. Рожь будет колоситься, будет сочный колос».
15 марта 1915 г.
Дорогая моя Мама! Подумай над всем, что я тебе пишу: твоя вся жизнь – в твоем Солнышке. Потому без него, какая тебе радость. Зачем строить гнездо, если знаешь, что его ветром снесет. Так. Для сохранения всего – не токмо гнезда, но всего леса, надо поубрать тех, кто этот лес с трех концов поджег. А кто сии поджигатели: с одного конца Гучков21 с своей партией – он, ты уже мне поверь – он над разбойниками – разбойник. Он не токмо гнездо подожгет, птенчиков переловит и в огонь бросит. Второй враг – это братья и родичи Папы. Они только ждут, чтобы кинуть спичку. И третий самый страшный враг – война. Потому ежели все по-хорошему будет, все на своем месте, то никакой чужой, охотник в тот лес не заберется, а так двери открыты! Открыты двери! Вот. Теперь, как же уберечь гнездо? А вот как. Говорит Папа: «Не хочу позорного мира, будем воевать до победы!» А победа там тр… (так в тексте. – Д. К., И. Л.). Он, как бык, в одну сторону: «Воевать до победы», а Вильгельм с другой.
Взять бы их, да спустить. Хоть глотку друг дружке перегрызите: не жаль! А то вишь! Воевать до победы!
А победу пущай достают солдаты. А кресты и награды – енералам. Ловко! Добро, солдат еще не очухался. А очухается – тогда што? а посему… Шепни ты ему, што ждать «победы» – значит терять все. Сгорит и лба не перекрестит, а посему вот мой сказ: свидеться с [неразборчиво]22… у яго все как на ладошке, а потом, ежели што – для форм – поторгуйся.
А еще к тебе просьба: сию бумагу на счет осушки болот пущай Папа подпишет. И сделать сие не забором, штобы Дума не пронюхала. А Думу – закрыть. Закрыть Думу! А то Гучков нас всех прикроет. Из-под яго крышки не выскочишь! Вот.
А сию мою молитву Солнышку под головку! А за сим – молюсь об тебе!
1915 г.
Вот сказала Мама: «Чем боле тебя ругают, тем ты мне дороже…» – «А почему такое?» – спрашиваю у Ей… «А потому, – говорит, – што я понимаю, што все худое ты оставляешь там, штобы ко мне притти очищенным… И я тебя жалею за те муки, што ты от людей принимаешь для меня… и еще ты мне оттого дороже!..»
А потом спросила меня Мама: «Правда ли, што говорят, што ты (это я) с женщинами… имеешь?..»23
И тут я сказал Маме такое, што, может, и сам не понимал в себе, ибо сие не от ума… а от духа…
Вот. Сказал я: «Дух мой мучается… люди соблазняют… Пьяный – творю пьяное!.. Но в трезвости вижу нутро человечье… и так больно… так больно… што только в пьяном огне забываю…» – «А пошто, – спросила Мама, – не берешь на себя муку, а топишь ее в вине?» – «Потому што срамоту вижу только в отрезвлении… потому трезваго к себе не подпустят человеки». – «А нас видишь ты? нутро… видишь?» – тихо спросила Мама.
И такое страшное увидел я… што сказал Ей: «Помни, ежели меня с тобой не будет… то великую муку твою выпью… и в тебя волью радость великую… ибо мука земная – во царствие путь… Где ноги твои слезами радости омою… А боле не спрашивай!..» Но уже она не спрашивала. Тихия слезы капали на мои руки… И она шептала, целуя мои пальцы: «О, мой Спаситель, мой Бог, мой Христос!»
И уже уложив ее на кушетку, я услыхал ея шепот. Будто сквозь сон: «Молю тебя… обо всем этом… Аннушке не говори! Не надо!..» Не скажу…
Только сам думаю, што это: бабье, а не царское… – Молить, просить, как нищая… А володеть должна, как Царица. Што ж это?
Несчастная любовь Ольги
Дети говорят: «Нам без тебя така тоска, что мы себе места не находим». Особенно всех больше тревожится Олечка. Видать, ей время приспело. Полюбила она этого Николая боле самой себя. Она с Мамой завсегда така ласкова, така спокойна. А тут сама не своя. То часами сидит молчит, то на каждое слово три сдачи. Как с ей быть? Стала это Мама ее спрашивать. Она в слезы: «Мне, – говорит, – без яво не жить!» Стали об ем справки сбирать. А он из каких-то не видных панков. Отец из поляков был. Ни знати, ни племени. Хоча бы из князей, а тут совсем простого роду-племени. Узнав сие, Мама [заявила]: «Никогда не дозволю!»
Тут пошла така канитель. Сохнет девка. Первая девичья слеза горька – сушит молоду красу. И еще сердце шершавеет, никого близко не подпускает. И стала мне говорить Мама: «У меня, в моем роду, по сей линии большие беды бывали. У нас от такой любовной тоски ума лишались, а посему очень я в большой тревоге».
Вот вижу дело сурьезное. Пошел это к Олечке и стал с ей большую беседу иметь; увидал боль там, крепкая заноза. В глубину корни пустила. Пришел к Маме и говорю: «Полечить ее можно, только полечим и обкалечим. Уже той девичьей веселости, той радости не будет. Уязвили сердце…» Вот… Тут подумать и ах как подумать надо…
А Мама заплакала: «Гордость, – говорит, – моя сильнее любви к своему дитяти… Не быть ей за ним! Не быть!»
Ну, ежели так. То так.
Выходил, вылечил24. Только уже совсем другая стала девонька. В глазах пустота. И улыбка неживая. Жалко ее стало. Нерадостная ей жизня будет. Вот она – гордость-то. Еще она, бедняга, и не знала, как яму судьба. Быстренько его подобрали… А куда, зачем и как? Ольга больших хлопот стоила Маме.
Папа порешил, што быть ей за великим князем Дмитрием Павловичем25.
Росли вместе. Она яму под пару. Все шло к тому, что быть яму в зятьях. Он к ей липнул, а она к яму так, играючи, шла.
Вдруг эта история. Кто в ей повинен? Девушка она характерная. Всего выше свое желанье почитает. Пришлось похворать. Дошло до Дмитрия Павловича. А может, оно от яво и шло… только он чего-то задурил. Тогда Мама сказала: «За подлеца, хоча бы и царского роду… дочь не отдам…»
Да Олюша-то и не собиралась… А тут Дмитрий Павлович как последний прохвост поступил. У нас в деревнях за такое в кнуты берут…
Пустил про ее, поганец, нехорошу славу, а виновником меня поставил. Лечил, мол, старец, и долечил.
Сия скверная погань докатилась до Старухи. Она в гневе на Папу.
Папа впервые на нее прикрикнул: «Я – Царь, и это моя дочь!.. Я могу забыть, што ты, – мол, – мне мать».
Вот.
После этого шуму девонька чуть на себя руку не наложила. Было это ночью. Мама оставила ее, когда она притворилась спящей. Все спали. Вдруг крик разбудил ея покоеву. Татьяна первая кинулась.
Олечка вся в крови. Стонет. В безпамяти. Ножом себя пырнула. Поранила.
Десять дней в постели пролежала; акромя Мамы и меня, никого к ей не пускали. Папа навещал ее, только когда она засыпала. Она боялась Папы. Вот.
Довели девушку до чего? Почему такое? Там – гордость великая, што больше – материнской любви, а тут поганство парня… И где же это? Там, где, кажись, одна чистота, одна радость жить должна.
Одно осталось тяжелое. Олечка, хоча и слушает Маму, а душой от нея отошла…
Где же она правда-то, ежели мы ее своим кровным детям передать не могим?
Митя, мой сын, моя кровь… што я из грязи на солнце выволок, он мне судья… и ежели не пойдет на мои слова – осудит!.. И как еще осудит: а надо будет – может и казнить! потому решимости в ем хватит, моя кровь.
Вот!
1916 г.
Попытка отравления [Алексея]26
Маленький боле с Папой; што все поэтому видят, што он ближе к Отцу, чем к Матери, которой не доверяют. Говорилось и еще разное. Ну, как уж у всех, от разговоров голова кругом идет, то и порешили помене прислушиваться. Да и Папа дал [великой княгине Марии Павловне-старшей]27 отпор, заявив, што ему надоели слухи из княжеских дворцов.
Великая княгиня Мария Павловна заобиделась и вскорости уехала.
А в то время Маленький чего-то заскучал и стал подоле оставаться с Папой.
И случилось это, што, поев каштаны, он пожаловался на тошноту. Пока ему принесли питье – с им стали судороги.
Когда бросились к Папе, Его не было. Вызвали. Но с Папой в моторе стало плохо. В продолжение двух часов положение было очень тяжелое, но Папа при виде Маленького переборол себя. Сказывали, што испуг Его излечил…
Прошло страшных три часа, после которых сказали, што они спасены.
Маленькаго спасло то, што испуганный Деревенько (Деревенько – матрос, следящий за Алексеем. – Д. К., И. Л.) сильно встряхнул его, вызвав рвоты.
Разследование показало следы яда в каштанах. Кроме их двоих, никто не пострадал.
Виновных не оказалось.
Были аресты в поварской части. Ни к чему не привели.
Мама об этом узнала уже там. Выехать Она решила внезапно, почувствовав каку-то особую тоску. С этой поры она особенно боится дворец великой княгини Марии Павловны.
И когда с Ей был припадок, то она все как в бреду испуганно: «Оттуда, оттуда огонь!»
Кто же виновен в этом диком покушении?
Те, кому мешает Маленький…
Те, которые говорят: дать новаго царя – мало… Надо новую ветку!
Старое – долой с корнем!
А говорят так многие. Говорят близкие. А к им не подступиться. Вот.
Как баба, так грех
Уж до чего моя Аннушка от бабьяго отошла, а тут и она сплошала. Может, моя была ошибка, што ей сказал до времени, только вышла чепуха. Раструбили до времени, и птичка из гнездышка вылетела. Вот.
А было такое: отсель подкатилась одна подблядюга. Не иначе, как ее направили Великие князья. Они такое любят. Чуть што опустили возжи – они сразу подсунут бабу. У бабы пальцы цепкие – скорей за кончик поймает.
Ну вот и послали они поближе к Ставке28 такую шкуру: ее Солд… звать. А так полагаю, што она просто подстилка. Ну вот и поселилась она там, штоб Папу заманить. Ей известно, не Он нужен, и без Яго кобелей хватает, – все же нужен Он. И пустили в ход эту граблю беззубую.