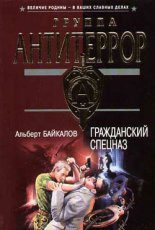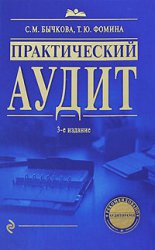Супервольф Шишков Михаил
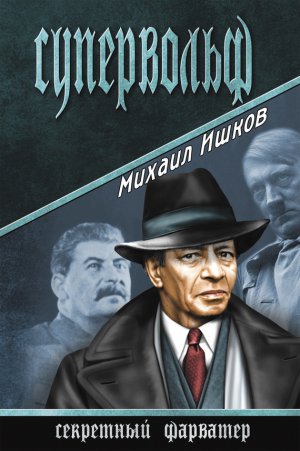
После того откровенного — шахматного — разговора я начал внимательнее присматриваться к обслуживающему медперсоналу. Охраняли меня небрежно, специального поста у дверей палаты не выставляли. На время отсутствия Айвазяна присматривать за Мессингом было предписано медсестрам. Однако девушкам было не до скромного, никогда не жалующегося Мессинга. Сестер не хватало, и у каждой было столько работы, что по распоряжению главврача они просто запирали дверь, отделявшую ту часть коридора, где располагалась наша палата, от общего отделения, и оставляли меня одного.
Однажды в жаркий августовский день, воспользовавшись отъездом соседа, я подъехал к распахнутому в коридоре окну и, привстав с кресла, обнаружил внизу, в тени деревьев лавочку, на которой играли в шахматы на выбывание солидные на вид пациенты. Вокруг них собралось с пяток раненных, ожидавших своей очереди. Все были в добротных пижамах, двое на костылях. Мессинг некоторое время наблюдал за игрой, потом позволил себе дать совет одному из участников. Все разом подняли головы. Я воспользовался случаем и представился. Как только выяснилось, что один присутствующих слыхал обо мне и даже присутствовал на моем представлении, собравшиеся тут же сменили гнев на милость.
Далее все стало проще.
Я признался, что сломал ногу. Несчастный случай! Теперь сижу здесь, скучаю, теряю квалификацию. Хотелось бы поработать. Люди внизу пообещали — поможем!
К возвращению Айвазяна в вестибюле госпиталя уже висело написанное от руки объявление. Я особенно настаивал на том, чтобы оно было написано именно от руки, ни в коем случае ни типографским способом или на машинке. Айвазян бросился к главврачу, но генерал-майор медицинской службы отшил зарвавшегося особиста и заявил, что на территории госпиталя распоряжается он, и ни кто иной.
Была война, и военных, особенно раненых старших офицеров, тем более генералов, чьи палаты размещались в соседнем корпусе, уважали. Примчавшийся в палату Айвазян набросился на меня с угрозами. Я сделал невинные глаза — как Мессинг мог отказать главврачу, явившемуся в палату с просьбой устроить представление для ранбольных. Разве мне запрещали давать концерты? Наоборот, партия дала мне задание любыми способами помочь раненым поскорее вернуться в строй. Разве не так?
Айвазян сразу заткнулся.
Назначенный на вечер психологический опыт прошел на «ура». Мессинг был выше всяких похвал. Особенный смак отыскиванию предметов и выполнению других труднейших психологических заданий, придавала кресло-каталка. Я отыскивал расчески, помазки для бритья, простенькие очки. Но — учтите обстановку! — когда мне представилась возможность угадать, где спрятан орден тяжело раненого подполковника-артиллериста, я ухватился за нее обеими руками. Наводку дали соседи подполковника, попытавшиеся подбодрить угрюмого и неразговорчивого фронтовика. Я спросил разрешение у раненого — имею ли я право копаться в его вещах. Он с трудом кивнул. Я нашел орден Боевого Красного Знамени в его тумбочке и обратился к присутствующим с вопросом — известно ли собравшимся, чем дорога нашему орденоносцу эта награда?
Я опять же обратился за разрешением к подполковнику. Тот не возразил. С его же молчаливого согласия, не задав ни одного наводящего вопроса, Мессинг поведал зрителям, за что был отмечен артиллерист.
Когда я вскинул обе руки и объявил — вижу! — в просторной палате наступила мертвящая тишина.
— Вижу высоту с отметкой 124,5. На вершине разбитый ствол березы. В корнях укрытие, в нем раненый герой, — я указал на подполковника. — Он заменил на наблюдательном пункте смертельно раненого лейтенанта. Бросился спасти его и вот… Связь работает, он отдает приказ. Выстрел, второй, третий — цель поражена. Не вижу цели, только разбитый пулемет…
Подполковник сжал зубы так, что его лицо побелело.
Мессинг обратился к нему.
— Я могу продолжать?
Подполковник кивнул.
— Лейтенант не донесли до медсанбата. Его похоронили под Ржевом, в сырой земле. Это был сын нашего героя.
Подполковник слабо поправил меня.
— Племянник. Он у сестры был единственный. Я должен был присмотреть за ним.
— Простите, за ошибку.
— Ничего.
В другой палате, куда меня вкатили, я предсказал раненому в грудь капитану, что скоро его ждет нежданная радость.
Тот скривился.
— Какая радость. У меня все остались там… — он указал рукой в сторону заката.
— Ждите завтра. До обеда.
На следующее утро в палату принесли письмо от спасшейся чудом жены. Ее с детьми успели эвакуировать в Сибирь.
Все только и говорили о письме. Многие попросили подсказать, когда же им придут весточки. Кому имел право, сказал. Перед другими, их было куда больше, отговорился. Ответил — не знаю.
С того дня пошло-поехало. Слух о Мессинге докатился до других госпиталей. Там начали выражать возмущение, почему к ним не приглашают Мессинга. Местные политработники обратились к Гобулову, и тому пришлось дать разрешение на психологические опыты, ведь формально никакого обвинения мне предъявлено не было. Держать знаменитого ясновидящего под стражей без веских оснований, тем более, в Ташкенте, куда было эвакуировано множество культурных работников, а также писателей и кинематографистов, которые тоже желали лично пообщаться с Мессингом, — было вызывающе опасно. Гобулов по опыту знал, с работниками культуры лучше не связываться. Особенно, с писателями. Где-нибудь ляпнут, потом не отмоешься. И ноги всем не переломаешь, и в Ташкенте не удержишь, как это случилось с таким обременительным гастролером как Мессинг.
Гобулов настоял на моей скорейшей выписке. Меня на той же «эмке», на которой я был доставлен в кирпичный дом, привезли в гостиницу «Ташкент». Вообразите, какую радость испытал Мессинг, обнаружив, что сопровождающими в машину были назначены Айвазян и Гнилощукин. Я поздоровался с обоими, был мил и весел, чем откровенно смутил их черствые чекистские сердца. На прощание они даже не пригрозили мне скорой встречей. И это правильно, само их присутствие было красноречивее любых слов.
В номере меня ждал Лазарь Семенович.
Мы поздоровались. Я позволил Кацу обнять себя, сообщил, что готов к выступлениям.
Лазарь Семенович внимательно, с неизбывной еврейской тоской заглянул глаза и кратко поинтересовался.
— Обошлось?
Я кивнул. Действительно, обошлось. Правда, не надолго. Это было ясно, как день.
Глава 6
Сразу после водворения несчастного шнорера в гостиничный номер я решил убедиться в точности расшифровки кода будущего, которое ждало меня в Ташкенте. Прежде всего попросил Каца отправиться на вокзал и заказать билет в Москву. Лазарь Семенович огорчился — вы решили покинуть нас? Так скоро? Мессинг указал на сломанную ногу и пояснил, что с такой ногой ему трудно полноценно обслуживать зрителей. Ему надо подлечиться, и это желательно сделать в столице. Лазарь Семенович уныло кивнул и безропотно поплелся на вокзал. Вернувшись, сообщил, что билетов на ближайшее время билетов нет и не предвидится. Тем более, что в настоящее время пассажирские перевозки резко сокращены.
Я вздохнул и на машине, присланной директором, мы отправились в контору Госконцерта.
В кабинете Исламов выразил огромное удовлетворение «проделанной в госпитале работой» — он именно так и выразился, чем поставил меня в тупик, — затем, отослав Каца, пригласил на небольшой сабантуй, которое решил устроить по случаю моей выписки из госпиталя. Мы отправились в чайхану, где к нам подсел дружок Исламова, назвавшийся работником местного обкома комсомола. Мы вполне прилично посидели, отведали вкуснейший плов, поболтали о том, о сем. Комсомольский активист объяснил мне, какие первоочередные задачи стоят перед республикой. Это, прежде всего, повышение урожайности хлопчатника, ведь без узбекского хлопка нельзя производить взрывчатые вещества, а это, сами понимаете, чем пахнет.
Я согласился. Я всецело был за то, чтобы хлопка в Узбекистане было побольше. Я даже был готов выступить перед передовиками-декханами и сельскими активистами. Комсомольский секретарь обрадовался, обеими руками ухватился за мое предложение и пообещал снабдить меня всеми необходимыми материалами.
Я удивился — какими?
— Как же, — улыбнулся молодой веселый узбек, говоривший по-русски умно и без всякого акцента. — Неужели в таком деле как объяснение тайн человеческой психики можно обойтись без сравнительного анализа урожайности в различных хозяйствах? Я уже не говорю о цифрах и процентах?
Я выпучил глаза. Азия до сих пор остается для меня загадкой наравне с зовущими из-за горизонта воплями, тайнами непознанного, а также исходом непримиримой борьбы между «материализмом» и «идеализмом». Но в тот день, услышав о процентах, я совсем растерялся. Даже забыл провентилировать мысли задорного активиста.
Секретарь ни капельки не удивился. Он достал из кармана отпечатанные на листочке сведения и объяснил.
— В этой графе — проценты прироста собранного хлопка по сравнению с сорок первым годом, здесь разбивка по районам. Если вам будет что-нибудь непонятно, вот здесь номер телефона, — он указал на отдельные цифры, конспиративно разбросанные по всей поверхности бумажного листа, — по которому вы можете получить дополнительные сведения.
Мне стало стыдно за себя, за телепатию, за всех медиумов на свете. Порой сломанная нога лишает их очень важного качества, отличающего всякое разумное существо, — способности соображать.
На прощание комсомольский секретарь попросил меня выступить в Доме правительства, как только я сочту, что с ногой у меня все в порядке.
На этот раз Мессинг не сплоховал. Он как опытный заговорщик поинтересовался.
— Я со всей охотой, но что мне делать, если компетентные органы порекомендуют Мессингу прекратить выступления? Скажем, по состоянию здоровья.
Активист только руками развел.
— Вот я и говорю, не надо тянуть с выступлением в Доме правительства. В любом случае партийные органы республики всегда готовы помочь вам. Телефончик у вас есть. Как у нас говорят, все в воле Аллаха, не так ли, Исламов? — обратился он к директору гастрольного бюро, который во время разговор об урожайности и процентах слова не обронил.
Тот вздрогнул и решительно кивнул.
Вечером жизнь порадовала меня еще одним знакомством — с Абрашей Калинским. Оказалось мы с ним земляки, правда, дальние. Он был из Ломжи — я, сами знаете, с Гуры Кальварии, что под Варшавой. Где она, теперь, моя Гура? Где мама и папа? Где братья?
Помню в Гуре, Мессингов было полштетеле. Каких только Мессингов у нас не было — и сапожники, и арендаторы, и портные. Сами понимаете, надо было очень постараться, чтобы тебя запомнили, выделили, дали прозвище. Моего отца называли Гершка Босой, немалая честь для нашего местечка. Наверное, потому, что мы были не самыми бедными кабцанами в Гуре; были такие, которым еще меньше доставалось пищи на стол. От такого нахеса сердцу больно.
Азохен вэй, моя Гура! Майн штетеле Гура!
Я смотрел на Абрашу, мы беседовали о былом, а сердцу вспоминались такие строчки на идиш.
- Дэрцэл мир, алтер, Ви зет ойс дос штибл,
- Дэрцэл мир гешвинд, Вос hот а мол гегланцт,
- Вайл их вил висн Ци блит нох дос беймэлэ,
- Алес а кинд; Вос их hоб фарфланцт?[87]
В обществе Калинского мне сразу стало хорошо. Подумал, какой добрый и чувствительный человек!
Я не раз выступал в Ломже, у нас нашлись общие знакомые. У его отца была фабрика мыла. Но он не пошел по стопам родителя, а стал борцом. Организовывал забастовки, даже — вы не поверите! — на отцовской фабрике! В конце концов польская жандармерия сцапала его и приговорила к большому сроку. Спасло его, как он сказал, родство с Львом Захаровичем. Кто такой Лев Захарович? Как же, объяснил мне Абраша, — это же Мехлис, начальник Политуправления Красной армии!
Я удивленно глянул на Калинского.
Он тут же поправился.
— Бывший начальник. Теперь он в немилости, сами понимаете, у кого… — и Абраша стрельнул глазами в потолок.
Ясно, он вхож в число своих. Не к месту родился вопрос, как Лаврентий Павлович обращается с Абрашей. Не грубит ли?..
Между тем Абраша продолжал рассказывать — его мать сообщила Льву Захаровичу, и тот добился, чтобы его родственника включили в число политзаключенных, которыми в то время обменивались Советский Союз и Польша.
— В какое то время? — поинтересовался я.
— В 1937 году. У меня большой подпольный стаж.
В Советском Союзе Калинский, по его словам, «вертелся» уже пять лет. В присоединенном Каунасе его назначили директором фабрики парфюмерных изделий, и он очень подружился с Полиной Семеновной, которая и устроила ему перевод в Ташкент.
Кто такая Полина Семеновна?! Неужели вы, Мессинг, не слыхали о Полине Семеновне? Так это же Жемчужина! Жена Молотова, хорошая женщина с добрым еврейским сердцем, настоящая идише маме! Она руководит всей легкой промышленностью.
Впрочем, стаж подпольной работы Абраши интересовал меня меньше всего. Встреча с ним обещала стать горькой — я ощущал это всей кожей. Оказалось, что я и предположить не мог, до какой степени.
Когда речь зашла о моей Гуре, Калинский потупился и признался, что слышал о моем и соседних штетеле самое ужасное, что может услышать еврей.
Я замер от ужаса. Я уставился на него с такой силой, что он не в силах был промолчать.
— Имею спецданные, в Гуре никого не осталось. Ни Мессингов, ни Кацев, ни Гольденкранцев, ни Горовцов! Всех отправили в Варшавское гетто — помните еврейский квартал в столице? Швабы обнесли его двойным забором и согнали туда всех местных евреев. Теперь, что ни день, оттуда уходят составы. Куда направляются, никто не знает, но пока еще никто не вернулся, ни весточки никто не получил.
Он сказал, а у меня слезы хлынули из глаз. Люди за столиками начали обращать на нас внимание. Я поспешил распрощаться с Абрашей и отправился к себе. Там можно было вволю поплакать.
То, что я узрел той ночью, никому нельзя рассказывать. Это библейский ужас. Это было все сразу — всемирный потоп, избиение младенцев и кара небесная. Впрочем, кто теперь не знает об этом?..
С облачной высоты готов признать — мои недоброжелатели сделали удачный ход. Им удалось выбить Мессинга из колеи. Я доверился Калинскому — человек, сообщивший о маме и папе, не мог быть обманщиком. Он поможет.
И Абраша помог.
Когда он обмолвился, что собирается в Москву, я попросил его о незначительной услуге — опустить написанное мною письмо за пределами республики. Коротенькое такое письмецо, адресованное Трущеву Николаю Михайловичу.
На словах объяснил.
— В письме нет ничего предосудительного. Если хотите, я дам прочитать его.
Абраша удивился.
— Зачем письмо? Сами все можете рассказать адресату? Я могу взять вас с собой.
Я ушам не поверил. То, что Абраша был вхож в высокие сферы, это не скроешь. То, что он имел знакомства с выдающимися людьми, тоже было ясно, но пойти наперекор Гобулову? Мне стало не по себе — разве я вправе подвергать такого благородного человека смертельному риску? Небеса накажут меня за то, что я воспользовался его добротой. Может, кратко обрисовать непростую ситуацию, в какой оказался Мессинг? Тогда, по крайней мере, Абраше будет ясно, на что он идет. Неистребимый романтизм вывел меня из себя. Сейчас не самое лучшее время для глупостей. Разве Мессинг не знает, что такое конспирация? Разве не Мессинг возил оружие в буржуазный Эйслебен! Разве не Мессинг благословил на подвиг Алекса-Еско?!
Калинскому мое молчание, а еще пуще недоверие, были как нож в сердце. Он имел привычку говорить не останавливаясь. При этом балабонил с такой быстротой, что уследить за его сыплющейся речью было непросто.
— Что вас смущает, Вольф Григорьевич? Летчик — мой хороший знакомый. Мы с ним не раз проворачивали такие выгодные дельца, что только держись.
— При чем здесь летчик? — не понял я.
— Неужели вы всерьез решили, что Калинский будет трястись в вонючем вагоне, пить пустой кипяток и ждать на полустанках? Вы заблуждаетесь, дорогой. Калинский полетит на самолете и не на какой-то задрипанной этажерке, а на солидной машине, которая возит серьезных людей, например, фельдъегерей правительственной связи, обкомовских работников, высших военных чинов. Это вам не пассажиры занюханного «пятьсот-десятого», который, того и гляди, свалится с железнодорожной насыпи.
— Но как же вас пускают в самолет?
— Так я же вам говорю — летит, например, первый секретарь ихнего ЦК, товарищ Юсупов[88] до Москвы. Я ему звякну — Усман Юсупович, захватите до столицы одного серьезного пассажира, у него есть дело до товарища Жемчужиной. Юсупову только стоит услышать это имя, как он не поленится «паккард» за мной прислать. В самолете мы все, что требуется республике по части товаров народного назначения, обговорим. А вы говорите, пускают…
Он глянул поверх моей головы и, обиженный, сложил руки на груди.
Я не удержался от вопроса.
— Когда вы летите?
— Вот это не в моей компетенции. Что могу, то могу, а это не могу. Только думается, на этой неделе, в самом конце, первый обязательно отправится в столицу. Давно не летал. Пора доложить, сами знаете кому, о состоянии дел в республике. Так что если надумаете, сообщите. Это будет роскошный полет.
Это было очень заманчивое предложение — самолет это вам не поезд, где Мессинга придушат в купе и глазом не моргнут. Или, что еще хуже, подсунут каких-нибудь контриков. Потом не отмоешься. Тем не менее, я проявил осторожность и до вечера носил эту тайну с собой. Сначала доковылял до конторы, поинтересовался у Исламова — не раздумал ли его комсомольский друг насчет выступления перед активом Дома правительства? Тот руками замахал — конечно, нет, дорогой! Вас там ждут! Я предупредил, что к выступлению буду готов не ранее субботы.
Исламов пообещал.
— Сейчас устроим.
Он позвонил, о чем-то коротко поговорил по-узбекски, затем положил трубку и с огорченным видом сообщил.
— В субботу никак не получится, — затем понизил голос до шепота. — В субботу Юсупов отправляется в Москву. Понадобятся справки-шмавки, то, се. В ЦК все на ушах стоят. Только вы никому… — предупредил он меня.
Все сходилось.
Чем черт не шутит? Почему бы не рискнуть и одним махом избавиться от Гнилощукина, Ермакова, Айваязна, а то и от самого Гобулова. Главное выбраться за пределы республики. Вернусь в Новосибирск. Там они меня не достанут. Если эти следопыты начнут строить козни, — попрошу Трущева связать меня с Лаврентием Павловичем. Пусть оградит меня от этой своры.
В тот же вечер в ресторане я попросил Калинского, если он не против, взять меня с собой в Москву.
Всю неделю, до самой субботы я ждал подвоха — того и гляди, набегут энкаведешники, схватят, швырнут в эмку. Однако все складывалось на редкость удачно. Больная нога не позволяла мне выкладываться в полную меру, поэтому выступал я редко и только в тех случаях, когда за мной присылали автомобиль. Мой успех рос день ото дня. В среду Исламов сообщил, что пришли заявки из других городов республики. Надо уважить, попросил он. На мой вопрос, как можно добраться до этих городов, например до Бухары, он ответил — по-разному. До Бухары или Самарканда на поезде, до районных центров на машине. За мной на станцию пришлют машину.
— Как долго ехать?
Исламов пожал плечами.
— Трудно сказать.
— Час, два, больше?
— По-разному. Полдня, день.
Вот так новость!
Полдня меня никак не устраивало. Мессинга не проведешь. Легче легкого разделаться со знаменитым экстрасенсом в пути, потом свалить все на восставших декхан. Энкаведешники шлепнут с десяток бунтовщиков — и концы в воду. Кому в центральном аппарате придет в голову докапываться до истины! Если Сталин вспомнит обо мне, ему сообщат — не повезло ясновидящему. Не сумел угадать, что ждет его в поездке. Сталин, конечно, разгневается, начнет топать ногами — что за безобразие! Куда смотрели!.. Почему без охраны!.. На этом все и кончится.
В пятницу, собравшись с духом, я при встрече спросил у веселого Калинского.
— Как дела?
— Все в порядке. Только надо будет… — он потер палец о палец.
— Сколько?
Он назвал сумму. Это было что-то неслыханное. Я сказал, у меня столько нет. Шахматная дуэль с Айвазяном обошлась мне в копеечку.
— А сколько есть?
Я признался.
— Давайте, сколько есть. Только без обмана. О времени сообщу дополнительно, — и умчался.
Я не успел расспросить его, что и как…
В ночь с пятницы на субботу я никак не мог заснуть. Только забудусь, начинали донимать кошмары. Прошлое путалось с будущим, в этой сумятице я никак не мог уловить, что ждет Мессинга в ближайшие часы. Пытаясь избавиться от дурных предчувствий, я обратился к заглянувшему ко мне утром Лазарю Семеновичу с пустяковой просьбой. Объяснил, может случиться, что и на будущей неделе я не смогу выступить в Доме правительства. Пусть Лазарь Семенович не побрезгует и на той неделе звякнет от Исламова, предупредит, что меня нет в городе. В должниках я ходить не люблю, поэтому, как только вернусь, сразу выступлю перед ними. А если не вернусь, пусть тоже звякнет…
— Собираетесь нас покинуть? — спросил Кац.
— Что вы, Лазарь Семенович, — начал отнекиваться Мессинг.
Тот понимающе кивнул затем обратился ко мне с неожиданным вопросом.
— Вольф Григорьевич, а мне никакого письма не будет?
Я не сразу догадался, что он имеет в виду. Когда же в голове прояснилось, мне стало не по себе. Что я мог сказать Кацу, ведь еще при нашей первой встрече, когда мы отправились подписывать дурацкую афишу, мне в какой-то момент пригрезилось…
Я дал слово, что ни за что не выскажу вслух, что мне пригрезилось. Отговорюсь незнанием. Я взглянул на Лазаря Семеновича. У него был такой вид, будто он того и гляди затянет кадиш:[89] «Йисгадал вейискадаш шмей раб…» Что мне было делать со старым одиноким евреем? И со здоровьем у него не все ладно. Правда может добить его. Я не осмелился покривить душой, сказал просто.
— Крепитесь, Лазарь Семенович. Вам не надо ждать писем.
Он не удивился, спросил мудро.
— Что, уже?
Я кивнул. На этом бы и остановиться, но я добавил — за что до сих пор проклинаю себя! — ненужные слова.
— В каком-то Майданеке. Что за место такое, не знаю?!
Он кивнул.
— Я позвоню, Вольф Григорьевич. Обязательно позвоню. Отчего не выручить доброго человека. Мне теперь только и остается, что звонить.
Дальнейшее прозвучит как анекдот, но этот анекдот стоил Мессингу много нервов. Ради всего святого прошу — не надо относиться к Мессингу как старому дуралею. Всяко бывает на свете, и если вам выпал счастливый билет и вы защитили кандидатскую диссертацию — это не значит, что вас всегда и во всем ждет удача.
Калинский лично доставил Мессинга на аэродром. Легковушка действительно оказалась «паккардом». Если бы это была «эмка», я не раздумывая дал бы деру, но это был «паккард».
Был поздний вечер, неистребимая городская пыль укладывалась на ночлег, и остывающее небо потихоньку приобретало свой естественный лазурный цвет. После «паккарда» самолет, к которому привел меня Абраша, показался мне каким-то ободранным и невзрачным, но теперь перед вылетом, мое мнение никого не интересовало. Калинский подтолкнул старого дуралея к металлической лестнице, помог вскарабкаться в ребристый салон.
Дождавшись, пока Абраша влезет вслед за мной, я решился поделиться с ним своими сомнениями, но тот не без легкой досады укрепил мой дух.
— Это самый надежный самолет в мире! Еще ни разу не подводил. Первый только на нем и летает.
Мы устроились на откидных сиденьях. Тут же, чихнув, загрохотали моторы, и машина, тяжело переваливаясь на неровностях, куда-то поехала.
— Сейчас взлетим, — повысив голос, предупредил Абраша.
— А где же сам? — не выдержал я.
— Сегодня он не может.
— А фельдъегерь? — не унимался я.
— Да сиди ты спокойно! — зло оборвал меня земляк, и Мессинг обо всем догадался.
Мне даже стало немного весело — опять влип! Будущее, хранившееся в каждой жилочке моего бренного тела, затаилось от страха, а ужас, до того прятавшийся в сердце, вырвался на волю и завизжал — ты лишился разума?! Кому ты поверил?! Абраше Калинскому? Когда самолет наберет высоту, они с летчиком выбросит тебя из самолета, а денежки поделят.
Словно подслушав мои мысли, Абраша поднялся и направился в кабину.
Как оказалось, пережевыванию страха и ожиданию безвременной и страшной кончины мне отвели несколько часов. Затем самолет резко клюнул носом, через несколько мгновений сильно ударился о землю и, ликуя взревевшим мотором, резво побежал по земле. Когда машина остановилась и рев моторов стих до легкого воркования, летчик вышел из кабины и жестом подозвал меня.
— Деньги?
Я протянул ему газетный сверток.
— Здесь все? — спросил он.
Я кивнул. Говорить не мог — голос отказал.
Летчик направился к входному люку, откинул его и жестом подозвал меня.
Я подхватил свой чемоданчик и приблизился.
Летчик подхватил Мессинга под мышки и спустил на землю.
— Теперь иди.
— Куда? — удивился я.
— Куда хочешь?
Летчик захохотал, перебивая шум рыкающего мотора.
Его поддержал высунувшийся в проем Абраша Калинский. Они смеялись долго, показывали на меня пальцами, шлепали друг друга по плечам. Я уныло ждал, когда они перестанут хохотать. В руках у меня был маленький чемоданчик с запасом белья и бритвенными принадлежностями. Что еще? Мыло, полотенце, домашние шлепанцы. К шлепанцам как-то ловко подклеилось — дураков, оказывается, не только калечат, но и бросают в пустыне.
Я огляделся. Рассвет набирал силу. Еще мгновение, и слепящая солнечная полоска, показавшаяся над горизонтом, осветила неприглядную и скудную местность. Если это не пустыня, то что-то очень напоминающее ее. Кое-где торчали пучки колючей травы, ее в руки было страшно взять. Унылые холмы, окружавшие взлетную полосу с приткнувшимся на дальнем конце маленьким домиком, трудно было назвать очаровательными. Скорее, гиблыми.
С каждой минутой становилось все жарче и жарче. Летчик и Калинский скрылись в салоне. Самолет не глушил моторов — того и гляди, разбежится и взлетит. Никому не пожелаю оказаться брошенным в пустыне с чемоданчиком, в котором нет запаса воды. В пустыне не нужны шлепанцы, ни к чему теплое пальто с меховым воротником, подпоясанное кокетливым буржуазным пояском, которое я, по совету Абраши, напялил на себя, чтобы не замерзнуть в полете. Не нужна также тирольская шляпа с узкими полями и приделанным к тулье перышком — единственное, что сохранилось у меня от Германии.
Я повернулся и двинулся в сторону, противоположную восходящему солнцу. Там было ровнее, туда было легче идти. Через десяток шагов услышал встревоженный голос Абраши.
— Мессинг!..
Я обернулся. Абраша спрыгнул на землю.
— Чего?
— Далеко не уходи.
Я повернулся и, прикрывая глаза от слепящих лучей солнца, вернулся к самолету.
Разгадка этого замысловатого приключения, в которое я так легкомысленно ввязался, наступила минут через пятнадцать, при жарком солнечном свете. Из блистающей неясности на взлетную полосу въехала уже знакомая мне «эмка». Из машины вылез улыбающийся Ермаков и радостно поприветствовал меня.
— Кого я вижу? Никак не ожидал встретить вас, Вольф Григорьевич, в запретной зоне? Как вы попали сюда? Пропуск у вас есть?
— Пропуска нет, — упавшим голосом ответил я. — Прилетел на самолете. Почему запретной?
Ермаков приблизился и объяснил.
— Это же Иран.
— Как Иран? — не понял я.
— Ну, не совсем Иран, а пограничная полоса. Иран вон там, — он неопределенно махнул рукой, затем присел и принялся камешком рисовать на земле географическую карту.
— Вот граница, а вот здесь Персия, — затем поднялся и уже строго спросил. — Что вы делаете в запретной зоне, гражданин Мессинг? Собрались продемонстрировать овцам свои психологические опыты? Или решили предсказать азиатам, когда над Персией взойдет заря коммунизма? А как же Советский Союз? Неужели вам у нас не понравилось? За границу решили драпануть? Что ж, ты, тварь троцкистская, так задешево продал родину? Не вышло, двурушник?!
Я догадывался, что рано или поздно «двурушник» принесет мне несчастье. Так оно и случилось, и на этот раз моя песенка была спета.
Глава 7
После того, как тот же дрянной самолет приземлился на Ташкентском аэродроме, меня отвезли в кирпичный дом и поместили в камеру, в которой уже сидели два моих сородича. После происшествия в поезде я с нескрываемым подозрением относился ко всякого рода совпадениям, особенно национальным. Знакомство с Калинским подтвердило — камера, набитая йиделех, то есть, евреями, не исключение. Впрочем, для застигнутого на месте преступления злоумышленника, тот факт, что он порвал со своим штетеле и разуверился в Боге, никакой юридической силы не имел.
Абрам Калинский тоже не слыхал о Создателе, небо ему судья! Он дал такие показания, что хоть гевалт кричи! Мессинг полагал — пусть его вина велика, но приговорить к расстрелу за отсутствие пропуска, это слишком. Оказывается, в стране мечты такие проступки, пусть даже и невольные, квалифицировались совсем по другим расценкам, чем заурядное правонарушение. Этот прейскурант назывался 58-ой статьей со всеми довесками.
В своих показаниях, зачитанных мне Ермаковым, Абраша утверждал, что я с самого нашего знакомства подбивал его продать советскую родину и поменять социализм на подлый, тянущий с открытием второго фронта, империализм. Далее Абраша начинал каяться — мол, он только в самолете догадался, что задумал этот «двурушник».
Ермаков не отказал себе в удовольствии продемонстрировать мне эту строку в показаниях. Действительно, там синим по белому было написано — «двурушник».
По версии Калинского, события в самолете развивались следующим образом. Когда Мессинг обнаружил, что разоблачен, он выхватил пистолет и наставил его на Абрашу, чтобы заставить того бежать с ним за границу. Калинскому с помощью подоспевшего летчика удалось обезоружить предателя. На всякий случай они вышвырнули оружие из самолета. Далее в том же духе — измена родине в форме попытки перейти государственную границу (статья 58–1а), умысел на теракт (та же статья, пункт 8), контрреволюционная пропаганда (58–10). Одним словом, они решили замариновать меня по полной программе.
В этом был определенный смысл. Спохватится кремлевский балабос — где мой лучший друг и предсказатель, ему скромно доложат — в камере. Что случилось? Балабосу положат на стол папочку с моим делом. И ничего не попишешь! Имел умысел на измену? Имел. На теракт имел? Имел. Вел контрреволюционную агитацию? Вел. Вождь очень огорчится — понимаешь, опять ошибся. Пообещал провидцу, что его оставят в покое, а он вон как воспользовался доверием партии.
Конечно, все это ощущалось в скобках, но Ермаков, как опытный следователь, догадался и позволил себе усмехнуться.
— Теперь поздно, Мессинг, изображать из себя невинную овечку.
— Оно, может, и так, гражданин следователь, но показания я не подпишу. И никто не заставит, поверьте мне на слово. Ни Гнилощукин, ни Айвазян.
— Причем здесь Гнилощукин? — удивился Ермаков. — За Гнилощукина перед вами извинились, так что это дело давно забыто. Границу-то он вас не подбивал переходить.
— Я не о том, — уточнил я. — Я о подписи на протоколе допроса. Я лучше себе руку узлом завяжу, но подпись не поставлю.
— И не надо, — согласился Ермаков. — Впрочем, вы посидите, подумайте, может, не стоит так упрямиться? Мы после первого же очника получим право отправить вас в суд. Поразмышляйте на досуге, что вам при таком наборе ждать от советского суда, самого справедливого суда в мире.
Я не удержался от выкрика.
— Ни за что! Больше никогда не возьмусь за предсказания, иначе будущее может вильнуть в любую сторону. Вам мало не покажется!
Ермаков прищурился и ловким щелчком выбил папиросу из пачки.
— Вы хотите сказать, что в силах управлять будущим? Решили под сумасшедшего косить? Это не поможет. Мы здесь и не такое видали.
Он предложил.
— Закуривайте.
Я закурил, вдохнул дымок. Заодно прихватил и часть ермаковского дыма.
Картина в самом деле складывалась безрадостная. Они все просчитали. Бить не будут — вдруг комиссия из Москвы. Вот, пожалуйста, дело, а вот, пожалуйста, подследственный. Никакой спецобработки, все чисто.
Ермаков сузил глаза и поинтересовался.
— Значит отказываетесь подписывать?
— Отказываюсь. Я объявляю голодовку.
На третий день меня покормили насильно. Не поскупились на яйцо, и, как я не отбрыкивался, Гнилощукин и Айвазян заставили меня проглотить еду. Единственное, чего мне удалось добиться, это, дернув головой, опрокинуть на себя желток. Гнилощукин крепко врезал мне под дых, но это насилие к делу не подошьешь.
Когда меня, уставшего брыкаться, притащили в камеру, мне стало совсем скучно.
Весь день я пролежал без движения. На следующее утро к удивлению соседей по камере слопал свою пайку. Первый, некто Радзивиловский, одобрил мое решение — «правильно, кончай дурить». Он эвакуировался из Одессы и погорел здесь на вагоне с патокой, который толкнул налево. Второй, назвавшийся Игнацием Шенфельдом, поддержал его. Он предупредил, следаки только того и добиваются, чтобы я как можно чаще нарушал режим. Шенфельд показался мне человеком интеллигентным, и я решил посоветоваться с ним, не будут ли меня бить за строптивость. Мне бы этого очень не хотелось.
Для начала я представился.
— Мессинг Вольф Григорьевич.