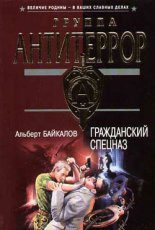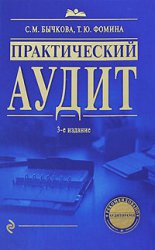Супервольф Шишков Михаил
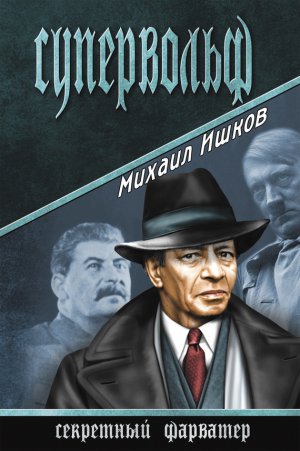
Вообразите мое удивление, когда я услышал польскую речь.
— Дзень добрый, пан Мессинг. Пан ведь с Горы Кальварии? Я там знавал кое-кого.
Я настороженно уставился на него и спросил тоже по-польски.
— Откуда вы знаете, что я с Горы Кальварии?
— В тридцать восьмом читал ваши объявления в «червоняке» и других варшавских газетах. Помните — «Вольф Мессинг, раввин с Горы Кальварии, ученый каббалист и ясновидец, раскрывает прошлое, предсказывает будущее, определяет характер».
Я подтвердил.
— Действительно, что-то припоминаю. А кого вы знаете в моем штетеле?
— Один мой хороший друг женился на Рахили, дочери Каца, у которого торговля обувью. Это, если не ошибаюсь, на углу Пилярской и Стражацкой.
Я прищурился.
— Ну да. Мы жили там рядом. Рахиль я знал, когда она еще в куклы играла.
На польском Игнаций Шенфельд выражался свободно, а вот на идиш спотыкался, будто он ему не родной. Сначала я, обжегшись на Калинском, решил что он тоже из породы стукачей, однако Игнаций, будто угадав мои мысли, признался, что и его Абраша подловил на крючок. На чем Калинский подцепил Шенфельда, мне было не интересно, эту тему мы не обсуждали. Достаточно того, что беда у нас была общая — пятьдесят восьмая. Шенфельд не внушал мне доверия, но надо было перед кем-то выговориться. Даже такому медиуму как Мессинг нужна отдушина, при этом я сознательно нес полную околесицу насчет своей биографии, справедливо полагая, что Шенфельд из тех людей, которым что ни рассказывай, они все истолкуют превратно. По самой простой причине — Игнацию был интересен только он сам, все остальные люди служили ему поводом для иронического пренебрежения. Гонор выпирал из него как ребра у дистрофика. Такое случается не только среди поляков, но и у евреев тоже. Впрочем, в России такого добра тоже навалом. Мы сидели по одной статье, были родом из общих мест, он был моложе меня, конечно, у него было какое-то образование, тем не менее Шенфельд относился ко мне свысока, то есть презирал меня снисходительно. Возможно, потому, что считал Мессинга ловким проходимцем и пронырой, мастером, так сказать, шарлатанских наук.
Шенфельд подтвердил в общем простенькую мысль, что здесь в предвариловке меня прессовать не будут.
Зачем?
Корпус деликти[90] налицо. Осталось только устроить очники, и дело можно передавать в особое совещание. Если мне повезет и меня не расстреляют, значит, законопатят в зону на очень долгий срок. В зоне меня обработают по полной программе.
Всю ночь я размышлял, как быть? Чуждое, приготовленное мне «измами» будущее, так долго и настырно охотившееся за мной, отвратительно ухмыльнувшись, подсказало — именно так и обработают. Не спеша, законным порядком. В промежутках между донимавшими меня кошмарами Мессинг прикинул — может, попробовать выбраться из предвариловки с помощью гипноза? Я заикнулся об этом при Шенфельде, он поднял меня на смех. Предупредил — даже не пытайся. Ну, завладеешь ты ключами, ну, выберешься из камеры, дальше что? За ворота тебе ни при каком раскладе не выйти. Охранники здесь расставлены грамотно. Каждый видит каждого, следит за ним на расстоянии, так что справившись с одним, я неизбежно окажусь под прицелом другого.
— Вас, Мессинг, ухлопают не задумываясь. Хлопот меньше.
В этом был смысл, и я повел себя тихо, перестал нарываться на скандалы. На допросы меня вызывали редко и только для того, чтобы уточнить детали — где я добыл пистолет, кто его мне вручил — не Исламов ли? А может, его дружок из Дома правительства? Я тупо смотрел на Ермакова, отвечал «да» или «нет» и вежливо отказывался от предъявленных мне обвинений. Скоро обо мне совсем забыли. Неделю не дергали на допросы.
От нечего делать я продолжал рассказывать Шенфельду историю своей жизни. Версию изобрел такую, Мессинг — мелочь, проныра, нахватавшийся в Польше у местных мошенников из ясновидящих кое-каких шарлатанских приемчиков, но более всего рассчитывающий на невнимательность и легковерие зрителей. Нигде, кроме как в Польше и в Советской России, он не бывал, ни с какими знаменитостями не встречался. Гитлера и Сталина в глаза не видал. Особенно Мессинг подчеркнул, что не имел никаких дел с Берией. Я лгал сознательно. Понимал — нарушить обещание, данное вождю, является куда более страшным преступлением, чем любая контрреволюционная пропаганда или двурушничество.
Постукивал ли Шенфельд куда повыше или нет, только мне, прикинувшемуся бедным родственником, удалось подловить Гобулова и Ермакова на простейшем трюке. Они никак не могли предположить, какой фортель выкинет на очной ставке Абраша Калинский, иначе они вряд ли отважились бы выпускать его на меня без соответствующей подготовки. Важняки пригласили бы врачей, нагнали бы оперов, обязательно Гнилощукина. Поставили бы его рядом с моей табуреткой, приказали поигрывать битой.
Но это их проблема. Моя же состояла в том, чтобы как можно дольше затягивать следствие. Был намек — кивнули из впередистоящих дней! — держись, Вольф, свобода близка, только не доводи дело до зоны. Оттуда тебе вовек не выбраться!
Итак, вволю насытившись ужасом, охладив сердце, погрузив душу в боевое каталептическое состоянии, я ринулся в битву за самого себя, за всех вас, дорогие читатели.
За лучшее будущее.
Сначала все шло как по-писаному. Абраша подтвердил, что познакомился со мной в ресторане. Сошлись мы на почве анкетных данных — земляки, оба борцы с фашизмом, однако на вопрос, подбивал ли его подследственный Мессинг изменить родине и с этой целью перейти границу и скрыться в Иране, Калинский ответил не задумываясь.
— Нет.
Ермаков сразу не сообразил и записал его ответ, потом резко вскинулся.
— Что?! Как ты сказал?
Калинский снисходительно улыбнулся и затараторил своей обычной скороговоркой.
— Подследственный ни о чем таком не говорил. Он — добрейший и чрезвычайно порядочный человек. Он родом из Гуры Кальварии, есть такое местечко к югу от Варшавы, гражданин следователь. Километрах в сорока, а может, в тридцати. Там неподалеку есть такой Черск, так возле Черска находятся развалины средневекового замка, который принадлежал когда-то итальянской королеве. О ней рассказывают такую историю…
— Молчать!! — закричал Ермаков.
Абраша охотно подчинился.
Ермаков долго переводил взгляд с Калинского на Мессинга и обратно, словно пытаясь отыскать подвох. Никаких следов сговора заметно не было. Калинский мило улыбался, я внимательно слушал его.
Наконец Мессинг позволил себе нарушить тишину. Он подтвердил показания свидетеля и попросил занести его слова в протокол.
— Я сейчас тебе занесу. Такое занесу… Все, разговор закончен.
Через два дня очную ставку повторили, но уже в присутствии Гобулова, Айвазяна и Гнилощукина с битой. На этот раз Калинский вел себя куда более нервно. Когда его ввели в камеру, Абраша бросил на меня перепуганный взгляд такого калибра, что стало ясно — Гнилощукин поработал с ним по полной программе. Об этом свидетельствовал и обширный, густо запудренный кровоподтек под глазом.
Усевшись на предложенный ему стул, Калинский отвел глаза в сторону и больше старался не смотреть на меня. Видимо, начальство запретило ему смотреть мне в глаза. Наивные люди, они полагали, что Мессингу нужен чей-то взгляд?
Как только Ермаков официально приступил к допросу, Калинский расслабился, заулыбался. Гобулов что-то почувствовал и попытался прервать допрос, однако не успел. Калинский на вопрос, склонял ли подследственный Мессинг присутствующего здесь Абрама Калинского к измене родине, Абраша членораздельно ответил.
— Нет.
Про Черск и итальянскую королеву ему досказать не дали.
Увели.
Гобулов подошел ко мне и, склонившись, заглянул в глаза.
— Значит, вот ты какую штуку выдумал? Ну, смотри…
Я потребовал.
— Прошу вызвать на очную ставку Берию Лаврентия Павловича. Он подтвердит, что никакого умысла на побег у меня не было, а все что случилось на границе — умело подстроенная провокация.
— Провокация, говоришь?..
Он начал отводить руку назад.
Я предупредил.
— Ударишь, погибнешь. Вместе с братом. Я доложу Меркулову, он давно под тебя копает.
Не знаю, то ли мой пронзительный взгляд, то ли более высшие соображения удержали Гобулова от применения силы. Он густо сплюнул мне на грудь и вышел из кабинета.
Я обратился к Ермакову.
— Прошу устроить очную ставку с доставившим меня в запретную зону летчиком, а также с вами.
— Со мной? — откровенно перепугался Ермаков.
Айвазян удивленно уставился на него — видно, и до него дошел страх, который изнутри оглоушил майора Ермакова.
Я повернулся к нему и предупредил.
— Не радуйся, Айвазян. Гражданин Ермаков доживет до старости, получит хорошую пенсию, будет высаживать цветы на дачном участке, а вот ты через десять лет сгниешь в земле. Тебя расстреляют, хороший мой..
Ужас, который испытал капитан Айваязн, словами не описать. Он выпучил глаза, открыл рот и уставился на меня как на заговорившего грязного ишака. Ермаков в свою очередь едва сумел скрыть довольную ухмылку, и в это мгновение меня замкнуло — в его лице Мессинг приобрел надежного союзника. Ермакова послали в Ташкент из центрального аппарата, из наркомата госбезопасности. Он был в подчинении у Меркулова и был приставлен к Гобулову для надзора. Близость к власти всегда заметно расширяет кругозор, и, по-видимому, Ермаков что-то слыхал обо мне. Тогда непонятно, почему он в такой грубой форме пару месяцев назад пытался привлечь меня к сотрудничеству? Что двигало им — чекистская совесть или неразвитость ума? Скорее всего, его назначили ответственным за работу с поляками, и он поспешил отличиться. В любом случае спустя два месяца он уже иначе оценивал перспективы использования Мессинга на службе родине. Ему первому пришло в голову, что новосибирские коллеги были в чем-то правы, пытаясь побыстрее избавиться от этого безумного шарлатана. Конечно, рассчитывать на Ермакова в схватке с Гобуловым бессмысленно, против наркома он не пойдет, но с моей помощью следствие затянуть может. Он сегодня же капнет в Москву о том, что случилось на очной ставке с Калинским.
Очник с негодяем-летчиком Гобулов решил провести лично.
Ничего нового для подтверждения вины этот допрос тоже не дал. Летчик сначала заявил, что Мессинг порядочный человек. Потом начал бить себя в грудь — никакого пистолета он не видал! Ни в какую заграницу Мессинг бежать не собирался. Мессинг, добрейшей души человек, на прощание подарил ему тридцать тысяч рублей.
Гобулов швырнул в него ручку, потом чернильницу — измазались оба, — затем приказал увести летуна и погрозил мне кулаком.
— Хотел пообщаться с Гнилощукиным? Это мы устроим.
Нарком торжествовал недолго — до того момента, когда прибежавший в его кабинет Гнилощукин закричал с порога, что он ни при чем, что «эта местечковая морда» сама завязала узлом руку.
Комиссар ГБ, ошарашенный самим фактом нарушения субординации — подчиненный без доклада ворвался к нему кабинет, — встал, вышел из-за стола, не спеша приблизился к Гнилощукину и с угрозой спросил.
— Соображаешь, что говоришь? Я же сказал, без членовредительства. Я же сказал, без выражений. На фронт захотел?
— Сами посмотрите, — плаксиво ответил Гнилощукин.
— Хорошо, я посмотрю. Я обязательно посмотрю.
Они спустились в подвал, вошли в известную камеру, где обстановки было только стол на толстых ножках и массивный табурет.
Я успел подготовиться и сразу дал установку. Оба вздрогнули, Гнилощукина даже качнуло. Оба замедленно, в ногу, подошли ко мне и уставились на мою левую руку.
— Как это? — не поверил своим глазам Гобулов. — Как ты посмел, сволочь, завязать руку узлом?[91]
— Это не я! — начал оправдываться Мессинг. — Это Гнилощукин!..
Тот, не стесняясь начальства, завопил.
— Что ты несешь, троцкистская морда!.. Я к твой грабке пальцем не прикоснулся.
Обиженный Мессинг заплакал, да так горько, с таким надрывом, с каким выли евреи, которых в эту минуту перед отправкой в Освенцим заталкивали в товарные вагоны в Варшавском гетто.
— Как мне жить? Чем я буду на кусок хлеба зарабатывать. Подлый палач завязал мне руку узлом и развязывать не хочет.
Гобулов, пытаясь справиться с бесовским наваждением, прислушался к подспудно истекающей мысли — этого не может быть, это происки хитрожопого прониры. Затем комиссар все-таки решил поверить своим глазам.
Левая рука подследственного возле локтя была и вправду завязана на узел, причем пальцы шевелились, сама конечность двигалась — Гобулов поднял ее, опустил. Никаких следов крови или переломов.
Осмысливая увиденное, он тихо приказал Гнилощукину.
— Развяжи!
Гнилощукин завыл — мы завыли с ним в два голоса. Наконец гэбист отважился приблизиться ко мне, взялся за пальцы. Я вскрикнул от боли, Гнилощукин тотчас отдернул руку.
— Ты чего? — шепотом поинтересовался Гобулов.
— Боюсь, — признался младший лейтенант ГБ.
— Отставить! Чекисты не боятся! — приказал Гобулов и сам взялся за мою руку.
Он попытался просунуть предплечье с пальцами через узел. Рука не поддавалась.
Я посоветовал.
— Вы зубами попробуйте.
— Не учи ученого, — огрызнулся Гобулов и приказал лейтенанту. — Подержи у плеча.
Вдвоем, не без моей помощи, им удалось протиснуть нижнюю часть руки с пальцами и привести конечность в первоначальное положение.
Пока двигались, запыхались. Я тут же снял установку.
Гобулов, придя в себя, снял фуражку и достал из кармана чистый носовой платок. Неожиданно он за шиворот согнал меня с табуретки, сел на мое место, и принялся вытирать пот со лба.
Я встал возле стола по стойке смирно. Как учили. Про себя, в скобках, подумал: «не рано (ли я их отпустил?) Может, еще (раз попробовать завязать) руку. Или (ногу)?» Пока нарком отдыхал, Мессинг решил: «не стоит, еще с ума сойдут!»
Отдышавшись, Амаяк Захарович спросил.
— Думаешь, очень умный? Гипноз-хипноз применяешь? Ну, погоди. Жить захочешь, одумаешься.
— Я и сейчас жить хочу, — ответил я. — Что вы от меня хотите. Денег у меня больше нет. В Новосибирске я отдал сто двадцать тысяч рублей на покупку истребителя, здесь меня Айвазян ободрал в шахматы на двадцать тысяч. Сорок тысяч летчику.
— Летчик утверждает, тридцать, — поправил меня Гобулов.
— Врет, — уверенно заявил я. — Сорок, тютелька в тютельку. Они, наверное, их с Калинским поделили. Нет у меня больше денег, а заработать вы не даете. Если этот грязный ишак, — я кивнул в сторону Гнилощукина (тот стоял как каменный, ни словом, ни жестом не выразив возмущение), — еще раз завяжет мне руку узлом, как я буду выступать?
— Выступать, говоришь? — угрожающе спросил Гобулов, затем кивком приказал Гнилощукину. — Выйди! И дверь покрепче закрой.
Когда мы остались одни, Гобулов поводил языком по пересохшим губам, затем все также сидя на табурете, в упор наставил на меня указательный палец и спросил.
— Выступать собираешься?
Мессинг скромно признался.
— Я не против.
Нарком молчал, затем, решившись, спросил.
— Когда я умру?
— Клянусь, не знаю! — слукавил я. — Знаю только, что после моей смерти, Лаврентий Павлович и года не протянет.
— Врешь! — заявил Гобулов. — Лаврентий Павлович во-он какой человек, а ты, Мессинг, — он выразительно сморщился, — во-он какой человек. Ишак ты недоделанный! Как же ты можешь знать, что случится после твоей подлой смерти.
— Убейте, узнаете. Что знаю, скажу, но только для вас. Если выпустите меня, долго проживете, уйдете на пенсию. Если нет… Как только я отдам концы, вам и месяца не дожить.
Он долго и внимательно изучал подследственного, по-прежнему по стойке смирно стоявшего у стола.
Наконец нарушил молчание.
— На пушку берешь?
Мыслил открыто «на пушку (берет, гад)! А если не врет? (Что имею?) Лаврентий чикаться не будет. И Богдан (не спасет). Меркулов, Юсупов спят и видят, как бы меня закопать. Скрыть от (них невозможно). (Вай-вай-вай, держать нелзя, выпускать нелзя). Как быт?»
Я осмелился напомнить о себе.
— Только между нами, Берии было приказано оставить меня в покое.
— Кем приказано.
Я вскинул очи горе, затем уже более деловито продолжил.
— Лаврентию Павловичу брать Мессинга на себя ни к чему. Он прикажет… ну, понимаете? Чтобы концы в воду.
— Все ты врешь! — до смерти перепугался Амаяк Захарович.
— А вы проверьте. Между прочим, в Москве уже знают, где вы держите Мессинга. Правда, не понимают, зачем.
— Опять врешь!!
— Позвоните брату, — предложил я.
Он, ни слова не говоря, встал и вышел из пыточной.
Глава 8
Неделю меня не тревожили допросами. Все эти дни я заливал Шенфельду за мою, как говорят в Одессе, неудачную жизнь — как сбежал из дома с семьей циркачей, как мотался по Польше в поисках куска хлеба, как вышел на Кобака и с трудом начал осваивать трудную, малопочетную, но позволившую не умереть с голода профессию ясновидящего. Я рассказывал ему то, что он хотел услышать от такого мелкого проходимца, каким ему представлялся Мессинг. Мне, в общем-то, было все равно, что заливать, просто хотелось чем-то заняться. Играть в молчанку у меня сил не было. Я, как Калинский, без конца говорил и говорил. Правда, ни слова о Германии, о Гитлере и Сталине — это были запретные темы. Только Польша. Как родился, с кем жил, как мошенничал, как добывал хлеб насущный.
Обыкновенная история!
Такой сценарий позволил мне полностью сосредоточиться на ожидаемом будущем. К сожалению оно отделывалось от меня пустыми пейзажами, неизвестными людьми, разговорами на узбекском.
Что я понимал по-узбекски? Ничего, и все мои попытки отыскать реальную нить событий на ближайшую неделю, оказывались бесполезным занятием.
С высоты четырнадцатого этажа, предупреждаю — труднее всего предугадать самое близкое, самое ожидаемое. Оно всегда происходит внезапно, как бы невзначай выныривает из-за угла. Остается только руками развести — от кого, ты, родимое, пряталось? Зачем подталкивало к отчаянию? Зачем подсовывало прошлое, выдавая его за подступающее будущее. Кстати, на эту уловку я попался, имея дело с Калинским. Во время знакомства я воочию наблюдал себя помещенным в следственный изолятор, но мне почему-то в голову не приходило, что это уже не воспоминание, а предсказание. Другими словами, каждый угадывает или, если угодно, опознает то, что хочет угадать. Этот порог трудно преодолим. Что касается общих соображений, о них я расскажу позже.
Свобода воссияла внезапно — в облике невыспавшегося, хмурого конвойного, который утром повел меня к Гобулову. Мне не надо было прикладывать дополнительные усилия — благую весть в его голове я угадал сразу. В кабинете нарком с потрясающе мрачным видом, в присутствии насупившего брови Ермакова, объявил, что следствием установлено — произошла трагическая ошибка. Я невиновен, могу получить паспорт, и чтобы через день наведывался в кирпичный дом.
— Зачем? — не понял я.
— Таков порядок, — сурово объяснил Амаяк Захарович.
Я не осмелился возразить, но как всякий честный человек предупредил.
— Но у меня концерты. Меня ждет публика.
Гобулов застонал и, обратившись к Ермакову, приказал.
— Займись этим… — он не договорил. — Оформи документы, и чтобы ноги его в этом паршивом Ташкенте не было.
На последней фразе Ермаков настолько смачно ухмыльнулся, что я смекнул — они сделают все возможное, чтобы никто и никогда не сумел отыскать в Ташкенте мою ногу. Они готовы на все — придушить, закопать, расчленить, утопить в Чирчике. Живым мне отсюда не выбраться.
Это был факт, и я должен был с ним считаться.
Тот же конвойный провел меня в хозблок, где Мессингу вернули кожаное пальто, шляпу, маленький чемоданчик, бритвенный прибор, шлепанцы. Что удивительно, вернули деньги, переданные летчику. При этом заставили пересчитать купюры и подписать акт. Все сошлось — сорок тысяч, как одна копейка.
На этом чудеса не закончились. Лазарь Семенович, поджидавший меня в гостиничном номере, бросился ко мне, обнял, расцеловал.
— Вольф Григорьевич! — захлебываясь от восторга, закричал он. — Вы даже представить себе не можете, кто вы теперь!
Это было так неожиданно. Улыбающийся Кац — это, я вам скажу, зрелище! Я изумленно глянул на него. Хотел уточнить — кто же я теперь, но не успел.
— Теперь они все у вас в кармане! Кто посмеет вас тронуть? Телеграмма от самого Сталина! Теперь вы сами можете вытрясти из них всю душу. Поставить по стойке смирно и по мордасям!.. Со всей силы по мордасям! Господи, мне бы такую силу! Да я бы их всех!..
Он рухнул на диван, схватился за голову и запричитал — я бы их всех! Ох, как бы я их всех!..
Мессингу с трудом удалось привести в чувство разбушевавшегося от счастья Каца. Тот протянул мне газету «Правда Востока».
На первой полосе я прочитал:
«Товарищу Вольфу Мессингу. Примите мой привет и благодарность Красной Армии за вашу заботу о воздушных силах Красной Армии. Ваше желание будет исполнено.
И. Сталин».
Прочитал еще раз. И еще раз. Обратил внимание на последнюю загадочную фразу. Неужели это подтверждение — или указание! — чтобы меня, наконец, оставили в покое? У меня не хватило времени осмыслить эту существеннейшую информацию, как в номер, постучав, ворвался корреспондент ТАСС, за ним, уже без стука, двое местных газетчиков и какая-то дамочка с местного радио. У меня взяли интервью, в котором я поведал, какой патриотический восторг испытал Мессинг, перечислив необходимую сумму на покупку истребителя. Представительница местного радиовещания пригласила меня выступить по радио. Радостные хлопоты прервал телефонный звонок из Дома правительства. Молодой задорный голос поздравил меня с «выздоровлением» и напомнил о моем обещание выступить перед местным партийным и комсомольским активом.
Я поблагодарил за внимание к моей скромной особе и, сдерживая волнение, попросил назначить встречу на сегодня.
На том конце замолчали. Удивительно, но замолчали также все, кто находился в моем номере. Мне, ясновидцу из ясновидцев, было трудно понять, как они догадались, с кем у Мессинга сейчас состоится разговор. А вы говорите — телепатия!.. В стране мечты без нее не выжить.
Пауза затянулась, но я терпеливо ждал — человеку, получившему благодарственную телеграмму от Сталина, не могут не ответить. Этот закон лабиринта я усвоил накрепко. Наконец в трубке заговорили — голос оказался солидный, с заметным акцентом. Неизвестный представился — «говорит товарищ Юсупов». Я не выказал никакого удивления и поприветствовал первого секретаря ЦК Узбекистана.
— Здравствуйте, товарищ Юсупов.
Газетчики побледнели.
— Вольф Григорьевич, нельзя ли перенести ваш концерт на завтра? Скажем, на десять часов утра? Мне бы хотел поприсутствать, но сегодня я очень занят.
Это было странное предложение. Начинать рабочий день с психологических опытов казалось мне неуместным во время войны чудачеством. Позже мне разъяснили — Сталин обычно работал всю ночь и ложился в пять утра, и до этого момента все начальники страны, на какой бы широте и долготе они не находились, обязаны были держаться на ногах. Разница с Ташкентом составляла четыре часа, так что раньше девяти Юсупов не освободится.
— Хорошо, в десять так в десять. Итак, завтра в десять. У меня есть просьба…
Он перебил меня.
— Завтра поговорим и об этом … — и положил трубку.
Начало вольной жизни было обнадеживающим, но я не позволил себе расслабиться.
Когда мы с Кацем остались одни и он начал прощаться, я поинтересовался.
— Вы спешите?
Лазарь Семенович пожал плечами.
— Куда мне спешить.
— В таком случае я вас сегодня никуда не отпущу. Мы сходим в ресторан, отпразднуем мое выздоровление.
В ресторане, после первой рюмки, Лазарь Семенович вновь погрузился в глубочайшую меланхолию. Лицо у него стало обиженно-задумчивое.
— Уезжаете?
Я не ответил. Огляделся. В зале было пусто, два-три столика заняты военными с дамами. В углу пристроился человек, чье лицо было мне знакомо. Какой-то известный киноартист. Или режиссер. Бог их разберет, в Ташкенте их было много. Оказывается, жизнь не стояла на месте. На фронтах было хуже некуда, немцы крепко вцепились в Сталинград, а здесь официантки в белых передниках, терпкое вино, вкуснейшая еда — ляля-кибаб, манты, пилав. Радовало, что после знакомства с Гнилощукиным мне удалось сохранить зубы. Правда, это радовало и напрягало одновременно.
— Пытаюсь, — признался я. — Не знаю, что получится.
— У вас получится, — подбодрил меня Кац. — У вас обязательно получится.
Он предложил.
— Давайте выпьем за Сталина.
Мы чокнулись. Я вновь разлил вино по рюмкам и предложил.
— А теперь за тех, кто никогда не вернется. Не чокаясь… Как гои…
Лазарь Семенович не удержался и заплакал.
— Кто у вас? — спросил я.
— Жена, две дочери с внуками. Мужья сразу записались добровольцами в армию. Бог знает, где они. А у вас?
— Мама, папа, братья, — я обреченно махнул рукой. — Я прошу вас не оставлять меня сегодня ночью.
Кац кивнул.
Мы молча выпили, совсем немножко…
Не чокаясь.
За всех.
Из Ташкента я удирал на правительственном самолете. Юсупов на своем «паккарде» лично доставил меня на аэродром. Взлетели на закате. Полет был долгий, с предрассветной посадкой в Саратове, где самолет дозаправили и приняли на борт спецпочту из метного управления НКВД. Мне бы там сбежать, но я, потоптавшись возле «Дугласа», вновь набрался храбрости и вслед за пилотом — как это было в Ташкенте — по приставной лестнице с трудом забрался в полутемный салон.
В этом поступке не было и следа исполнения какого-то нелепого долга — только холодный прикид, не позволявший мне поддаться страху и броситься на требовательный голос из-за горизонта, принуждавший Мессинга раствориться во тьме. Наступившее утро, свет небесный, подтвердили — тебе нельзя прятаться, Мессинг. Ты должен быть на виду, должен мозолить глаза могущественному лубянскому жрецу, с чьей подачи меня так активно прессовали в Ташкенте. Это знание мне открылось в «паккарде», выводы из него я сделал в самолете, на высоте, где царил нестерпимый холод. Мы с фельдъегерем спасались от него, накрывшись кошмами. Мне помогало кожаное пальто с меховым воротником, а офицеру в легкой шинельке без кошмы было бы совсем скверно.
Как только самолет коснулся взлетной полосы на каком-то подмосковном аэродроме, я прильнул к иллюминатору. Гобулова, конечно, известили о побеге «прониры», так что в Москве, у трапа, меня вполне могли ждать крепкие, мускулистые ребята, которые сразу на выходе впихнут меня в «эмку».
Обошлось.
К полуночи я добрался до гостиницы на Манежной площади. Поселился не без трудностей, только на ночь, с условием, что на следующий день представлю талон с направлением от Госконцерта. Это было приемлемое условие. Добыть талон в стране мечты, как, впрочем, сто тысяч рублей или завязать руку узлом для Мессинга была пара пустяков.
В номере я закрылся на ключ, перекусил бутербродами, которыми снабдил меня в дорогу Юсупов. Этот хитрый выскопоставленный азиат таил в черепной коробке смутную и небезосновательную надежду, что этот серасенс расскажет кое-кому в столице о художествах Гобулова.
Около часа я томился на мягкой удобной постели. Сон не брал меня, мастера каталепсии, бойца невидимого — третьего! — фронта. Я ничего не мог поделать с ознобом, не отпускавшим меня с самого Ташкента. Нервы пошаливали. Не помогали ни заклятья, ни установки на отдых, ни доводы разума.
Намаявшись, Мессинг встал, не зажигая свет, подошел к окну, распахнул створки.
Был конец сентября. За долгий военный год Москва заметно поблекла. Прежний ликующий свет уличных фонарей, заздравное, плакатное изобилие сменились настороженной, с сероватым отливом, тьмой, бесчисленными бумажными полосками, запечатавшими ранее сияющие заполночь окна. Давным-давно наступил комендантский час, на улицах было пусто, редкие патрули бродили вдоль стен Кремля и вверх по улице Горького.
Я вспомнил Ханни.
Я поделился с ней опытом общенья со страной мечты. Братанье с властью оказалось хорошим уроком, Мессинг накрепко усвоил его. Глядя в окно, я дал слово, что в будущем буду держаться подальше от всякого, кто возомнит себя отцом народов, благодетелем отдельно взятого наркомата, а также попечителем самого обнищавшего колхоза и совхоза. Для этого Мессингу следовало навсегда забыть о способности угадывать будущее — это стало ясно как день. Чтобы выжить, я должен был напрочь исключить из своего арсенала всякий намек на возможность предвиденья.
Внезапно завыла сирена, и строения вдоль Арбата и на Горького, погруженные в необъятную московскую мглу, внезапно съежились. Редкие фигуры на улицах поспешили в бомбоубежища. В дверь нервно постучали, женский голос предупредил — воздушная тревога, пожалуйста, поспешите. Спускайтесь вниз.
Я остался на посту — глупо, зная в общих чертах свое будущее, искать спасение в подвале.
Спустя несколько минут, когда в небо вонзились световые лучи и где-то на севере захлопали зенитки, оказалось, что не я один такой храбрый. Во тьме, подсвеченной разгоравшимся на севере столицы пожаром, прорезался вкуснейший табачный дымок. Он напомнил мне о незримой связи, когда-то соединявшей меня с кремлевским балабосом.
«Герцеговина Флор» властно увлекла меня в постреальное пространство. Я вновь, словно вернувшись в прошлое, узрел скудно освещенный кабинет с распахнутой в соседнюю комнату дверью. Там, за дверью, было непроницаемо черно, а здесь, в центре, явственно различалась настольная лампа, чей свет стекал на разложенную карту, испещренную неровными цветными кружками, овалами, прямоугольниками, треугольниками, квадратами и раскрашенными изогнутыми стрелами. Карта покрывала всю поверхность стола, а также письменный прибор, подстаканник с цветными карандашами, стопки папок и бумаг. Только пепельница стояла поверх этой разноцветной, с преобладанием желтого и слабо-коричневого, заповедной для непосвященных местности. Незримый окуляр подбавил резкость, и в полумраке, в кресле за столом очертился посасывающий трубку, усталый донельзя человек.
Вождь, наклонившись, время от времени осматривал карту. Надписи были перевернуты, я с трудом угадывал их смысл, кроме тех, что были выделены крупным шрифтом. Прежде всего, «Сталинград», затем вдоль голубой, извилистой ленты — «Волга». Названия прочих населенных пунктов терялись под нагромождением условных знаков. Еще одна извилистая, но значительно более узкая голубая полоска делила территорию тайны на две неравные части. На левой стороне господствовал синий цвет, на правой — красный. За кромку стола перегнулась нижняя часть склеенных картографичесих листов, на которых, если изогнуть взгляд, четко прослеживались подписи — Жуков, Василевский.
С очередной порцией дымка до Мессинга отчетливо докатилось.
«Хватит ли резервов? Если не хватит, беда. Тимошенко, (глупый ишак), под Харьковом имел (все, что могли дать), и не хватило!»
Балабос достал из ящика письменного стола еще одну карту и разложил ее поверх первой. Она была значительно более мелкого масштаба, и таинственная местность, изображенная на ней, была усыпана неровными кружками — местами сосредоточения стратегических резервов. Сталин принялся записывать цифры на чистом листке бумаги. Затем сравнил написанное с подсчетом потребных для операции сил, составленным Жуковым и Василевским, и протяжно, с неожиданно оглушительной хрипотцой, вздохнул. До меня с легким дребезжанием донеслись непонятный, напоминающий заклятье, речитатив — «пять тека», «восемь знапов», «тридцать восемь эсде», «восемь иптапов» — «мало!!!».[92] На этот раз в речи хозяина кабинета не было даже намека на гневливые ругательства.
У Мессинга от сочувствия замерло сердце — неужели наш балабос дошел до такой степени усталости, что ему уже не хватает сил выражаться матерно?
Мессинг не сумел уловить, каким образом и в какой момент вождь внезапно перевел поток сознания на кадровый вопрос. Дымок донес фамилии незнакомых людей, резкие оценки их деловых качеств — непонимание очень напрягало. Когда в дымк прорезалось запретное имя — «позорная сука Власов» — Мессинг буквально вздрогнул от страха.
Балабос несколько раз подряд крепко затянулся, затем выпустил обильную струю дыма. Ее хватило, чтобы перед взором Мессинга возникла картинка сорокового года. На этой картинке, к ужасу медиума, воспроизвелся он сам, робеющий и взволнованный, предупреждавший хозяина дачи, что не стал бы доверять «этому человеку на фотографии».
Дачу сменил детальный абрис кремлевского кабинета. За окнами на городских крышах снег, частые дымные столбы поднимались над зимней Москвой. В кабинете — Сталин (сидит) и верзила в генеральской форме (стоит). У дылды неприятно-умное лицо, маленькие глазки прячутся под простенькими проволочными очками. Балабос поздравил дылду — «вы хорошо зарекомендовали себя под Москвой».
Продолжительная пауза. Балабос внимательно изучает генерала, тот по-прежнему тянется по стойке смирно.