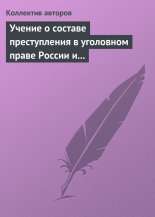У обелиска (сборник) Кликин Михаил

– Женька – все?
– Все, – подтвердил капитан. – Я сам видел, как он в землю ушел. Парашюта не было.
Степан помолчал, разглядывая носки своих ботинок. Грязные, обметенные желтой пыльцой.
– Трое за день у нас одних. Двое безвозвратно, и Изька неизвестно когда в строй вернется. И вернется ли… Комэска махнул рукой, на его лице были усталость и злость. – Зато сбиваем, да. И мы сбиваем, и они сбивают. Жизнь потом счета подравняет. А Женька на тебе. И будет на тебе, пока кому-то другому долг не отдашь.
Не сказав больше ни слова, комэска ушел. На ходу его шатнуло, но он удержался на ногах, не замедлившись ни на секунду. Степан и остановившийся позади него механик поглядели капитану вслед, потом друг на друга. Счет…
– Не, Вася, никого в этот раз. Меня вот, едва…
Он не договорил, но механик и так почти все понял из прозвучавшего. Третий воздушный бой за день. Почти сухие баки, пустые в ноль патронные ящики обеих пушек. Две пробоины от пуль крупнокалиберного пулемета в плоскости – это их удар он почувствовал в воздухе всем телом. Едва не оглохнув от звона и решив уже на одно мгновение, что все, что вот оно. В него давно не попадали… Но одного за день он все же сбил – новый «Хеншель-129» с тяжелой скорострельной пушкой под брюхом. Утром, в первом сегодняшнем вылете. Когда комэска говорил с ним еще другим голосом. Когда Женька был еще жив.
Женька… Младший лейтенант Евгений Лукин, его ведомый, проживший в небе три дня, неполные 14 вылетов. Вторая смерть в эскадрилье с утра… И далеко не вторая в полку.
Полк дрался страшно, насмерть. Насмерть дралась истребительная авиационная дивизия, вся их воздушная армия, насмерть дрались фронты. Это была Курская дуга. Огромная, бескрайняя степь, от горизонта до горизонта затянутая дымом, покрытая всполохами артиллерийских выстрелов. Здесь намертво сцепились сильные и умелые бойцы, черпавшие свои силы в гордости и злости. Воздушное сражение началось три дня назад, но от полнокровного полка за эти дни осталось чуть больше половины машин, и едва-едва лучше было с людьми. Зато впервые за долгое время, за годы, у них ни у кого не было ни малейших признаков обреченности, затаенного страха поражения.
Страх смерти был – они жили с ним каждую минуту. Страх сгинуть в бесшумной вспышке, которой кончится мир в ту секунду, когда сбитый врагами «Лавочкин» врежется в землю. Страх остаться инвалидом, потеряв ноги, руки, кожу. Страх попасть в плен, выпрыгнув из пылающего кокона, – что делают немцы с пленными летчиками-истребителями и штурмовиками, знали все. Страх подвести друзей, потерять по глупости новенькую машину и остаться «безлошадным» на замену, в ожидании ранения другого пилота. Страх проиграть очередную схватку над степью с таким счетом, что полку будет уже не оправиться, что следующий удар немецких штурмовиков по позициям противотанкистов останется безнаказанным…
Все это было, все это сжирало крепких и сильных мужчин заживо, даже самых смелых. А вот страха настоящего, большого, необратимого поражения, страха того, что страна может проиграть войну, – этого уже не было. Это уже ушло. Впервые они дрались с немцами на равных или почти на равных. Да, теряя пока больше, чем сбивая. Латая раненые машины и снова вводя их в строй. Ежедневно пополняясь «россыпью», ежедневно оглядываясь: бросить в бой совсем-совсем зеленых сержантов из училищ, с их четырьмя-пятью часами налета, или выдержать еще один день, еще вылет.
Вылеты… В первый день их было четыре. Во второй – шесть. В третий, сегодня, – пока пять. Степан поднял голову на ноющей шее и посмотрел на небо. Белое, раскаленное до сих пор. Солнце едва начало склоняться ниже, но до заката еще далеко. Сколько вылетов будет сегодня? Один, два? Сколько он еще выдержит?
За три дня они все, выжившие, дерущиеся, потеряли по пять-шесть килограммов веса, и крупному, тяжеловатому Степану это было особенно тяжело. Он не был похож на летчика-истребителя, какими их показывали в довоенных фильмах и изображали на плакатах. Он был большим, сильным физически, довольно медленно думающим. Зачеты по материальной части, по штурманской подготовке и радиоделу каждый раз – в аэроклубе, в училище и затем в запасном полку – сдавал с трудом, иногда буквально под угрозой отчисления. Выручало то, что Степан Приходько был действительно отличным пилотом и вдобавок очень и очень хорошо стрелял. Как это может сочетаться, оставалось тайной и для инструкторов, и для старших товарищей, и для самого Степана. Но факт есть факт. Он не «преображался в кабине истребителя», как ляпнул когда-то автор дивизионной многотиражки, вовсе нет. Оставался таким же большим и неторопливым в движениях. Но этих движений в тесной кабине истребителя как раз хватало, чтобы уводить хвост своей машины из-под вражеской трассы. Чтобы надежно прикрыть ведущего своей пары. Чтобы занять выгодную позицию для стрельбы самому и успеть дотронуться до гашеток, прежде чем вражеская машина уйдет в сторону или вниз. Он мазал, но мазал не каждый раз, и, начав воевать в ноябре сорок второго года, к лету сорок третьего накопил в летной книжке вызывающий достаточное уважение перечень достижений: успешных боевых вылетов, воздушных боев, вражеских машин, сбитых в группе, а теперь и сбитых лично.
Наград у лейтенанта Приходько было немного: ровным счетом один орден Красной Звезды. Багровая эмаль на верхнем луче надкололась, и Степан боялся, что отвалится, но продолжал носить орден не снимая. Еще у него была медаль «За оборону Сталинграда», которой завидовали молодые летчики, хотя застать он успел буквально сам конец сражения, – полк вывели на переформирование, как у них говорили, «после сладкого»: после счастливого периода почти безнаказанной охоты за транспортными машинами над снегами. То есть Степан не застал вылеты на прикрытие переправ, на Мамаев курган, на Тракторный завод, – страшнее чего, по рассказам старожилов полка, пока не было ничего. Тогда он летал всего лишь сержантом, ведомым второй пары звена, – и «два в группе», оба транспортники, были предметом его гордости. Над Керчью он не сбил никого, хотя в паре потопил боевой катер, что ценилось очень высоко, но боев провел много и к моменту расформирования так называемой «Геленджикской группы» считался уже «не зеленым».
Сейчас, к середине 1943 года, лейтенант Приходько был уже по-настоящему бывалым летчиком, с орденом, – но первые сбитые лично: вчерашний «Хейнкель» и сегодняшний «Хеншель», уже не слишком его радовали. Вероятно, больше устал. До ручки, до пустоты. За три дня.
Как раз в тот момент, когда отупевший от усталости, так и сидящий под простреленным крылом «Лавочкина» Степан продумывал эту мысль, подошел командир звена. Обычно бывало наоборот: сперва после вылетов своих ребят обходил он, а за ним уже – комэска.
– А-а, Степа… – ровным голосом протянул старлей. – Ничего-ничего, сиди. Как ты?
Командир звена с кряхтением опустился рядом и глубоко вдохнул свежий, сладкий воздух.
– Живой. Самого задело?
– Нет. Просто голова кружится.
– Ел днем?
– Не… В рот не полезло. Только компота попил.
– Знакомо… Это неправильно, конечно, но я тоже не смог… Степ, я знаю, о чем думаешь. Винишь себя?
– Нет, – неожиданно для самого себя ответил Степан. – Знаешь, не виню. Он любого из нас мог съесть. Мог меня, мог его. Выбрал его.
– Хорош был, гнида, – не мог не согласиться командир. – Смотри, он убил Женьку, зацепил Филиппа, хотя и мельком. Зацепил тебя. Зацепил Саню, причем с большой дистанции, уже под конец свалки. Но зато так, что в сантиметре от тяг одна из пуль прошла: я вот только что ходил смотреть. Мог и его сбить! А сам ушел без единой дырки, и ведомого своего прикрыл. Треть ящика, наверное, на отсечку потратил, не пожалел. Но увел его, хотя того качало, ты видел как.
– Не, не видел, – почти равнодушно ответил Степан. – Я на Женьку смотрел. Все надеялся где-то рядом парашют разглядеть.
– Не видел… – снова вздохнул старший лейтенант. И невпопад заметил: – Доктор говорит, Изьке ногу почти наверняка отрежут. Сходим вечером, если его в дивизию не увезут?
– Сходим… Будет еще вылет, а?
Командир посмотрел на солнце, и Степан скопировал его взгляд, как брат-близнец.
– Может, и так. Твой как?
– Две дырки в левой плоскости. Наверняка какая-то из нервюр в щепки, меня потряхивало на посадке. Вася сказал – за ночь сделают.
– Это хорошо…
– Хорошо, – согласился Степан. – А сейчас на чем тогда?
– Ну… – командир звена пожал плечами, с тем же кряхтением приподнялся. – Я думаю, дадут чего-то. Оконечный на день, почти наверняка, чего уж жалеть.
– А куда?
– Куда, куда… Раскудахтался! Куда прикажут. Новость это для тебя?
Степан покачал головой, для разнообразия молча. Новостью слово «приказ» для него не было уже довольно много лет. Между прочим, дольше, чем для многих.
Родился Степан Приходько в городе Антрацит Луганской области, в семье рабочих. Отец был шахтер, и его старший сын наверняка тоже стал бы шахтером, как и почти все в их краях, – но в 1932 году отец переехал в Москву. По приглашению: участвовать в разработке технического задания на первую очередь строительства метро. А через год, освоившись, вызвал к себе семью. Уже в столице Степан окончил семь классов, а затем и ФЗУ, стал «мастером кабельных линий» и как раз угодил на проходку Горьковско-Замоскворецкой ветки, которая пришлась на третью очередь строительства. Тянул кабель, монтировал многосложные коробки и щиты, с улыбкой размазывал по лицу грязь, которая была совершенно не хуже, чем угольная пыль в штреках оставшейся далеко позади шахты на окраине маленького украинского городка Антрацит, который великий русский писатель Чехов только с большого похмелья мог назвать «Донской Швейцарией».
Аэроклуб был сначала «без отрыва от производства», потом с «частичной занятостью». И эти годы он до сих пор вспоминал как самое лучшее время своей жизни. Вспоминал с тоской, которую пережигал в злость перед каждым боем, перед каждым вылетом. В злость на тех, кто заставил его бросить любимое дело, бросить учебу, книги и подняться в небо не для счастья, а чтобы убивать и быть целью для врагов – гораздо более опытных убийц, чем он сам.
Но родители, школа, ФЗУ, «Метрострой», аэроклуб, училище и запасной полк последовательно вколотили в Степана понимание смысла слов «приказ» и «надо» так глубоко, что глубже некуда. Под землей приказ значит не меньше, чем на высоте, можете не сомневаться. Так он вырос и таким оставался с той минуты, как вышел в первый настоящий боевой вылет, – только злее становился. И все его страхи не могли иметь ровным счетом никакого значения, именно потому, что «приказ» и «надо». Он не лучше других сам и не больше других жить хочет. Родина дала Степану все, о чем молодой парень мог только мечтать. Два сбитых им лично вражеских самолета – бомбардировщик и штурмовик – не окупили этого даже на четверть. Но еще раз: он был хорошим пилотом и мог надеяться пополнить счет еще одним, двумя или даже большим числом врагов, прежде чем собьют его самого. Если же не собьют, к концу недели он будет командиром звена. С двумя или тремя «молодыми» за плечами. Моложе погибшего сегодня Женьки.
– К штабу. Формуляр заполнять, – даже не скомандовал, а позвал его старший лейтенант. – Пошли, хватит сидеть. Покурим, компоту попьем, а?
Поведя плечами, Степан поднялся с насиженного места, бросил еще один взгляд на свой поврежденный «Лавочкин» и, кивнув механикам и хлопочущим над машиной оружейникам, двинулся за командиром.
Штаб на их полевом аэродроме был – одно название. Точнее, штаб был: несколько блиндажей, в которых работали с бумагами, с радио и всем таким, о чем лейтенант Приходько имел очень смутное представление. В просторечии же они называли «штабом» несколько самодельных скамеек и столов на краю довольно густой рощи, защищавшей от солнца и особенно – пыли. Здесь не стоял часовой, зато всегда можно было встретить отдыхающих в короткие промежутки между вылетами летчиков и свободных от работы техников. Стояла бочка с песком, ходила по кругу початая пачка хороших папирос. На отдельно стоящем столе монументально высился бак со свежим, ароматным компотом и второй – с чистой водой. И еще здоровенным гвоздем был прибит к древесному стволу дневной выпуск «Боевого листка 13-го Сталинградского ИАП», с очередными именами и с очередными индексами: «Штурман полка капитан ЖУКОВСКИЙ сбил фашистский истребитель «Ме-110»! Слава герою!», «Командир звена сержант МИКЕЛИЧ сбил фашистский пикировщик «Ю-87»!…». Отдельно висел листок с именами погибших вчера; день сегодняшний был еще не закрыт… И карикатура: согнувшийся в поясе, присевший от испуга Гитлер в ужасе схватился за фуражку, – та вот-вот слетит оттого, что у него встали дыбом волосы. Он смотрит на толстого Геринга в расстегнутом мундире, которому вырисованный сияюще-красным цветом советский летчик в шлемофоне со звездой, ухмыляясь, каблуком вбивает в задницу авиационную бомбу. Нарисовано было здорово – почти в стиле Кукрыниксов.
Встав слева от комэски, Степан заполнил, наклонившись над столом, нужную форму, подал адъютанту полка, не оторвавшемуся от заполнения журнала, но кивнувшему. Отошел, чтобы не мешать остальным.
– Степ, садись. Курни вот…
Лейтенант подвинулся на скамейке, прикурил папиросу от своей, подал. Степан благодарно кивнул и сел рядом. Петр Гнидо был ниже его ростом, раза в полтора уже в плечах и выглядел, в общем, заметно старше своего возраста. На лице залегли глубокие морщины, глаза запали, нос заострился. Но именно на него хотели быть похожими все они, включая самого Приходько. Земляка, в равном звании, – но далекого от результативности лейтенанта Гнидо, как от Луны. Сам он не был еще даже командиром звена – а Петр уже который месяц командовал эскадрильей, носил Золотую Звезду и полную грудь орденов. За 12 лично и 6 «в группе» сбитых, причем из них – ровно половина истребителей. Гнидо был бывшим фельдшером. Войну он ненавидел даже больше, чем все остальные.
– Как это было?
Отпив компота из щербатой кружки, переданной слева, Степан негромким, ровным голосом рассказал, как прошли вылет и бой, как сбили Женьку.
– Не в нашу пользу… Но не всухую, уже хорошо.
Петр был без преувеличения блестящим истребителем, но с начала сражения, проведя уже несколько боев, он не сбил ни одного немца. Последних двух – еще над Мысхако, в апреле, причем в один день. Ему было не легче, чем остальным. Каждого сбитого они брали кровью, и было понятно, что так будет всегда. Немец – слишком серьезный и умелый противник, чтобы с ним когда-либо было легко.
– Так, бойцы! Отдохнули?
Они все вскочили со скамеек.
– Товарища майор, личный состав…
– Вольно. Слушай приказ!
Майор Наумов был некрасивым полноватым мужиком с усталостью на лице, которая не сочеталась с его четкими, энергичными движениями. Бывший летчик-инспектор по технике пилотирования всей их 201-й дивизии. Старше всех их, командир полка в 27 лет. Блестящий истребитель, 12 лично и 5 «в группе», почти как у Гнидо. Продолжающий вылеты.
– …вторая пара – лейтенант Приходько и старший сержант Жигулев. Степан, возьми «десятку», ее уже опробовали. Задача – прикрытие авиаразведки, выполняемой одним самолетом 10-го ОРАП. Пойдет «Ил-2», а маршрут ближний, так что будет легко…
Степан чуть не сплюнул – он очень не любил, когда так говорили.
Достав планшеты, все записали поворотные точки, на ходу просчитывая в уме минуты.
– Вылет в восемнадцать двадцать, сбор у машин – в восемнадцать ноль пять. Пока отдыхайте. Петя, идем-ка со мной, разговор есть…
Майор и лейтенант ушли, остальные остались. Комэска посмотрел со своего места искоса, не сказав ничего. Шестой вылет за день… Будь ты три раза метростроевцем, такая нагрузка сжирает силы, как мясорубка. Как он сможет драться?
Степан поднялся, зачерпнул еще компота и с жадностью вылил мутную пахучую жидкость в себя, как топливо в бак. Время еще было, но машина чужая, и он решил пойти к ее механику, поговорить.
Тот при виде лейтенанта Приходько не кивнул, а откозырял, что польстило, – а дальше коротко и толково рассказал про «десятку». Уже дважды поврежденную с начала операции, но оба раза легко, – что позволяло быстро возвращать ее в строй. Летавшему на «десятке» сержанту чуть поцарапало кожу на тыльной стороне ладони пулей винтовочного калибра, с земли. Это не считалось ранением и выглядело скорее как ожог, но комполка решил, что на сегодня с парня довольно. Что ж, его право. Командиром майор был жестким, но хорошим, и жаловаться смысла не было даже самому себе. Понятно, что разведчика надо было хорошо прикрыть даже на коротком маршруте, – одиночный «Ил-2» будет выглядеть соблазнительно для любого немца, на чем бы тот ни летал. А над Курской дугой в воздушные бои лезли не только истребители, – бомбардировщики и штурмовики тоже, примеров хватало.
К удивлению Степана, его пришли проводить оба командира – звена и эскадрильи. Капитан коротко буркнул пару напутственных слов в том смысле, что «прикрывать в вылете командира полка – это не только высокая честь, но и большая ответственность», помог подогнать лямки подвесной системы чужого парашюта. Сержант с «десятки» молча стоял рядом, переживая, баюкая замотанную узким бинтом ладонь. Трехминутный разговор над картой, – точнее, не разговор, а еще один раунд инструктажа. Минутный – с новым ведомым. Старший сержант тоже не был новичком – три сбитых в группе, ни одного лично. Две вынужденных посадки, шрам на боку. Они знали друг друга не первый месяц и были, в общем, ровней. На сержанта можно было положиться, – не струсит, сделает что может, а дальше – судьба. Можно было на-деяться, что примерно так думает комполка о самом Приходько.
– Давай, удачи.
– К черту! – с чувством ответил Степан. Задержался на секунду, щелкнул машину щелбаном снизу по плоскости, по самому кончику луча красной звезды. У большинства был какой-то свой маленький, иногда тайный ритуал или прием перед вылетом. У него – вот такой, простой.
Кабина «Ла-5», привычные приборы. Прямо под панелью радиостанции РСИ-4ХФ по серой краске чем-то острым были выцарапаны три звездочки в ряд. На счастье? На удачу? Сбить на этой машине троих, а самому уцелеть? Одна из секций фонаря оказалась посветлее, чем остальные, – заменили в последнем местном ремонте. Все остальное – родное и привычное.
Степан вздохнул и занялся делом. Руки двигались автоматически – это было одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что означало, что он освоил машину как положено, о чем Степан и так знал. Соответственно, на земле можно концентрироваться не на последовательности необходимых для подготовки к полету действий, а на маршруте. А в воздухе – не на пилотаже, а на наблюдении и стрельбе… А вот плохо… Плохо, потому что концентрироваться все равно не удавалось. Мешали усталость и мурашки ожидания опасности, колющие кожу.
– Готов? – механик хлопнул ладонью по фонарю и сдвинул его «до щелчка». – Давай!
Слышно было уже плохо, прогретый мотор «Лавочкина» ревел на полных оборотах. Сроду не игравший ни на одном инструменте, Степан прислушивался буквально как скрипач, но не учуял ни одной подозрительной ноты. На первый взгляд, чужая машина была неплоха. Единственное – довольно сильно трещала рация, но это было общим недостатком большинства истребителей, на которых экономили каждый килограмм. В байки про то, что можно заизолировать самолет до качества связи «как в квартирной радиоточке», не верил никто.
Ракета! Внимательно наблюдающий за машиной командира полка Степан начал выруливать, не потеряв ни секунды. «Лавочкин» трясло и покачивало, но не убаюкивающе, а возбуждающе. Пауза – машины майора и его ведомого застыли в конце полосы, как памятники. Пошел!..
Сладкий момент отрыва от земли. Пыль впереди уже успела начать оседать, и Степан с наслаждением глядел, как пилотирует пара командира полка. Да, умеет. Это он на земле может обмануть кого-то усталым взглядом и обвисшими щеками. В небе видно – этот даст прикурить; к этому лучше не соваться, если не уверен в себе. Впрочем, видно тоже только опытному человеку. Каким становятся не сразу. Новичков в небе убивают. Говоря языком летчиков – «кушают».
Степан оглянулся назад, через плечо, на ведомого и дальше, – первый раз из многих сотен за ближайшие десятки минут – и начал сокращать дистанцию. Пристроился, поймал взгляд майора и его младшего лейтенанта: цепкого и хитрого парня с медалью на груди и шрамом поперек лица. Еще из пехоты шрамом, – были месяцы, когда страна бросала в бой последние резервы, в том числе сотни недоучившихся летчиков. Кто выжил – того вновь послали учиться, но до этого дожили не все…
К удивлению Степана, вылет в итоге и верно оказался простым. 40 или 45 минут, из них 25 прямо над линией фронта или в самом ближнем немецком тылу. Огонь с земли был довольно плотным, но, во-первых, он видал и похуже, а во-вторых, истребителям легче. Это фоторазведчик должен идти во время каждой съемки «по ниточке», а прикрытие может себе позволить все что угодно: и по высоте маневрировать, и по курсу, и по скорости. Они и маневрировали, с замиранием сердца глядя на то, как работают по «Ильюшину» зенитные автоматы, до 37-мм включительно. Один раз у командира полка не выдержали нервы, и он спикировал на особо смелых фашистов, ведущих огонь аж с телеги, стоящей на опушке небольшой рощицы. Степан сначала даже глазам своим не поверил: это была настоящая телега, в которой на поставленном на вертикальную ось колесе установили легкий пехотный пулемет. Два немца с азартом лупили по ним и разведчику длинными очередями, и еще пара «болела» рядом, подпрыгивая и размахивая руками. Увидев, как майор перевел свой «Ла-5» в пикирование, Степан только покачал головой, усилив осмотрительность, и пошел в набор высоты. На этих дураков он смотреть не хотел – их судьба была ему совершенно ясна. Что делает выпущенный из ШВАК 20-миллиметровый снаряд с человеческим телом – этого лучше лишний раз не видеть.
Противник в воздухе был – было бы странно, будь как-то иначе. Где-то в середине маршрута они засекли примерно на полторы тысячи метров выше себя пару «худых», медленно забирающихся еще выше. Но боя не случилось. Вряд ли немцы-«охотники» сильно испугались четверки: они вполне могли применить свою обычную тактику – забраться повыше, один раз ударить на большой скорости и тут же оторваться. Но майор с ведомым сами начали набирать высоту, оставив их с сержантом ниже, и немцы, вероятно, решили не связываться. «Лавочкиных» не так часто ставили в ближнее прикрытие, потому что у «Яков» были лучше разгонные характеристики, – возможно, они опасались какого-то подвоха. Или, опять же, поглядели на манеру майора Наумова пилотировать машину.
Когда они сели, Степан был вымотан совершенно. Как тряпка. Шестой вылет за день… Иголки опасности, непрерывно коловшие его все эти минуты слева и справа, дотянулись остриями почти до сердца, дышать было непросто, нелегко. В ответ на вопросы механика он только мычал и кивал: претензий к машине не было, а оружием, слава богу, не пришлось пользоваться. Стрелять.
– Глотнешь?
Чужой механик подал флягу с водой, помог отстегнуть парашют. Понятное дело, Вася был занят с пробитой плоскостью машины, ему не до встречи своего лейтенанта из вылета. Видно же было, что вернулись все. А вот сам Приходько не выдержал, сходил своего «Лавочкина» проведать. Обшивка с левой плоскости уже была снята, разбитый едва не в щепки лонжерон валялся в стороне, как дрова, новый еще не поставили. Здесь был инженер полка, взглянувший на лейтенанта с большим одобрением и ободряюще махнувший рукой: мол, все будет нормально.
Степан дотащил себя до умывалки, скинул верх комбинезона и гимнастерку – вонючие, покрытые соляными разводами. Вымылся нагревшейся в бочонке водой до пояса, уже чувствуя, что его чуть отпускает. Дошел до своей землянки, достал вещмешок и снял с полки стопку одежды, стараясь не глядеть на Женькину койку со стоящей «треуголкой» подушкой. Встав к ней спиной, отвинтил орден с грязного комбинезона, переоделся в чистое. Сунул вонючие тряпки в мешок в углу – их должен был забрать солдат из хозвзвода. Нательное по-быстрому сам постирал в тазу, выставленном у входа на трехногую табуретку. Разогнувшись, посмотрел на садящееся солнце. Все, день кончен. И он жив. Даже если немцы дадут по аэродрому ночью, его единственной задачей будет перебежать из землянки в щель и тихо там сидеть. Ни он не «ночник», ни машина не приспособлена для ночных полетов. «Ночников» мало, почти все они в частях ПВО, а не во фронтовых полках и днем, вероятно, спят.
– Ну что, живые?
Замечание младшего лейтенанта, устало прикуривающего у входа в столовую, было произнесено настолько «в тон», что Степан восхищенно мотнул головой.
– Как ты сегодня?
– Ну, как… Целый. И мой тоже целый. Значит, хорошо.
– Угу, значит, хорошо, – с чувством согласился Степан. И не удержался, похвастался: – Я одного взял. Нового «Хеншеля». За Женьку моего.
Младший лейтенант помолчал. Он был из другой эскадрильи, но погибшего сегодня ведомого лейтенанта Приходько знал не хуже других. Тот был популярен в полку, потому что хорошо умел играть на гитаре. Теперь гитара останется без хозяина.
– Молодец, – наконец порадовался младший вслух. – Такая хреновина… Сильная хреновина…
Уже заходя внутрь, Степан снова кивнул. Курить не хотелось, разговаривать тоже. Но парень был прав: двухмоторный «Хеншель» со своей пушкой мог убивать по танку в каждом вылете. То, что Приходько вбил сегодня такого в землю, означало, что уцелеют несколько «тридцатьчетверок». Несколько – потому что немецкий штурмовик все равно достался бы если не ему, то кому-то другому, не рано, так поздно. Против «Лавочкина», «Аэрокобры» или новых «Яков» ему не светило.
Есть снова не хотелось, но Степан заставил себя буквально силой. Как баки заправил, потому что надо. Потому что утром снова лететь, а на одном компоте свалишься еще на взлете. Борщ был паршивый – мать отоварила бы горе-повара ложкой по лбу и была бы права. Вроде и буряк, и капуста, и куски помидорных шкурок, и чеснок, и даже мясо плавает – а безвкусно. Второе удалось не лучше – котлеты с макаронами. Морщась, Степан съел все, подобрал подливку коркой серого хлеба, с трудом прожевал. Выпитые сто граммов водки не помогли – только чуть отошедшая усталость навалилась снова.
Ни разу с начала ужина, с общей минуты молчания он не посмотрел на место Женьки рядом. Со стаканом, накрытым куском хлеба. Нет больше Женьки. Завтра у него будет новый ведомый. Молодой. Шансов прожить день станет чуть меньше, но это не меняет ничего. Завтра он снова поднимется в воздух с полными баками и полными патронными ящиками. За плечом командиров полка, эскадрильи и звена – в этом и в любом другом порядке. Задешево он себя не продаст. Ребята в воздухе и на земле могут на него рассчитывать.
Выкурив пару папирос за порогом столовой и еще раз обменявшись с друзьями несколькими словами, Степан осоловел окончательно. Его натурально качало. До койки он добрался с трудом, и с еще большим трудом заставил себя раздеться. Лечь и закрыть глаза было чудом. Хотелось, чтобы приснился дом, но попросить об этом было некого.
Игнат проснулся в ужасе и в первую секунду отбросил от себя одеяло далеко в сторону, будто напугало его именно оно. Сердце колотилось, как пластиковое ведро под ударами развеселого ямайского барабанщика. Затылок промок от пота – он потрогал слипшиеся волосы ладонью, и его передернуло. Что ему приснилось? При том, что это было только минуту назад и до сих пор плавало где-то рядом, в темноте, ничего конкретного вспомнить не удалось. Во рту стоял мерзкий вкус – или, точнее, не мерзкий, а просто нехороший. Как будто мокрой бумаги пожевал. В этом, впрочем, не было ничего удивительного: за вечер Игнат уговорил три пива, и сдуру не светлого, а темного нефильтрованного, какое обычно не пил. Чего-то туда намешали…
Прошуршали шины за окном, мазнуло по тюлю светлыми полосами фар. Качало ветвями и шуршало за распахнутой рамой здоровенное старое дерево, которое он помнил много лет. Доносились отзвуки музыки – какой-то дешевой русской попсы – и еще молодые голоса и смех. В затылок чуть кольнуло болью, – будто кто-то пробовал мозг на ощупь тупой иголкой. Надо же, с трех-то бутылок…
По-прежнему настороженно Игнат поднялся с кровати и еще постоял посередине комнаты – озираясь, но уже немного успокаиваясь. Когда стало легче, он дошел до двери и выглянул в коридор. В квартире было темно и мирно. Не включая свет, Игнат по стеночке продвинулся до нужного места. Смешно сказать, но и в этом месте тоже все было как обычно. С шумом спустив воду и машинально сполоснув руки под холодной струйкой, он вышел на кухню. Почесываясь, нацедил из фильтра стакан холодной воды. На кухне было и светлее, и шумнее, чем во всей остальной квартире. Тюль здесь был короткий, а окно по случаю лета открыто на всю ширину, и через сетку от комаров пахло настоящим июлем. Снова смех за окном, молодой и искренний, а не пьяный.
Помотав головой, Игнат вернулся в темную комнату. Споткнулся о штаны на полу, чертыхнулся, сел на кровать и понял, что сон ушел окончательно. Блин. Стоило так глушить себя компьютером и пивом, чтобы поспать всего-то полночи…
Выругавшись еще раз, Игнат поднялся, перешел к компьютерному столу, сел на привычный стул – и еще с минуту просто сидел в темноте, прислушиваясь к себе. Что же его все-таки так напугало во сне? Вспомнить не удавалось никак, хотя правильный ответ был «вот совсем рядом», но так это обычно со снами и бывает, если ты не шизофреник.
– Да пошло оно, – хрипло произнес он не своим голосом, ткнул левой и правой рукой одновременно в обе кнопки выключателей, врубая компьютер и настольную лампу. Мягко загудел вентилятор, разгоняя пыльный теплый воздух. Лампа покрыла стол резким светом, и он отвернул рефлектор дальше от себя. Затылок продолжал гудеть, но теперь уже было непонятно: то ли от мгновенно забывшегося ночного кошмара, то ли от пива, то ли все-таки от долгих часов за экраном. В любом случае – не удивительно.
Приказав себе не думать об этом, Игнат поморгал, прогоняя муть из глаз. Компьютер помогал лучше другого. Дура по имени Инна испортила ему настроение уже дня три назад, и оно не улучшалось до сих пор, что ни делай. И выбор-то был широкий: родители в Эмиратах, самому ему до рая Ибицы четверо суток, в Академию не надо, на улице тепло, а права выкуплены и можно ехать куда хочешь. Но не помогало.
Игнат учился не где-нибудь, а в «Президентской» Академии народного хозяйства и государственной службы, которая на проспекте Вернадского. То есть в месте, которое открывало прямую дорогу во все без исключения ветви управления страной: финансовые, силовые, промышленные и околопромышленные – по всему списку. Быдло отсекали еще на этапе подачи документов, и все студенты были, в общем, одного поля ягоды. У самого Игната отец был заместителем начальника одного из новых Управлений при Президенте РФ, и это сразу же ставило его выше многих других. Но пока Игнат окончил всего лишь один курс, перейдя, соответственно, на второй, – и эта цифра заставляла его переживать. Отец уже договорился с дядькой, а дядька – с кем-то из обязанных ему людей: после выпуска молодого Приходько ждало такое место, что все ахнут. Но мечтать об этом «в деталях» было рано: после первого курса даже учебная практика была не на таком месте, вывеской которого можно было впечатлить девушку.
Инна была не из впечатлительных. Откуда она взялась, он запомнил очень хорошо. Ее привела на одну из послесессионных посиделок Ольга – красивая девица из параллельной группы, с которой уже почти месяц гулял Богдан. Причем привела не в кабак или клуб, а именно домой к Богдану. Зачем-то это ей понадобилось. Представила как старую подругу. Девушка была яркая и с действительно впечатляющими манерами. Ее начали расспрашивать, и тут выяснилось, что она учится практически рядом, тоже на Вернадского. Только в МИТХТ – то есть в Университете тонких химических технологий. Который имени Ломоносова. На инженера-химика-технолога или химика-аналитика – сначала даже никто не уловил точно, потому что в комнате начался настоящий вой. Они все ржали, с переливами выли и обнимались, скулили от смеха. Это было реально здорово.
Игнат не сразу заметил тогда, что поведение Инны оказалось ненормальным. Девушка не заплакала, не убежала и даже не начала хихикать и подлизываться к компании, как сделали бы на ее месте почти все. Вместо этого она довольно спокойно дождалась, пока хохот утихнет, но пока все еще не переключились, и очень громко и отчетливо спросила: а кем будут они? Ей ответили, не стесняясь в выражениях. Богдан еще, помнится, предложил подруге своей девушки что-то откровенно неприличное в отношении «рабочих позиций» на будущее, «когда ей жрать станет нечего». Инна выслушала все это с явным интересом, пожала плечами. Что-то негромко сказала Ольге и ушла, разминая сигарету в длинных пальцах. От нее все отвлеклись, а потом выяснилось, что она ушла совсем. Разумеется, никому до этого не было дела: Богдан лапал Олю, пара человек с интересом за этим наблюдали, то ли надеясь поучаствовать на следующем этапе, то ли просто развлекаясь, и все, в общем, было совершенно нормальным. Оля, конечно, сдурила: она бы еще уборщицу с собой привела! Одно дело, если бы хотела, например, найти хорошую пару старой школьной подруге или что-то в этом роде, но здесь все явно было не так.
Как ни странно, после случившегося Игнат почувствовал себя неуютно довольно быстро. Рюмка не помогла, возня в дальнем углу комнаты стала раздражать, громкие разглагольствования и умничанье пары относительно трезвых ребят о современной политике – тоже. Не на втором курсе судить о политике, даже если наслушался папу и его друзей за домашним столом. Он вышел покурить, потом снова выпил, потом снова курил и все думал об этой странной Инне и о том выражении, которое успел увидеть на ее лице, пока она оборачивалась от дверей.
Ольгу Игнат встретил через день, созвонившись и забежав к ней на ее «практику». Смешное было слово, вообще никакого отношения не имевшее к будущей жизни. Самому ему практику поставили «автоматом»: достаточно было одного звонка отца в приемную ректора. У Ольги тоже все было нормально, но перед ней поставили условие «прийти с утра два раза», и она не стала лезть в бутылку, пришла. Когда они трепались за сигаретами, Ольга внятно объяснила, что Инна с ней в гости не напрашивалась, наоборот. Но ей было интересно посмотреть на подругу из спортклуба в такой обстановке, и из интереса она сумела ее уговорить, что будет весело и хорошо. Та действительно оказалась будущим химиком, как ни странно это звучит. Веселая, спортивная, не ломака, на редкость умная, но при этом нормальная, а не «чулок в гармошку». Тогда Ольге показалось, что Инна поведет себя в компании как надо, а та чего-то закобенилась. Ну и сама дура…
Ольга уже переключилась на что-то другое, когда Игнат спросил: а что подруга прошептала ей на ухо, когда уходила? Та не сразу сумела вспомнить; видимо, ей запомнилось из вечера иное. Но когда вспомнила – это сразу отразилось у Ольги на лице как тень. Говорить она не хотела, и Игнату пришлось настаивать. Было утро, они сидели на ограждении у входа на ювелирную фабрику, в дирекцию которой Ольгу распределили на «как бы практику», чтобы была запись в зачетке и личном деле, – и вокруг было тепло и ветрено. Когда девушка все-таки ответила, Игнат решил, что ему послышалось, что помешал ветер и шорох идущих мимо ног. Попросил повторить. «У тебя все новые друзья такое быдло? Ну, ладно, развлекайся», – вновь процитировала Ольга, уже не так смущаясь. – «Во дает Инка, а?»
Игнат покивал и почему-то задумался очень глубоко, поэтому прощание получилось скомканным. Впрочем, Олька выбежала со своей «практики» минут через тридцать, решив, что он ждет ее, и была польщена – поэтому все вышло даже хорошо.
Кто такие «быдло», все они отлично знали. Те, кто встают в шесть утра, чтобы сесть в метро или электричку и ехать на службу, не способную их прокормить, – это быдло. Те, кто учится на инженера такого или сякого, на офицера, на учителя или врача, – это быдло в еще более высокой степени. Быдлом были люди, которые не уступали дорогу его «Мерседесу SLK», когда Игнат подъезжал к парковке Академии, торопясь ко второй паре. Которые едут летом в Анапу или Варну, а копят на это вообще весь год. Которые служат в засранных российских ВС, кроме, возможно, Московской роты почетного караула, о которой ходили очень и очень интересные слухи. Соответственно, Инна, конечно же, все перепутала. Но это почему-то не доходило сразу, приходилось себя уговаривать.
– Приходько, ты чего такой смурной? – спросил его Богдан на следующий день, когда они сидели на скамейке в Александровском саду, глядя на проходящих мимо девушек, каждая вторая из которых с нетерпением ожидала, когда с ней начнут знакомиться.
Игнат объяснил, хотя и не очень внятно, и Богдан поднял его на смех. Они, в общем, не были друзьями, просто приятелями через отцов, но так сложилось, что в Академию их устроили вместе, попали они в одну группу и теперь довольно много времени проводили в одной компании. Вообще Игнат не оценивал одногруппника слишком уж высоко. Его немного раздражало, что Богдан не понижает голос, когда говорит «сраная говнорашка» в беседе – пусть среди своих, но на людях, при незнакомцах. И что он часто излишне рискует другими способами. По его мнению, это не было признаком большого ума. Понятно, что отцы отмажут их от чего угодно, но если хамить менту, то могут сначала искалечить, а уже потом дойдет дело до звонков с самого верха, увольнения с позором и всего прочего, что бывает, когда гавкаешь на патриция. Потом. А если хамишь просто прохожему, то можно успеть не добежать до дверей ночного клуба с их охраной. И так далее.
Еще Богдан вставлял в разговор ломаные украинские слова, хотя родился в Москве, а в Украину за последние годы съездил только на большой юбилей кого-то из родственников, на кого отец очень сильно рассчитывал в своем бизнесе. «Як вас звати?», «минулого тижня» и «кляти москали!» в его устах звучали глупо, по-детски. В разговоре с настоящими украинцами, знающими язык, он, кстати, их в речь не вставлял, но любил выпендриться перед всеми остальными.
Игнат считал, что Богдан рискует в итоге доиграться, – и поэтому не собирался в этом участвовать, когда такое случится. Парню было что терять – его отцу принадлежал очень большой кусок российского газа, который «мечты сбываются», а семейству в целом – четверть энергетики России и Украины, вместе взятых, как в давние времена. Несколько лет веселой жизни в Москве в ожидании диплома, который сделает его начальником тысячи человек и хозяином сотен миллионов евро, можно было и потерпеть. Не стоит демонстрировать окружающему миру свое классовое превосходство столь явно. Нарвешься на дороге или на улице на человека, которому все равно, какая у тебя фамилия и кто твои папа и дядя, – и будешь потом сочувствующему следователю рассказывать что-нибудь интересное. На кавказца или на «русского фашиста», например, нарвешься, в первую-то очередь. На фиг, на фиг…
Богдан не подвел в том самом отношении, про которое Игнат подумал, – сразу предложил собрать команду ребят, взять эту сучку за уши на выходе с ее драного университета, запихать в машину и, отвезя куда-нибудь подальше, показать, где раки зимуют. Чтобы поняла и осознала по самые гланды, на кого можно рот разевать с ее пролетарским статусом, а на кого не стоит. Кстати, сразу предложил свой «Ленд Ровер», куда можно было и дюжину таких запихнуть. Его машину почти не останавливали в отличие от машины Игната: в последний раз права выкупать обошлось довольно дорого, и отец показал ему кулак. А если и остановят – флаг им в задницы. По звонку папам – и через десять минут те же менты будут им дорогу мигалками освещать! То ли к сауне, то ли прямо к лесочку, где землю копать полегче. «Представляешь, как эта шлюшка офигеет?»
Игнат подтвердил, что представляет, от помощи веселого приятеля отказался, но задумался еще больше. И с утра поехал в тот самый университет, где Инна, по ее словам, училась: «на Вернадского, но для лохов». Зашел в деканат спросить про нее. Там работал только один кабинет, и в нем парня довольно грубо и довольно далеко послали. Подключать папу к решению этой сиюминутной проблемы непосредственно из его Эмиратов было глупо, а сам он нужных телефонных номеров не знал. Можно было бы плюнуть и забыть или заставить себя запрезирать красивую девушку заочно, но та вдруг сама вышла ему навстречу в коридоре своего МИТХТ, прямо у выхода через «вертушку». И была она еще красивее, чем в первый раз. Может быть, потому, что было светло.
Игнат попытался довольно вежливо и корректно объяснить Инне, зачем он пришел, перевести все в нормальный дружеский разговор, в какой-то подход к флирту, предложил подвезти куда ей надо, но… Девушка действительно не выпендривалась, когда назвала их быдлом. Она действительно так считала. Для нее люди его круга были никем, плесенью. Не-быдлом с ее точки зрения, оказывается, были люди, которые что-то делают руками или головой или и тем и другим поровну. Обсуждать это она не собиралась, аргументировать свою маргинальную точку зрения – тоже. Просто коротко и четко очертила ее, убедилась, что дошло, спокойно улыбнулась и пошла дальше, помахивая белой сумочкой.
И вот теперь Игнат все сидел и вспоминал это, глядя на заставку компьютерного «рабочего стола», забитого ярлыками игр и папок с фильмами и музыкой. В углу сиротливо желтел единственный ярлык, имеющий отношение к учебе: архив с купленными на первом курсе готовыми рефератами по всем предметам.
Надо было заставить себя забыть, не думать об этом бреде, но не срабатывало ничто, даже шлюхи. Получить час безопасного, промывающего мозги удовольствия в Москве стоило три тысячи рублей. Раза в три дороже – если знакомиться в клубе, с теми же профессионалками, но создающими видимость развлечения, что чуть более интересно. Это были деньги, которые можно было не считать совсем, – кредит Игната по своей карточке на «младшем счете» отца имел заметно большее число знаков. Но это не помогло вообще ни на чуть-чуть. Инна не выходила из головы, что бы он ни делал с выбранной девкой – и за эти деньги, и за следующие. Водку и «горилку», как и все крепкое в целом, Игнат не любил, хотя это заставляло приятелей посмеиваться. Пиво помогало совсем чуть-чуть. Компьютер чуть лучше, если увлечься. Поэтому он его и включил. На «обоях» рабочего стола была картинка с рекламы какой-то прошлогодней стрелялки: закованный в броню рейнджер идет по Красной площади, разбрасывая ногой обгорелые листовки с хаотичным набором русских букв. Впереди выгоревший провал ворот в Спасской башне, на заднем плане сплошной дым. Впервые эта привычная картинка заставила поморщиться. Что-то такое мешало воспринять ее нормально, как прикол, – причем что-то незапомнившееся, хотя и недавнее. Это было странно, и это раздражало, поэтому Игнат перестал пялиться в экран и ткнул курсором в иконку браузера.
В «Живом Журнале» было скучно – лето. В «Одноклассниках» тоже. Лента была сверху донизу забита новостями типа «Такой-то считает„классной” такую-то фотографию!» Какое ему было дело, кто там что считает? Или кто поставил ему «5+» за фотографию за рулем серебристого «SLK»? Впрочем, он посмотрел. Три четверти «гостей», проголосовавших за последнее фото, – незнакомые девки. У половины попонки из органзы спущены ниже лифчиков; у половины сразу на заднем плане пляж и пальмы, а на переднем – те же сиськи. На лице написано, чего именно им надо от него, мальчика в спортивном «Мерседесе», с названием правильного учебного заведения в нижней строчке профиля. Не будущего химика, физика, программиста, врача или инженера, а будущего хозяина этих самых химиков, врачей и инженеров. При встрече с которым те будут уступать дорогу.
Морщась от раздражения, Игнат вышел из «Одноклассников» и ткнул курсором в иконку игры, которая точно отвлечет его на час или три. Заставит забыть красивое лицо этой суки, посмевшей так спокойно счесть себя выше его.
Пискнул динамик, экран мигнул и развернул яркую заставку с набирающим высоту «Хейнкелем» на фоне пылающего с носа до кормы авианосца. И в эту секунду Игнат вспомнил все, что ему приснилось ночью. И, не сдержавшись, закричал в полный голос.
Степан проснулся, как только его тронули за плечо. Было 4:10 утра, чуть более часа до восхода солнца. Ребята негромко переговаривались, одеваясь. Он по очереди просунул руки в рукава комбинезона, застегнул пуговицы на груди и, чертыхаясь, наклонился зашнуровать ботинки. Первый из вышедших уже прикуривал папиросы для всех и выдавал их выходящим из землянки по одной. Степан оказался последним, и ему сразу подумалось, что это нехорошая примета. Не из самых худших, но нехорошая.
Вода в умывальнике была холодная, но согнать сон с лица и почистить зубы вполне годилась. Чай не бриться. Бриться с утра ни один летчик в здравом уме не станет – разве что погода бесповоротно плохая, и шансы на вылет отсутствуют. Только с вечера: можно до ужина, можно после. Как молодожены.
– Степ, ну давай уже!
Его опять ждали, и Приходько заторопился, заканчивая собираться. Впрочем, долго ли? Ремень на все дырочки, портупею с тяжелой кобурой – из-под подушки и на задницу, планшет через плечо. Причесываться Степану не требовалось – за пару дней до начала сражения он постригся у полкового парикмахера «под ноль» и теперь выглядел почти как Григорий Котовский.
Завтрак был плотный: два яйца вкрутую, здоровенный кусок конской колбасы, овсянка, хлеб с маслом, на выбор – чай или какао. Так и должно быть, когда ешь с аппетитом один раз в день. Подавальщицы бегали, не поднимая глаз, с полными подносами в руках, среди шепота трех десятков мужчин, не обращающих на них ни малейшего внимания. Плотная ткань закрывала все щелки окон барака, но было ясно – уже скоро начнет светать.
Степан влил в себя вторую кружку чая, едва ли не на четверть досыпанную сахаром, вытер выступивший на лбу пот и побежал за остальными, придерживая колотящиеся о бедра кобуру и планшет. И опять оказавшись замыкающим.
– По-о-олк, смир-р-н-ня!
Капитан оглядел строй своим знаменитым «бычьим» взглядом исподлобья, все равно плохо различимым в сумерках, и быстрым шагом направился отдавать рапорт.
– Товарищ командир полка, личный состав тринадцатого истребительного Сталинградского авиационного полка построен! Заместитель командира полка, капитан…
– Ох, круто сегодня будет… Чую я, угадай чем…
Степан покосился на соседа по строю с неудовольствием. На построении не болтают, разве что ты совсем дурак.
И вот именно тут, в самый неподходящий момент, его будто стукнуло по голове мягким и тяжелым. Он вспомнил, почему ему было так тошно спросонья. Ни при чем был немецкий разведчик, летавший над ними кругами почти полчаса и скинувший наугад в темноту пару мелких бомб, – этот как прилетел, так и улетел, тревогу по полку объявлять не стали, и тратить патроны на бесполезную стрельбу в небо не стали тоже. Но потом снился ему такой жуткий бред, что страшно вспомнить, и ни с кем не поделишься, потому что сразу к замполиту или в лучшем случае к врачу.
И правильно, каким бы «своим» ты для всех ни был – потому что никто не должен терпеть во фронтовой части антисоветскую агитацию даже в формате «А вот мне, ребята, такой сон приснился!» Ага, про то, что снова появились настоящие буржуи, как до революции! Буржуи, у которых рестораны сплошь в хрустальных люстрах, а пальцы в перстнях, которые могут без опаски бить наотмашь по роже рабочего человека, а городовые их охраняют!.. И про то, что братские народы России и Украины не просто разошлись в разные стороны, а стали почти врагами. И если про первое можно было подумать, что приснился сон «про старый режим», навеянный прочитанными раньше книгами и брошюрами об «угнетении рабочего класса», то что думать про второе? «Кляти москали» – это что? Откуда?
Степан почти покачнулся в строю – так, что оглянулись с боков и кто-то ругнулся шепотом: «С ума сошел, пить столько?» Вспомнил светящийся прямоугольник перед собой – узкий, но яркий, сияющий цветами неба и земли, что мелькают снизу и с боков, когда маневр самолета заворачивает мир в спираль. И потом все меняется, и ты видишь тот же самолет сбоку и тут же спереди, как он проносится почти через тебя. Этот же, твой – но на самом деле чужой, вражеский самолет, с квадратными крестами на плоскостях и фюзеляже, раскрашенный желтым и черным. «Мессер». Ох, это что же… Ему что, приснилось, что он фашист?
Лейтенант ухватился за сердце, почти потеряв контроль над собой. Произошедшее ночью вспомнилось ярко и в таких деталях, что это уже не было похоже на сон. Он вроде бы находился в своей комнате московской квартиры, только за окном было темнее, чем обычно бывает летом, когда открыты все окна. Не было слышно соседей, молчала радиоточка – значит, точно ночь – но за столом горела одна яркая лампа на много свечей, дающая ослепительно-белый свет в узком конусе. Стол тоже был непривычный: сделанный не прямоугольником, квадратом или, наконец, овалом, как обеденный в богатых домах, – а треугольником с округлым вырезом. На нем и стоял светящийся прямоугольник в черной окантовке, и с него летел рев мотора, стук и треск коротких очередей. Там же лежали рядом тонкие провода, и прямо из выкрашенной в желто-оранжевый цвет деревянной столешницы торчала рукоятка управления. Черная, блестящая, с непривычными выступами по бокам, но с гашетками и кнопками, поэтому узнаешь сразу. И еще стояла глиняная кружка с карандашами и разноцветными самописками – единственная понятная вещь в этом столбе света. И крик в ушах, крик ужаса, от которого он тогда проснулся.
– Степа! Степ!
Его трясли за плечи, ребята заглядывали в глаза. Кто-то помог отойти вбок и сесть под ствол здоровенного дерева, шумевшего листвой и мешавшего смотреть вверх, а он все никак не мог прийти в себя. Помогла вода, кружку с которой подтащили с оборванной цепочкой – видимо, так, от «штаба», было быстрее, чем от столовой.
– Обморок, – четко и зло сказал комэска, голос которого Степан узнал как первый знакомый голос за эти минуты непонятного провала. – Бля, самое время.
Командир полка что-то гавкнул спереди, затем натурально зарычал без слов. Все тут же бросили лейтенанта Приходько и построились снова, спинами к нему. Майор разъяснил боевую задачу полку на день. Доходило до Степана через слово, но он все равно уловил главное: ничего не изменилось, полк держит небо над левым флангом фронта – Прохоровкой, Обоянью, Ивней. С рассвета – прикрытие авиаразведчиков, затем весь день прикрытие бомбоштурмовых ударов 4-й гвардейской ШАД по наступающим колоннам немецко-фашистских войск. Непосредственное прикрытие, ударно-сковывающее прикрытие. И «работа в интересах наземных войск» – перехват всего, что немцы поднимут в воздух, чтобы продавить вкопанные в землю по грудь, огрызающиеся смертоносным огнем, истекающие кровью, гнущиеся, но не сдающиеся «пояса» оборонительных позиций Воронежского фронта.
Земле было трудно. Немцы наращивали силы своих ударов непрерывно, с легкостью маневрируя на поле боя громадными массами бронетехники и мотопехоты. Это были опытные вояки, отточившие тактику взаимодействия родов войск за годы побед. Но теперь фронты заставляли их платить кровью и горелым железом за каждый взятый километр. Перекопанной воронками, насквозь прошитой осколками родной, драгоценной русской земли.
– Враг будет разбит! Победа будет за нами! – закончил комполка словами товарища Сталина, разрубая воздух ладонью, тяжелой, как лопасть винта истребителя. К этому моменту Степан снова стоял в строю. Ребята поддерживали его плечами, с двух сторон, и ноги он расставил широко в стороны, не как положено по уставу, но стоял. Заняв свой неполный метр обороны на огромной дуге, протянувшейся от Малоархангельска и Гнильца к западу до Дмитриева-Льговского, Льгова, Рыльска и Коренево, и затем снова к востоку, до Вутово и Белгорода. За каждый из этих метров они все готовы были отдать жизнь. Украинец, русский, снова украинец, снова русский, и русский, и русский, и осетин, и караим, и татарин, и снова русские, украинцы и белорусы в ряд на много лиц, по расчету строя. И еврей Изька, горько плачущий сейчас над прикрытым госпитальной простыней пустым местом, оставшимся от его ноги, и легший в украинскую землю сибиряк Женька, и все они… Кому могло прийти в голову, что они станут чужими друг другу? Кому пришло в голову, что у них был хоть единый шанс выдержать удар страшнейшей военной машины в истории человечества поодиночке, не плечом к плечу? Какому общему их врагу?
– Что? – поглядел ему в лицо комэска.
– Товарищ капитан… Виноват… Я ничего уже…
– Летать можешь?
– Так точно…
– Уверен?
Ребята стояли группой: ни один не произнес ни слова. Капитан обернулся на топот ног.
– Ага, лікарка прокинулася з ранку… – лицо комэски было недобрым; растущего света уже хватало, чтобы это понять. – А скажи мені, добрий доктор: якого біса лейтенант Приходько на ногах не тримається? Із страху, або від втоми? Або від горілки?
– Виноват, товарищ капитан…
– Товарищ капитан, я не пил!
– Мовчи, дурна пташеня!
Степан на секунду онемел: «птенчиком» его не называли давно, многие годы. В Антраците так могла назвать его бабушка, но с тех пор электрик Метростроя Приходько с его ростом, шириной плеч и размером кулака не вызывал желания рискнуть ни у кого.
– Да он не ест который день ни шута, – подсказали сзади.
– Что? – повернулся на голос комэска, переспросив уже по-русски.
– Так и было, – подтвердил командир звена. – Я ему не мамка, конечно, но пять кружек компота днем и котлета вечером – это мало для такого большого.
– Большие быстрее слабеют, – вставил врач, до сих пор стоящий с напуганным лицом. Произошедшее могло обойтись ему дорого. – Им нужно есть гораздо больше! Ужин же хороший был! Ну, хоть шоколад ешь, если горячее в горло не лезет!
Он сунул Степану в руку плитку «Гвардейского». В сумке держал, что ли?
– И вот еще. – На этот раз врач достал из той же сумки два довольно крупных маслянистых шарика. – С утра это не дают, но чего уж. Водой запей!
Степан знал, что это такое. Взял, положил один в рот, разжевал горькую сладость ленд-лизовского «военного» шоколада, протолкнул в себя. Потом второй. Странно, но в голове от «колы» действительно чуть прояснилось, и он встал ровнее.
– Ладно, – задумчиво согласился капитан. Сам он был скорее щуплым, как Петр Гнидо, но про недостатки больших людей в общем знал, не вчера родился. – Посмотрю я на тебя. Погляну. Не вздумай мне тут… – он обернулся на группу молодых летчиков, стоящих вплотную друг к другу. – Так… Сержант Ефимов, ко мне!
– Я! – невпопад ответил рослый и худой сержант с тонкими усами на вытянутом лице с грубоватыми чертами.
– Идешь ведомым к лейтенанту Приходько. Чтобы как клей в небе, понял?
– Так точно, товарищ капитан!
Сержант стоял спиной к светлеющему краю горизонта, но голос безошибочно передал то, что сложно было уловить на лице.
– Хорош. К смелости еще налета бы побольше… Хотя бы часов с полсотни… Все, время! Вторая авиаэскадрилья! К получению боевой задачи!..
Они взлетели в пять тридцать пять, как только стало можно безопасно держать строй без аэронавигационных огней. Четверкой на прикрытие фоторазведчика. Не сказать, что любимое задание – больше всего Степан любил штурмовые удары по автомотоколоннам, – но зато не самое рискованное. Наверняка и комэска, и комполка хотели поглядеть на него перед тем, как день проявит себя в полную силу. И наверняка немцы уже выпили свой кофе и сейчас закуривают, прислушиваясь к «Кельнам», «Ульмам» и «Торнам», ожидая свои задачи, расписание на день. Ну что ж, ждите, фрицы. Уже и сейчас можно сказать, что будет жарко. Вы же за этим сюда явились, а?
– «Уголек», «Уголек», вижу вас ниже себя!
– «Утюг», я «Уголек»! Поздно заметил, смотри вниз чаще.
– Привет, маленькие! Вас понял, буду чаще. Давайте, работаем. Надеюсь на вас.
Командир звена качнул свой «Лавочкин» влево, и Степан, выдержав паузу в секунду, повторил его движение, а затем обернулся. Новый ведомый, с которым они провели час, вновь и вновь отрабатывая взаимодействие в паре «пеший-по-летному», держался в правом пеленге, на верной дистанции. Не сказать, что «как клей», но хорошо держался, ровно. Егор Ефимов… угораздило же иметь такие имя и фамилию при такой внешности. Ох, будут его звать «Длинношеее». Если доживет до прозвища, конечно.
Фоторазведчик заложил над Обоянью широкий вираж, все время набирая высоту. С «Петляковым» было легче, чем с «Ильюшиным» – облегченная машина хорошо шла вверх, и выписываемые четверкой прикрытия шаги «ножниц» получались длиннее. Проще было контролировать обстановку, меньше была нагрузка на пилотирование.
– «Уголек-3», чуть правее прими! Три минуты до боевого!
В небе повис серый шарик разрыва. Ого! Это было для Степана неожиданным. Немцы то ли подтянули тяжелые зенитные пушки вплотную к линии боевого соприкосновения, то ли продвинулись глубже, чем думал Приходько. А что будет дальше, он знал. Пристрелка производится одним орудием, по данным дальномеров или даже радиодальномеров, а потом вступает вся батарея. Или две. Немцы любят массировать средства ПВО, хотя обычно делают это в глубине обороны, надежно прикрывая отдельные узловые объекты.
Четверка тут же взяла выше, но «Пе-2» был уже на боевом курсе, в его брюхе перематывались бобины с фотопленками, и на ждущие его 88 миллиметров он плевал. Креня машину, Степан время от времени поглядывал на него. Нащупав верную высоту, немцы, как они умеют, начали бить кучно и часто, но пока мазали. Насколько он мог видеть, только четвертый их залп лег точно вокруг разведчика, но тот проскочил. И через пятый проскочил, и через шестой. Степан буквально заставлял себя смотреть по сторонам – не кинулись бы немцы со стороны встающего солнца. Только изредка он бросал взгляд на «Пешку» – горит парень или еще нет? Тому везло, хотя шел он прямо сквозь разрывы. Оставалось только головой покачать: каждый из рвущихся вокруг находящегося на боевом курсе фоторазведчика 88-миллиметровых зенитных снарядов мог стать для того последним. Это была чистая математика: «Дети, запишите условия задачи! Пристрелявшаяся четырехорудийная зенитная батарея калибра 88 миллиметров ведет огонь по одиночной воздушной цели, двигающейся с постоянной скоростью, не маневрирующей по курсу и высоте. Скорострельность каждой пушки составляет 15–20 выстрелов в минуту. Значение большой оси эллипса рассеивания для заданных параметров принимаем за 150 метров. Рассчитайте…»
Очередной залп лег прямо перед носом «Петлякова», того подбросило, и Степан моргнул. Но вновь обошлось, а уже через несколько секунд фоторазведчик заложил боевой разворот, пропустив следующие залпы мимо, далеко «в молоко». То ли решил дальше не испытывать судьбу, то ли закончил съемку. Наверняка немцы держали здесь целую батарею не просто так. И не просто так командование послало сюда разведчика с приличным прикрытием.
Дальше было уже легче. Пилот «Петлякова», опытность которого была видна, что называется, невооруженным глазом, снимал что-то еще, и каждый раз заходил из-под солнца, так что один раз их натурально прошляпили. Дважды они попадали под довольно плотный огонь зенитных автоматов, но высота съемки была значительной, и это не шло ни в какое сравнение с тем, что было на первом объекте. Истребителей немцы так на них и не навели, и на пути домой Степан с удовольствием подумал о том, что это фрицам наверняка недешево обойдется. Ему хотелось верить, что отснятые пленки содержат что-то очень важное, что заставит командование двигать резервы, менять планы. Молоть гадов, жечь их технику, валить их живую силу, километр за километром пятясь на восток, сжимая пружину все сильнее и сильнее. Чтобы, распрямившись, суметь долбануть фашистов так, что они навсегда запомнят, всем народом: «Не надо трогать Советский Союз. Здесь вас всех и похоронят».
Ему опять вспомнилась ночь, бредовый сон. Немецкий самолет на светящемся и мигающем прямоугольнике, торчком стоящем на столе, перед ручкой управления. Расстреливающий русские самолеты под радостные крики человека, держащегося за ручку. Кого? Кто это был, в его собственной комнате? Степан узнал ее как-то исподволь, без озарения, просто пришел к этому. Все в ней было иначе – но именно в этой комнате они с братом росли; ему ли не узнать ее, даже с другой мебелью, даже с выросшим вшестеро деревом за окном. Это он его посадил! Поэтому, кстати, в комнате и было темно, хотя кожей чувствовалось, какой за окном час. Саженец, привезенный отцом из подмосковного питомника, посаженный и с любовью выращенный уже им самим, с помощью брата, превратился в огромное дерево. Но это точно было оно, что же еще. И что все это могло означать?
– Егор, ну как тебе? Что сам расскажешь для начала? – спросил Степан ведомого, когда проводившее разведчика «до хаты» звено приземлилось и, передав разогретые вылетом машины механикам, летчики отошли далеко в сторону, покурить. Парень молчал. Папиросный дым был сладким, на душе сразу посветлело. Десять минут на разбор ошибок в паре, еще пять – в звене.
– Я почти не видел ничего, – наконец признался сержант. – Все как в туннеле было. Туннель, вокруг серая муть и в середине – хвост «двадцать третьего».
– Молодец! Просто молодец! – хлопнул Ефимова по плечу командир звена. – Именно так и должно быть в первом вылете. Ровно так! В пятом, если все нормально, начинаешь видеть все окружающее, пусть хоть пунктиром. Дальше можешь уже воевать. Понял?
– Да, неплох, – согласился Степан. – Нормально. Егор молодцом. Еще думать чуть побыстрее, и можно надеяться на лучшее, в общем. А то я как дам руля, он еще почти секунду прямо летит, и только потом маневр начинает. Так нельзя, сержант. Секунда – это в небе очень много. Очень. За секунду один ствол MG-131 выпускает знаешь сколько пуль? Пятнадцать!
Покивав, командир звена ушел со своим ведомым к «штабу» – заполнять формы и узнавать новости, планы командования полка на день. Степан задержался буквально на минуту – подбодрить молодого пилота, явно принявшего близко к сердцу его последнюю фразу. Он слишком хорошо помнил себя таким же, две недели как пришедшим в полк, зеленее зеленого. Его тоже берегли сколько могли. И тоже кинули в бой, когда стало совсем никак, когда на счету был каждый боец, каким бы зеленым он ни был. А ведь «Як-1», на котором полк действовал аж до осени сорок второго года и на котором начал воевать он, было пилотировать легче, чем «Лавочкин»!
– Ладно, считай, что тебе повезло, – заключил он. – Боя не было, и то хорошо. Фоторазведчик уцелел – еще лучше. Задача выполнена. Плюс час в летной книжке. Плюс очки опыта. Пошли?
Они зашагали за уже ушедшими далеко вперед старшим лейтенантом и его ведомым. Идти было недалеко, но к моменту, когда присоединились к остальным, Степан снова испытал чувство, что то ли сходит с ума, то ли даже уже сошел. И, более того, в этот раз это заметили со стороны. Беседующий со штурманом полка командир звена перевел взгляд на лейтенанта Приходько и осекся.
– Что, Степа? Голова опять кружится? Чего ты?
Степан посмотрел на старшего лейтенанта осоловело.
– Не… Я ничего…
Он сумел быстро справиться с собой, изобразив бодрый взгляд, готовность к подвигам и все такое. Не так уж и сложно это было. Не так уж, оказывается, трудно скрыть от верных боевых товарищей, что ты не знаешь, кто говорит твоим языком.
Что такое «очки опыта»? Откуда это взялось? Очки бывают на глазах у пожилых людей, у инженеров или ученых. Или, например, у писателей. Летчиков с очками не бывает и быть не может. Еще очки, конечно же, бывают в игре. В турнирах футболистов и шахматистов, как их печатают во всех газетах. Очки бывают в боксе, это он тоже знал. Но при чем здесь все это и то, что сержант успешно вернулся из своего первого вылета? Бред… Хорошо хоть то, что сержант наверняка воспринял сказанное как жаргонное выражение, употребляемое среди своих. Таких было много, и любой молодой боец тратил недели, чтобы узнать такие новые слова и обороты, зачастую не используемые вообще нигде, кроме конкретного полка. Они рождались сами собой и иногда исчезали бесследно с погибшими, а иногда оставались на долгие месяцы. Не угадаешь.
Второй вылет тоже оказался почти простым. Почти – потому что стоил Степану промокшей от пота гимнастерки. В этот раз они сопровождали штурмовики на «побудочный» удар по только-только обнаруженному авиаразведкой пункту заправки ГСМ километрах в двадцати за линией фронта. На земле приходящаяся на эти сутки фаза сражения еще едва разворачивалась в полную силу, и был шанс поймать немцев «со спущенными штанами»: полсотни танков в окружении пузатых автоцистерн, полные шланги там и тут, технические машины, куча тыловиков, без которых танкисты не могут воевать дольше пары дней.
Предвкушая эффективный удар, командование вложило в него полный полк «Илов» и не пожалело истребительного прикрытия. Но не выгорело: пункт заправки оказался пустым. Фактически от него остался один хвост: уползающая длинная колонна разномастных автомобилей и следы траков на истерзанном пятачке земли, покрытом пятнами масла, отчетливо видимыми в свете утреннего солнца даже с их высоты.
Ведущий штурмовиков дал пару расширяющихся кругов, надеясь засечь отползшие танки, но без толку – те как сквозь землю провалились. А нагруженный полк – слишком лакомая цель для истребителей, и командир предпочел синицу в руках. Штурмовики с одного захода начисто разделали порожнюю автоколонну, сбросили остатки бомб на разбежавшихся шоферов и техников и снова собрались в компактный и гибкий строй, ощетинившийся изготовленными к стрельбе крупнокалиберными пулеметами, – не подходи.
Интересно, что за всем этим наблюдала четверка «худых», которых немцы держали в небе – задержавшееся над объектом звено прикрытия. Связываться со сводной эскадрильей «Лавочкиных» они не стали – покрутились выше и ушли, наверняка злорадствуя в душе.
На земле Степан мрачно поглядел, как его молодой ведомый буквально подпрыгивает, рассказывая товарищам о своих переживаниях. Он дал ему минуту, затем рявкнул сзади над ухом, выдал что положено. «Разрешите получить замечания» вылились в пять минут гавканья и предметного разбора каждой сделанной им ошибки. Комзвена и комэска смотрели со стороны очень одобрительно и не вмешивались.
На деле же Степану было довольно худо. Почти весь вылет, точнее, где-то последние две его трети, ему непрерывно хотелось бросить товарищей и сбежать. Банально уйти в пикирование, набрать скорость и на полном газу, а то и на форсаже пойти на свою сторону фронта: лишь бы подальше от трасс работающих по штурмовикам «эрликонов», лишь бы подальше от хищных теней «худых» в паре километров выше, под самой кромкой облачности. Кстати, еще до этого, до появления страха, ему мешало чужое любопытство. То есть он поднял машину в воздух, сколько-то минут они шли по маршруту, он держал строй, следил за ведомым, наблюдал за обстановкой в воздухе – в общем, делал все, что требуется. И одновременно кто-то внутри него с детским изумлением на все это смотрел. Иногда поворачивал голову, чтобы лучше было видно, а иногда пытался рукой в перчатке протереть глаза, как бы не веря в происходящее. Собственно говоря, именно это бредовое «любопытство» чужой половинки в его собственной голове и позволило Степану справиться с тем, что настало потом. С желанием немедленно бросить всех и спасать себя от того страшного, что происходит вокруг и что вот-вот начнет происходить. Сейчас, немедленно, не думая ни о чем. И еще – «позвонить отцу», чтобы тот все это взял под контроль…
Именно последняя фраза и спасла Степана от того, чтобы впасть в панику самому. Причем не от вида четверки «Мессершмиттов» выше над собой! Видал он такое, и во много худших соотношениях, и не струсил ни разу. А именно от того, что пришла душевная болезнь; от страха перед тем, что в нем поселился другой, чей-то иной разум.
Возникшее поначалу любопытство и накатывавший потом какими-то неравномерными волнами страх были обезличенными – просто фон к тому, что он испытывал сам. А вот про «позвонить» он разобрал слова, уже совершенно членораздельные. И тоже чужие, не свои. Причем такие бредовые, что это его даже как-то отрезвило, позволив воспринимать вопли ужаса и бессловесные требования проще. Отделить их от себя, от своего разума. Хорош бы он был, если бы сбежал из неначавшегося боя, и рассказывал после на земле, что так поступить его убедил бессвязный ужас в голове – чужой, бубнящий, неразборчиво умоляющий голос. Даже не особисту объяснять такое было бы страшнее всего и даже, между прочим, не полковому военврачу! А своим же ребятам – от ведомого до механика и оружейников. И он знал прекрасно, что бы они подумали. Что, трудно было свихнуться на войне? Да проще пареной репы! Только первое, что придет ребятам в голову, – это то, что лейтенант Приходько струсил, и лишь потом все прочее. Так что сперва свихнувшийся кусок его мозга должен подрасти, а то слаб пока. Ишь ты, «отцу позвонить». Куда? На полевую почту?
Отец Степана воевал где-то севернее, то ли на Волховском, то ли на Карельском. Точно он не знал, только угадывал что-то из пропущенных искушенной цензурой намеков в редких письмах. Отец строил ДОТы и ДЗОТы, рассчитывал объемы земляных и бетонных работ, превращаемых руками тысяч людей в рубежи обороны. Что такое «позвонить отцу», он знал, кстати говоря, отлично. В этом был свой особый шик: после работы набрать номер отцовского отдела из уличного автомата и громко, чтобы все слышали, попросить к трубке «инженера Приходько», сказав, что «старший сын звонит». Раньше, до войны. А сейчас…
Это было просто смешно, что, в общем-то, и помогло. В том числе и выжить, потому что бросившего строй одиночку или даже пару с ковыляющим далеко позади зеленым ведомым «мессера» съели бы точно. Разве что приняли бы происходящее за ловушку: мол, ага, пара демонстративно уходит из прикрытия, изображая технические неполадки или что-то в этом роде. А десять ждут… Но лучше уж так, как случилось. Пусть это и отняло столько сил, которые нужны для боевой работы. Зато четко разъяснено и себе, и тому, другому: в кабине одномоторного истребителя помещается только один человек. Двое – это много, а в отношении того, кто из них главный, сомнений у лейтенанта не имелось.
Степан кивнул стоящему по стойке «смирно» сержанту, повернулся к нему спиной и отошел метров на пять, чтобы тот не видел его лица. «Поговори еще у меня!» – мысленно погрозил он шепчущему что-то неразборчивое, совсем уже тихому голосу. И впервые за долгое время усмехнулся, поднимая лицо к медленно раскаляющемуся, становящемуся все белее диску солнца. Небо уже затягивало дымом, грохот тысяч орудийных стволов, по огромной пологой дуге далеко опоясавших расположение их полка, превратился в рев. Машины уже заканчивали заправлять. Скоро в вылет, в третий за день.
Дожидаясь Богдана на ступенях торгового центра, Игнат курил одну сигарету за другой, так, что сплевывать приходилось каждую минуту. Проснувшись к одиннадцати и полчаса просто просидев на кровати в отупении, он по-быстрому созвонился с приятелем и договорился встретиться в час, но тот опаздывал. Даже выбрать, кому звонить, с кем обсудить случившееся, оказалось проблемой. Близких друзей или подруг у Игната не было, и нужды в них он никогда не испытывал. Однозначно можно было попробовать посоветоваться о своем психическом здоровье с отцом, но не по телефону: тот еще пару лет назад очень четко объяснил, чем грозит ему неосторожно сказанное при чужих слово. Оставался Богдан – пусть не друг, но человек однозначно своего круга.
Из дома Игнат шел пешком, а не ехал на машине. Частично оттого, что хотелось сэкономить время: даже летом в их районе по проспектам было не протолкнуться, каким бы наглым водилой ты ни был. Частично – оттого, что новая его часть, чужак, зацепившийся за край его сознания, хотел посмотреть вокруг. Ему было любопытно, и это любопытство было не побороть. Впрочем, стоило признать, что Игнат не особо и старался. Ему самому хотелось увидеть, что будет, оценить реакцию чужого. И он не прогадал. Реакция была такой яркой, такой четкой, что до сих пор хотелось «хлопать варежкой» в удивлении от того, что он не видел этого сам. И огромным плюсом Игнат счел явный прогресс в понимании чужака: если всего сутки назад это были просто картинки и эмоции – бессловесные, неоформленные, некомментируемые, – то теперь это были если уже не слова, то что-то близкое к ним.
Москва. Столица Российской Федерации, веселый и сумасшедший город, поражающий роскошью, контрастами, пространствами – всего этого и многого другого в нем было через край. И этот город был оккупирован. Причем дело было даже не в количестве надписей на иностранных языках, бросающихся в глаза там и сям, с половины витрин, с половины громадных светящихся надписей на раскрашенных домах. И не в том, что исчезли сто лет стоявшие на знакомых местах булочные и молочные, превращенные теперь в искрящиеся хрусталем, ярко светящиеся витринами оазисы совершенно несусветной ерунды: дорогой кожи, дорогого золота, сверхдорогих тряпок.
Но прежде всего дело было в том, как выглядели теперь в этом городе люди. Почти половина ходила, глубоко вжав головы в плечи. Точнее даже, не ходила, а совершала перебежки от одного ориентира к другому. А другая «почти половина» явно состояла из оккупантов. Причем иногда они даже одеты были так же, не лучше и не иначе. Но они иначе вели себя: раздвигали движущихся навстречу опустивших глаза людей плечами, шумно перекрикивались, швыряли себе под ноги весь мусор, который производили, чтобы себя развлечь. Вслух, не стесняясь, обсуждали на разных языках попадающихся им на глаза девушек и женщин. На тех же или уже других языках, не боясь ничего, с удовольствием матерились.