Юность Барона. Потери Константинов Андрей
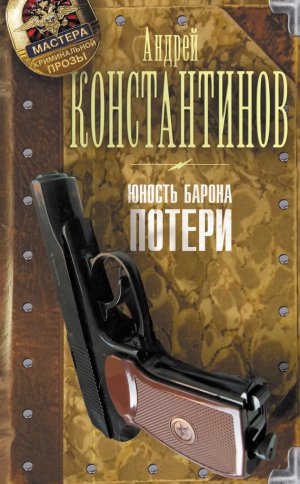
– Даже так?
Пытаясь отогнать волной накрывшее болезненное воспоминание, теперь уже Барон потянулся за спасительным графинчиком.
– Что ж, давай, дед Степан, в таком случае выпьем и за нашего чекиста-везунчика! Заочно уважим!..
Вот ведь сколь причудливо тусуется колода: именно утром 23 февраля 1954 года Барон впервые попал в Москву, до которой звероподобно добирался из мест, что насмешливо принято именовать не столь отдаленными. Ага, как же! Попробуйте как-нибудь сами, при случае, пропутешествовать десять суток на перекладных, из коих почти трое – в товарных вагонах. Зимой! Вот тогда и поговорим за юмористические смысловые нюансы.
А ведь в тот морозный февральский день, скитаясь по Москве в поисках загадочной Дорогомиловки, Барон, помнится, проходил, в том числе, и по Покровке. Ах, кабы знать тогда, что здесь, в одном из домов, в уютной, жарко натопленной квартире, по иронии судьбы, как раз встретились-сошлись эти двое! Кто знает, может, совсем по-другому сложились бы последующие восемь лет его непутевой жизни. Конечно, что Гиль, что Кудрявцев – люди ему не самые близкие, но ведь и не совсем далекие. Навсегда впаянные роковыми событиями начала сороковых в нелегкую судьбу Юрки Барона.
Но – не случилось. Не пересеклись стежки-дорожки. Совсем чуть-чуть, казалось бы почти встык, но разминулись. А после – именно что позарастали. Те стежки. Горько. Обидно. Ну да, потерявши голову – по волосам не плачут…
– …Между прочим, Володя сызнова объявился. Вот буквально сегодня утром!
– О как? – не переставая удивляться, крякнул Барон.
– Я-то сам пообщаться с ним не смог, временно пребывая в полубессознательном состоянии. Но, со слов Марфы, Кудрявцев обещался нынче приехать в ДК. Странно, что в итоге… Наверное, служба не позволила. Как-никак – цельный генерал!
– Генерал? Однако!
– Жаль, что у него не получилось. Представляешь, как бы мы сейчас, все вместе?..
«Да уж. Как говорится, не приведи Господь!» – мысленно среагировал на подобную перспективу Барон.
Однако вслух обозначил как бы огорчение:
– Да, жаль. Слушай, дед Степан, а про меня, в ту вашу встречу, Кудрявцев тебе ничего не?..
– О чем и толкую! С его-то возможностями! – не распознал истинной подоплеки вопроса Гиль. – Про Оленьку кое-что сумел разузнать, а вот про тебя…
Тут Степан Казимирович осекся, запоздало сообразив, что брякнул лишку.
– ЧТО? Кудрявцев нашел Ольгу?! Старик замялся, ответил нехотя:
– Ну не то чтобы нашел…
– Дед Степан! Не томи! Рассказывай!
– Володя после войны разыскал следы Женьки Самарина. Да ты ведь в курсе, что их дочь в блокаду?..
– Да-да! Я знаю. Дальше!
– Оказалось, в феврале 1942-го Самарин благополучно эвакуировался из Ленинграда и добрался ажио до Перми. Где и обустроился. Причем столь шоколадно, что после войны решил обратно не возвращаться.
– О как?
– Ничего удивительного. При тогдашнем повсеместном кадровом голоде и дефиците мужиков всего за пару-тройку лет Самарин умудрился сделать головокружительную карьеру. Вплоть до начальника местного стройтреста.
– А почему строй? Он ведь до войны в текстильных кладовщиках ходил?
– Женя, сколько я его помню, был из породы «нам татарам – всё едино: хоть в окопе, хошь за прилавком – лишь бы по пояс».
– Положим, за окоп – это явное преувеличение, – мрачно заметил Барон. – Эту белобилетную крысу в окопы – разве что баграми!
– Пожалуй, тут ты прав. Так или иначе, в 1952 году у Кудрявцева нарисовалась оказия в Перми. Он прилетел туда, заявился прямиком в директорский кабинет к Самарину и прижал его к стенке. С вопросами об Ольге.
– И что дядя Женя?
– Поначалу юлил, скакал, как вошь на гребешке. Но Володя к тому времени был чекистом со стажем, дело свое знал крепко. Так что Самарин в итоге, прости за бутырский жаргон, раскололся и дал показания. Причем в письменном виде. Я специально потом попросил Кудрявцева копию сделать. Уж больно… хм… говорящий документик. Вот приедем ко мне… Ты ведь, надеюсь, сегодня ночуешь у меня?
Нет-нет, никаких отказов я не приму! Дам тебе прочесть эту самаринскую цидулю.
Но Барона такое предложение не устроило – его сейчас буквально трясло от нетерпеливого возбуждения.
– Я обязательно прочту. А пока просто, своими словами перескажи?
– Ну хорошо. Попробую максимально, так сказать, близко к тексту.
Гиль ненадолго задумался, вспоминая, и принялся пересказывать выбитую авторитетом, погонами и, что греха таить, кулаками Кудрявцева самаринскую исповедь.
Которую сам автор озаглавил бюрократически казенно: «Объяснительная».
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯЯ, Самарин Евгений Федорович, по существу заданных мне вопросов, касающихся судьбы дочери врага народа Алексеева В. В., берусь пояснить следующее.
В феврале 1942 года, пойдя на поводу у сына врага народа Алексеева В. В. (Юрия), я и моя, ныне покойная, супруга, движимые исключительно чувством сострадания, в нарушение существовавших на тот момент запретительных мер и правил, взялись переправить из блокадного Ленинграда на т. н. Большую землю малолетнюю дочь врага народа Алексеева В. В. (Ольгу), под видом нашей собственной, накануне скончавшейся от истощения, дочери Елены.
В процессе транспортировки по льду Ладожского озера наша колонна подверглась беспощадной вражеской бомбардировке, в результате которой погибли несколько десятков человек, включая мою супругу. Дочь врага народа Алексеева В. В., не без моего, замечу, деятельного участия, осталась жива, хотя и получила в процессе авианалета психологический шок, выразившийся в почти полной потере речи.
Несмотря на то что изначально мы с супругой брались всего лишь переправить девочку до ближайшей ж/д станции и сдать ее на попечение специальным службам по работе с блокадными детьми, я, осознавая ответственность за больного ребенка, принял решение сопровождать ее вплоть до конечной станции своего следования (г. Молотов[44]). Исходя из того, что в этом крупном промышленном и культурном советском городе девочка сможет получить более квалифицированное лечение.
В процессе совместного следования санитарным эшелоном все расходы по содержанию (кормлению) ребенка я взял на себя. Двое суток спустя, когда наш эшелон встал на запасные пути ж/д станции Галич, я покинул вагон и направился на привокзальную площадь с целью обменять некоторые вещи (собственные и супруги) на продукты для девочки. Однако совершить обмен не успел, т. к. время стоянки эшелона сократили, и мне пришлось срочно возвращаться в свой вагон, запрыгивая буквально на ходу.
Пройдя к своему месту, я обнаружил отсутствие на нем ребенка. Раненые бойцы из числа т. н. неходячих пояснили, что девочка самовольно решила выйти из вагона (вероятно, с целью погулять) и, по-видимому, не успела зайти обратно. Поскольку эшелон к тому времени набрал весьма приличную скорость движения, ответственный за дисциплину в вагоне военнослужащий категорически запретил выпрыгивать на ходу. В итоге мне вынужденно пришлось дожидаться следующей станции, до которой мы добрались лишь через четыре часа. Там я покинул эшелон и стал дожидаться встречного поезда, каковой появился лишь утром следующего дня.
По возвращении на станцию Галич я предпринял ряд энергичных мер по поиску ребенка. Однако все они, к моему глубочайшему сожалению, успехом не увенчались. Скорее всего, выйдя на прогулку, девочка перепутала эшелоны и села в другой поезд. А учитывая, что таковых в тот день на станции скопилось преизрядно, очертить зону поиска вероятного местонахождения ребенка представлялось делом весьма затруднительным. В итоге я оставил местной ж/д-служащей свои координаты в г. Молотов, на случай если вдруг девочка каким-то образом снова объявится на станции Галич, и, скрепя сердце, выдвинулся к пункту своего конечного следования.
И хотя персонально моей вины в том, что девочка отстала от поезда, разумеется, нет, все эти годы я искренне переживал за ее дальнейшую судьбу. Даже невзирая на то, что ее отец (Алексеев В. В.) был врагом народа.
Очень надеюсь, что в конечном итоге ребенок был обнаружен сознательными гражданами и передан на попечительство в соответствующие инстанции, где его воспитали настоящим советским человеком (женщиной).
Самарин Е. Ф. 19.07.1952. г. Молотов
– …С-СУКА! Да он же просто бросил ее там, на станции! Как котенка! Неужели Кудрявцев этого не понял?!
– Разумеется, понял.
– Тварь! Ну какая же тварь!.. Вот тетю Люсю – ту безумно жаль. Вот она как раз настоящим человеком была. Не «советским» и не «женщиной» а просто – Человеком! А этот шкурник… У-уу! «Брался переправить до ближайшей»! И как у него только рука не отсохла такое писать? Ты даже не представляешь, дед Степан, СКОЛЬКО я этому упырю заплатил за то, чтобы он согласился забрать Ольгу с собой. Тетя Люся, покойница, ни копеечки брать не желала. А этот подонок – за милую душу умял, не побрезговал!
– Ты заплатил? Самарину? За Ольгу? Мерзость какая. Но откуда у вас, у тебя?..
– Потом. После, – отмахнулся Барон от сейчас несущественного. – И что Кудрявцев? Надеюсь, наш лубянский деятель обеспечил этому мерзавцу достойные хлопоты?
– По возвращении к месту своей тогдашней службы, в Петрозаводск, Володя изыскал возможность командировать в Галич своего сотрудника с целью разузнать про Ольгу Но… слишком много воды утекло. Почти десять лет – не шутка.
– А Самарин? Как он в итоге поступил с ним?
– Ты же понимаешь, доказать по факту, что Евгений намеренно оставил Оленьку на станции, практически нереально.
– В былые времена и не такие вещи на раз-два доказывали! – запальчиво огрызнулся Барон.
– А еще Володя честно признался, что банально пожалел Евгения. Ведь у того к тому времени новая семья сложилась, двое ребятишек мал мала.
– Да не пошел бы он в таком разе куда подальше?! Со своей жалостью! Жалостливый, блин, комитетчик! Это еще почище, чем палач с чувством юмора! Последнюю в роду Алексеевых – Кашубских кровиночку на землю выдавил, носком ботинка растоптал и – ничего?! Пожалеть его за это?
– Почему последнюю? А ты сам? – неуклюже взялся гасить страсти Гиль. – К слову, у тебя ведь еще родная тетка есть. Где-то в Швеции. Тетя Нелли.
– Что мне ТА тетка и где ТА Швеция?! Чегой-то мы с Ольгой и бабушкой не получали оттуда посылок? Зимой 1941-1942-го?!
Барон раздраженно плеснул водки. В одиночку запрокинул в себя.
И тут Степан Казимирович заговорил о том, чего весь вечер Юрий опасался более всего:
– Мальчик мой! А ведь ты до сих пор толком про себя так ничего и не рассказал? Что ты? Чем занимаешься? Кольца обручального, смотрю, нет. Неужто до сих пор не обзавелся зазнобой? Не поверю! Такой видный мужчина!
Не случись предыдущего нервного, на повышенных, диалога про Самарина, этим вечером Барон, скорее всего, сумел бы уйти от скользкой темы, отделался общими фразами, как-то отшутился.
Но теперь, пребывая в состоянии зашкаливающего нервного возбуждения, он уже не в силах был заморачиваться на политесы и «возвышающий обман». Посему, сжигая мосты и не щадя чувств старика, Барон обрушил на голову Тиля «тьму низких истин»:
– Вор я, дед Степан.
– КТО?!
– Вор. Рецидивист. Уголовник. Позор семьи. О котором она, по счастью и несчастью одновременно, теперь никогда не узнает.
Не желая окончательно добивать Тиля шокирующими подробностями, Барон показушно охлопал себя по карманам:
– А, черт! Папиросы закончились. Добреду до буфета, куплю…
Пройдя через благоухающий табачным дымом, «Красной Москвой» и взмокшими подмышками широко гуляющий ресторанный зал, Барон разыскал официанта, всучил ему четвертной и, отмахнувшись от дежурного вопроса о сдаче, которую никто и не собирался сдавать, спустился в гардеробную.
– Как там мой ридикюль, папаша? Ноги не приделали?
– Как можно? – возмутился дежурящий по вешалке ветеран кабацкого труда. – У нас заведение солидное.
Обменяв чемоданчик на купюру, Барон торопливо направился к выходу.
– Уже уходите? – угодливо распахнул дверь давешний швейцар.
– Увы.
– А что же ваш старший товарищ? Союзного значения?
– Ему так у вас понравилось, что он решил посидеть еще немного.
– Понимаю. Одобряю.
Барон вышел было на улицу, но, осененный мелькнувшей мыслишкой, почти сразу вернулся:
– Листка бумаги не сыщется?
– Могу предложить бумажную салфетку. Устроит?
– Вполне. И заодно карандашик.
– Один секунд.
Предвкушая на-ход-ноги-чаевые, швейцар метнулся за канцпринадлежностями, а Барон, косясь на ведущую в зал лестницу, положил на стойку чемодан и раскрыл его…
– …Гога, у тебя ведь в магазине на Арбате барыга знакомый служит? Который ювелир?
– Типа того. Только он не ювелир – антиквар.
– Да какая, на хрен, разница?
– Кому как.
– Скатайся завтра.
– Никак решил Катьке подарок к аменинам замастырить?
– Это что, как бы юмор сейчас такой?
– Да куды нам с юмором? Куда ни плюнь – сплошь трагедь.
– Короче, балагур, смотайся до него и узнай: может он браслетку по-быстрому загнать? Казанец нынче расстарался, у интуристочки в Сокольниках подрезал.
Гога лениво скосил глаза на засвеченный Шаландой обруч и, даже не взяв в руки, вынес авторитетное суждение:
– Не смешите людей. Это рондоль[45].
– Да брось! – заволновался Казанец.
– Хошь брось, хошь подыми. Фуфло. Недавно в центре снова появилось. Уже десятка два, что характерно поляков, попалось. Видать, та твоя интуристочка как раз ляхских кровей будет.
– Молодца, Гога, поляну сечешь, – нервно рассмеялся Шаланда. И, сохраняя лицо, добавил: – Мы как бы в курсе. Проверяли тебя в шутку.
Меньше всего в этой жизни Шаланде импонировал застиранный-залатанный плащ неудачника.
– Шутники, блин! Лучше бы какое серьезное дело надыбали. Третью неделю гасимся, как мыши.
– Погодите, детки, вот настанет срок, будет вам и белка, будет и свисток.
– Типун на язык! – болезненно среагировал на «срок» всего месяц как откинувшийся Ёршик.
Казанец отложил вилку с наколотым на зубья соленым огурчиком, прислушался к ощущениям и… выразительно пустил газы.
– Блин! Хоть ты-то не порть обедни, засранец?!
– Пирожки, – виновато констатировал Казанец, ослабляя ремень на брюках.
Это он побаловал себя все в тех же Сокольниках. На радостях, после удачного, как тогда казалось, щипка. А теперь вот, неприятно оказалось, что показалось.
– А я ведь предупреждал, что с крысиными хвостиками!
– Да ладно? Раньше всегда у этой бабы брал – и полный нурмуль… Вот зараза! По ходу, рецептуру поменяла.
Сей, не особо, надо признать, великосветский, разговор проистекал в интерьерах небольшой, в две комнатушки, хазы на Оленьем Валу[46], где этим вечером собрались за трапезой ватажники Шаланды. Меню изобилием и роскошью не баловало – картошка в мундире, огурцы, перья зеленого лука, консервы, хлеб. Ну и водка, разумеется, куда без нее? В общем, отнюдь не на пустом месте делал свои выводы старый Халид, предупреждая Барона, что «нэ тот нынчэ стал Шаланда». Похоже, в самом деле растерял фарт некогда гроза Сокольников, коли от всей его команды остались лишь трое заслуженно засиженных рыл. Да и те поистрепались настолько, что не брезгуют сомнительного происхождения пирожками.
Настойчивый, но при этом словно бы свойский стук в дверь застигнул сотоварищей врасплох: званых гостей сегодня не ждали.
А незваных не ждали в принципе.
– Кому это не могется? – насторожился Гога.
– А шут его знает.
– Может, Катька твоя приперлась? Вокзальная проститутка Катька была марухой Шаланды.
– Дык вроде рановато для Катьки? У нее сейчас самое рабочее время, – засомневался Шаланда, выходя из комнаты в прихожую.
Воспользовавшись отлучкой пахана, Гога тотчас взял быка за рога:
– Не, братва, я хошь и не крыса, но чую: валить надо с этой… шаланды. Иначе – либо мусора окончательно затопят, либо с голодухи подохнем.
– Такой, значится, оборот? – Казанец недвусмысленно сощурился на внушительных размеров брюхо Гоги. – Ты у нас, оказывается, не жирный, а с голоду распухший?
– Пасть закрой, ботало!
– На самом деле Гога дело базланит, – подтявкнул Ёршик. – Да я в лагере здоровее питался, чем нонче на воле. Рвать надо отседова, пока не поздно. Оно, конечно: бег не красен, зато здоров.
– Уж чья бы корова мычала, а твоя… Али запамятовал, из какого дерьма тебя Шаланда в последний раз вытащил? Так я могу напомнить!
– Не надо.
– Вот тогда сиди и не задирайся, – презрительно осклабился Казанец. – Выше ватерлинии. Вот Гога, тот еще может иметь и голос, и мнение. Ему по чину положено. А тебе, Ёршик, рановато покамест. Скромнее будь.
В следующую секунду в комнату возвратился довольный (рот до ушей) Шаланда и возвестил с порога, представляя зашагнувшего следом незнакомца:
– Зырьте, какого гостя дорогого из Питера намело! Барон, собственною персоною!
– Хоть сами в благородных званиях не состоим, но гостям, коли взаправду дорогие, завсегда рады, – радушно обозначился Казанец.
А вот Гога, напротив, набычился. И, не разделяя восторгов, сварливо усомнился:
– Пятый десяток землю топчу, а чегой-то не слыхал за пЭрсону с таким погонялом.
– Да ты чё, Гога?! Да я Барона, почитай, годков пятнадцать как знаю. Еще с устьцилемской зоны. Которую мы с ним да с прочими ворами правильными от солдат Рокоссовского обороняли. Ух и лютое, я вам доложу, было времечко!
– Ну-у понеслась вода в хату! Опять завел волынку за героиЦькое урканское прошлое, – изобразил досадливое Ёршик.
– Не любо – не слушай! – цыкнул на него Шаланда. – А за Барона я тебе, Гога, так скажу: поезжай в Питер и тормозни первого встречного блатного. Всякий подтвердит, что Барон – в авторитете человек.
– Ага, щас! Вот тока дожую и метнусь. За плацкартой. Да мне при нынешних доходах скоро на трамвай хватать перестанет!
– Никшни! Последнее дело – промеж своих, да еще при госте, кусалово устраивать. Присаживайся, Барон. Как говорится, чем богаты. Картошечка, лучок.
– Токма с колбаской – йок, – докончил о наболевшем Ёршик.
– Сыт я, бродяги. Но за предложение – спасибо, – вежливо кивнул Барон, подсаживаясь к столу.
– Оне благородной кровяни, – не замедлил откомментировать Гога. – Пролетарскою пищею брезгують.
– Напраслину возводишь, мил-человек. Просто аккурат из-за стола я. Впрочем, коли водки плеснете – не откажусь.
– А что, в Питере новые порядки завелися? В гости с пустыми руками?
Глаза Барона нехорошо блеснули:
– Вот гляжу я на тебя, Гога, и гадаю: то ли чувство юмора у тебя такое, своеобразное, то ли ты по жизни в самом себе сомневаешься?
– Чего-ооо?!
– Я говорю, похоже, тебя терзают маленькие злые импульсы? Как некогда гражданина Корейко.
– Слышь, ты, гость дорогой! – осклабился Гога, воспринявший «корейку» в качестве недвусмысленного намека на свою заплывшую салом фигуру– Может, ты там, у себя в Питере, и бугор, в чем лично я опасения имею. Но за корейку и огрести недолга!
И тут настал черед показать клыки Шаланде:
– Обмякни, Гога! А то ты и в самом деле вознесся не по-хорошему! – И, опережая неминуемые возражения, повышая градус, добавил: – Я сказал – на хлебало щеколду накинь! У меня ведь терпелка – не из железа выструганная!.. Вот так оно лучше. А теперь, братва, давайте дернем за знакомство. А потом послушаем слово Барона. Потому как он не с пустыми руками, а с сытым набоем заявился.
– Эвона! Неужто в Питере свои «целочки» закончились? Приходится чужих ехать щупать?
– Казанец! Тебя тоже касается. Метнись под лавку! – Шаланда махом опустошил стакан и недобро обвел взглядом свою кодлу: – Говори, Барон. А ежели какая сявка еще раз встрянет, я ТАК утихомирю!..
– В общем, так, люди добрые, – степенно выпив свое, приступил к делу Барон. – Есть вариант завтра поставить хату. Богатую. В Столешниковом переулке. Особых проблем возникнуть не должно. Единственная сложность – на вечер потребуется машина.
– Планируешь стока товару поднять, что на руках не донести? – не то съерничал, не то восхитился Ёжик.
– Реплика уместна. И хотя на записки из зала я собирался отвечать после основного доклада, поясняю: машина потребна для иных целей. Но, с другой стороны, прокатиться по завершении дела, да с ветерком, да с барахлом – лишним не будет. К слову, здесь поблизости телефонная будка имеется? Это важно.
– Возле метро. И у центрального входа в парк.
– Набросаете, как добрести? А то я эту местность не шибко хорошо знаю.
– На фига бумагу марать? Казанец тебя проводит. Верно?
– Почту за честь: провесть, донесть.
– Благодарю. Тогда погружаемся в детали…
Рассказывает Владимир Кудрявцев
Гиль позвонил мне на службу в начале одиннадцатого. Услышав, где и с кем старик проводил время нынешним вечером, я, естественно, не смог усидеть на месте и, навязавшись в гости, через двадцать минут примчался к нему на Покровку.
Выглядел Казимирыч неважно. Оно и понятно: столько событий в течение одного дня – это и для молодого организма нагрузка. А для человека, давно разменявшего восьмой десяток, и подавно.
– …Вот прямо так и сказал? Вор?
– Так и сказал, – безо всякого выражения подтвердил Гиль.
– Э-эх, Юрка-Юрка. Вот уж, чем только черт не шутит, пока Бог спит. А что еще рассказывал? Как он потом в одиночку в блокаду-то… сдюжил?
(На самом деле, о том, как именно сдюжил Алексеев-младший, я был осведомлен. Причем из первых уст. Но не спешил говорить Степану Казимировичу о нашей с Юркой встрече летом 1942-го, равно как и о предшествовавшей этой встрече попытке Алексеева-младшего самолично исполнить смертный приговор. Но вот понять, где и когда пролегла та роковая черта, перешагнув которую героический ленинградский хлопец переквалифицировался в уголовника, было дико интересно.)
– Да не успели мы толком и поговорить-то про него! Это я, старый дурак, виноват. Пасть раззявил, язык свой, без костей, вывалил: тра-ла-ла, бла-бла-бла… Тьфу! Идиота кусок! По большому счету, Юра всего-то и успел поведать, что Ядвига Станиславовна в феврале 42-го отмучилась. Да историю с Ольгой и с Самариными рассказал. И то в самых общих чертах. Нет! Никогда себе этого не прощу!
– Не терзайся, Казимирыч! Разыщем мы Юрку. Уж теперь-то, с его уголовными координатами!.. Да, а обо мне он ничего не?..
– Забавно. Вот так же, точно такими словами и он интересовался: не рассказывал ли ты о нем? С чего бы это? Вы ведь, я так понимаю, после трагических майских событий не встречались больше?
(Нет, Степан Казимирович, неправильно ты понимаешь. Но, опять-таки, не время пока об этом.)
– Хм… Что-то в горле пересохло…
– Так, может, чайку? – спохватился Гиль. – Или покрепче? У меня в загашнике коньячок имеется, от армянской делегации. Сам-то пить не стану, потому каксегодня свою месячную норму перевыполнил. Куда там стахановцам!
– Чайку и в самом деле неплохо. Да и от армянского, признаюсь, не отказался бы.
– Схожу на кухню, похлопочу. Думаю, не стоит Марфу будить, беспокоить. А то замучает нас своим брюзжанием.
– Я могу помочь.
– Сиди-сиди! – замахал руками Гиль. – Не стоит лишний раз напоминать мне о моей дряхлости. Отдыхай, ты ведь со службы. Кстати, можешь пока полистать тетрадку. Вон она, на столе лежит.
– Та самая? Которую швейцар в ресторане передал?
– Да. А вот и записка Юрина, к ней приложенная.
Я взял протянутую стариком сложенную вчетверо бумажную салфетку, развернул и прочитал:
«Дед Степан! Прости, что исчезаю столь же внезапно, сколь появился. Невыносимо стыдно смотреть в твои честные глаза. Думаю, требуется какое-то время, чтобы и тебе, и мне осмыслить случившееся. Осмыслить и немного успокоиться. Да, я – вор, но все-таки не убийца, не насильник и не прочая сволочь. Пускай это и слабое, разумеется, для тебя утешение. Я обязательно объявлюсь снова, благо твой нынешний адрес теперь имеется. Вот тогда сядем по-людски и обстоятельно обо всем побазланим поговорим. А пока, в качестве алаверды, оставляю на временное хранение бабушкину тетрадку – это дневник, который она вела с июля 1941 года вплоть до последнего дня жизни. Эти записи помогут понять, как выживали осколки семейства Алексеевых в страшную зиму 1941–1942 гг. Мне нелегко расставаться с этой тетрадкой, хотя бы и на время, но, при моем стрёмном специфическом образе жизни, боюсь как бы она случайно не затерялась. Еще раз прости за доставленную боль. Твой Юрка.
P. S. Хорошо, что на встречу не явился наш чекист. ТА бы еще сложилась промеж нас компашка!»
Степан Казимирович прошаркал на кухню, а я забрал со стола тетрадку и, сгорая от нетерпения, взялся пролистывать заполненные убористым бисерным почерком Ядвиги Станиславовны страницы в поисках конкретной даты – 28 августа 1941 года.
Таковая сыскалась. Хотя и оказалась описана предельно лаконично:
«28 августа. Четверг. Утром заходил Кудрявцев. Вот уж кого меньше всего ожидала увидеть. Он уезжал на фронт, заходил попрощаться. Лепетал извинения, выглядел потерянным и даже жалким. Принес продукты – много. Взяла, не те времена, чтобы вставать в позу оскорбленной гордости и добродетели. Сейчас главное – дети. Странно, но, когда Кудрявцев уходил, практически не испытывала к нему чувства ненависти. Похоже, что и все прочие чувства и эмоции во мне вытесняются одним, всепоглощающим – усталостью. Этого допускать никак нельзя. Война, судя по всему, будет долгой».
Все верно. Все именно так, включая мою собственную жалкость, и было.
Было в то невеселое августовское утро, когда наши войска оставили Таллинн и, погрузившись на корабли и транспорты, взяли курс на Кронштадт, когда до начала Блокады оставалось всего десять дней и когда я в последний раз увиделся с мамой Елены и секундно, мельком, услышал тоненький голосок ее дочурки – очаровательной малышки Оленьки.
Ленинград, август 1941 года
Ядвига Станиславовна открыла дверь и, вздрогнув всем телом, отшатнулась:
– ВЫ?!
– Я, – подтвердил Кудрявцев.
Небритый, осунувшийся, в военно-полевой форме и с закинутым за плечо вещмешком, он разительно отличался от былого щеголя в кожаном летчицком реглане и в идеально сидящем костюме-двойке.
– Здравствуйте, Ядвига Станиславовна. Вы… вы позволите пройти?
– Извольте, – сухо кивнула Кашубская, и в следующий момент откуда-то из глубины квартиры зазвенело:
– Бабуля! А кто тама пришел? Ирка?
– Нет. Занимайся своими куклами, это ко мне… Проходите на кухню, Владимир. Обувь можете не снимать.
Они проследовали на кухню. Ядвига Станиславовна плотно прикрыла дверь и вопросительно уставилась на Кудрявцева.
– Вы не беспокойтесь. Я… буквально на пять минут. Меня внизу машина ждет.
– А с чего вы взяли, что я беспокоюсь? Слушаю вас.
– Понимаете, я… я… физически не мог сделать этого раньше. Меня несколько месяцев не было в городе… Словом… я… я хочу попросить прощения. За… за…
Кудрявцев запнулся, подбирая нужные слова.
– ЗА?..
– За всё, – выдохнул Владимир.
– Нет, – после долгой, почти бесконечной паузы качнула головой Кашубская. – Я не могу вас простить. Извините.
– Я… я понимаю.
– Это все, что вы хотели мне сообщить?






