Другой Путь (адаптирована под iPad) Акунин Борис
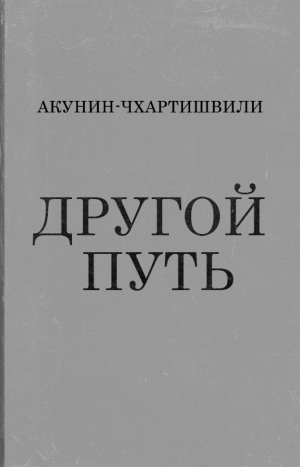
И что вы думаете? Все-таки опоздала! Прямо фатум.
Потому что на Тверской, около строящегося телеграфа, лежал, охал пожилой гражданин. Поскользнулся, упал, а встать не может. И стонет – больно.
Еще бы не больно. Мирра посмотрела, пощупала – перелом лодыжки. Наскоро приложила снежный компресс, сымпровизировала шину, благо мусора вокруг полно. Две дощечки, обрывок провода. Нормально. Хорошо, рядом был Первый дом Советов, а перед ним дежурил милиционер. Сдала ему калеку.
Припустила что было мочи дальше.
Но дудки. Семнадцать минут двенадцатого. Дверь лаборатории была уже заперта, наверху мигала электрическая вывеска, гордость завлаба: «Не входи! Идет печать!» Эх…
В коридорчике сидел какой-то очкастый, держал на коленях мешок с карманчиками, на лямках.
– Медфак запустили? – безнадежно спросила его Мирра.
– Нет, – сказал интеллигент (их даже по такому коротенькому слову слышно). – …Химики застряли. Я тоже с медицинского.
Гражданин был тихий, скучный, несимпатичный. Еще и прикартавливал. Мирра таких квелых не любила. Но от облегчения улыбнулась и несимпатичному.
– Здорово! Повезло!
Интеллигент – ноль внимания, даже не взглянул. Достал из своего красивого мешка шикарную «Лейку IA». Аккуратно стал вынимать кассету.
У Мирры была видавшая виды «Ур-Лейка», самая первая пленочная модель. А у этого новехонькая, спекулянты за такую две сотни дерут.
– Вы точно с медицинского?
Мирра разглядывала очкарика с подозрением. Может, он нэпман. Прослышал про университетскую лабораторию, узнал откуда-то про запись и заявился на халяву. Откуда у студента или хоть преподавателя такие деньжищи? Доцент на кафедре получает семьдесят рэ, а этому в доценты рановато.
– Ассистент из хирургической госпитальной клиники. Клобуков, – представился картавый, и Мирра успокоилась. В любом случае завлаб заставит незнакомого человека показать удостоверение.
– А я – Мирра Носик, с пятого курса. Тоже буду хирургом.
Ничего не ответил. Неинтересно ему со студенткой разговаривать. Ей с ним вообще-то тоже не особенно.
Она подошла к двери, громко постучала:
– Эй, химия! «Что, с часами плохо? Мала календарная мера?»
– Сейчас досохнет! Минутку, товарищ! – отозвалась лаборатория. – Не переживай, медицина, поспеешь. После вас никого нет.
Это была новость хорошая. Мирра села, стала качать ногой.
Ассистент Клобуков смотрел на нее со слабым любопытством.
– Почему «календарная мера»? В каком смысле?
– Вы что, стихов Маяковского не знаете? – недоверчиво спросила Мирра. – Правда что ли? Вы у кого ассистент?
– У профессора Логинова. Главным образом.
– У Логинова? Тогда ясно.
Она сожалеюще покачала головой. А этот даже не поинтересовался, что ей ясно. И Маяковского дальше процитировать не попросил. Зашелестел блокнотиком, почиркал что-то маленьким дамским карандашом.
Наконец вышли химики, три человека. С ними завлаб Ульманис.
– А, Носик, – говорит. – Еще принесла? Когда ты только учишься?
Потом увидел ассистента – обрадовался.
– Товарищ Клобуков! Это хорошо, что вы тоже тут. Вы и без меня отлично управитесь. Меня соседи, с коммутатора, позвали новый год отметить. В порядке смычки. Поможете студентке? Только к оборудованию ее не подпускайте, она мне в прошлый раз винт перекрутила. Я на полчасика, потом вернусь.
– Не беспокойтесь. И, ради бога, не спешите. Если мы закончим раньше, я запру и оставлю ключ на вахте.
Мирра едва сдержалась, прямо заклокотала вся. Во-первых, Ульманис этот – хам. «Не подпускайте!». Но еще больше ее раздражил картавый ассистент. «Не беспокойтесь», «ради бога». Не любила она таких. Вежливость – изобретение ханжеской буржуазной морали, придуманное, чтобы обманывать и скрывать истинные чувства.
Хуже всего, что она действительно пока не очень разбиралась в фототехнике и даже не могла сказать ассистенту пару ласковых. Попала к нему, стеклянно-глазому, в подчинение.
А он и рад. Раскомандовался, и вежливенько так – не огрызнешься.
– Позвольте узнать, сколько у вас кассет? Дайте-ка взглянуть. Благодарю… Нет, эта бракованная, вы ее засветили. Видите, трещина? Аккуратнее нужно. Заберите назад. А эту положите в резервуар. Благодарю…
Руки у него были ловкие, поворачивался он быстро. Шустро пристроил к Мирриной кассете две своих, смешал проявитель, залил, завинтил крышку, включил хронометр.
Стали ждать.
Клобуков сел на стул, сложил перед собой маленькие немужские руки – смирненько, как школьник.
Черт его знает, отчего Мирру всё в нем так бесило.
Держать в себе раздражение вредно для здоровья. В себе вообще ничего насильно удерживать нельзя.
Мирра и не стала.
– Про вашего Логинова говорят, что он враг, – объявила она. – Белогвардеец.
Очкастый засмеялся.
– Кто белогвардеец? Клавдий Петрович? Скорее уж я. Я у барона Врангеля служил.
– И так спокойно признаетесь? – поразилась Мирра.
– Не волнуйтесь, пятикурсница Носик. Кому полагается, про это знают. А насчет врага… – Пожал плечами. – У Клавдия Петровича нет врагов. Не думаю, что он вообще знает смысл этого слова.
Какая все-таки скользкая и хитрая дрянь – старорежимная интеллигенция! Сколько презрения прячется за ее хваленой вежливостью! «Пятикурсница Носик» – вроде не придерешься, а будто сукой последней обозвал.
– Жить без врагов все равно что жить без друзей, – отрезала Мирра.
– У Клавдия Петровича и друзей нет, – рассеянно заметил Клобуков, окуная пленки в фиксажницу.
– Терпеть таких не могу. Ни рыба ни мясо. Кто не умеет ненавидеть, тот и любить не умеет.
– Вы полагаете? – Он на мгновение замер, блеснул на Мирру очками. – Если уравнение верно, его компоненты можно поменять местами. В данном случае не получается. Мне доводилось встречать людей, которые отлично умели ненавидеть и никого при этом не любили. Не думаю, что вы правы.
Вот опять: ткнул носом в нелогичность, софист, а формально обидеться не на что.
Враждебно наблюдая, как он промывает пленки водяным душем, Мирра сказала:
– Такие, как вы, вечно во всем не уверены. И врагов у вас, как у вашего Логинова, конечно, тоже нет.
– А у вас есть? Много? – вежливо так, и опять со скрытой интеллигентской издевочкой.
– Много! Антанта, мировой капитализм, итальянский фашизм, японские самураи, клика Чжан Цзолина. И наша сволочь тоже: белогвардейские недобитки, бандюги, совбюрократы, мещане.
– Действительно много. А у меня только один враг. И победить его труднее, чем Антанту. Но я учусь. Кое-что начинает получаться.
Ассистент, оказывается, и не думал издеваться. Во всяком случае, ответил всерьез, задумчиво.
Мирра сразу остыла – укрутила горелку. Спросила с любопытством:
– Кто? Если не секрет?
– Боль.
– Какая боль?
– Физическая. Я ее ненавижу, хочу избавить от нее людей. Понимаете, хоть я занимаю в хирургической клинике ставку ассистента, я не хирург. Я специалист по наркозу.
– А, хлороформист.
Теперь обиделся Клобуков.
– Что за название! Хлороформ – средство допотопное и очень опасное. Оно погубило больше пациентов, чем неловкие операторы. Я анестезист.
– Какая разница? – Она дернула плечом. – Обезболивание, как его ни назови, бабская профессия. Делай что скажут. Вот хирургия – мужская.
Думала – окрысится, будет спорить, но он не стал.
– Но вы ведь хотите быть хирургом? Не боитесь мужской профессии?
– Сейчас многие женщины берутся за дела, которые считаются мужскими. Летают на аэропланах, водят мотоциклы, проектируют двигатели. Ну а я буду первой женщиной – выдающимся хирургом, – уверенно заявила Мирра.
– Желаю успеха.
И отвернулся, пропустил пленку через осушитель. Решил, конечно, что вузовка глупо хвастает, утратил к ней интерес, и раньше-то небольшой.
Мирра насупилась. Пообещала себе, что больше рта не раскроет.
Зажегся красный фонарь. Раствор в ванночке превратился в кровь, ассистент сделался похож на жреца какого-то зловещего культа: брал фотобумагу, словно печень, вынутую из жертвы, и клал под окуляр пузатого увеличителя, словно приношение на алтарь.
– Сначала отпечатаем ваши. У меня много.
Она молчала.
Клобуков развернул Миррину пленку, быстро просмотрел негативы, хмыкнул.
– Да у вас печатать нечего. Сплошь темные. Проверяйте выдержку и экспозицию. В фотокружок бы записались, чем зря пленку переводить. Нет, в самом деле! Всего один нормальный кадр.
Оставить такое без ответа было невозможно.
– У меня аппарат старый, не то что ваш. Интересно, как это вы на ассистентскую зарплату «Лейку IA» купили?
– Профессор привез из заграничной командировки. Узнал, что я старый фотограф, и решил подарить. Для дела, разумеется. У Клавдия Петровича всё для дела. Хочет выпустить пособие-альбом по базовым операциям, для студентов. С иллюстрациями. Я поэтапно снимаю все манипуляции и стадии. Сегодня вот отпечатаю «Трепанацию черепа» и «Заднюю гастроэнтеростомию». Думаю, вам как начинающему хирургу такое пособие пригодится?
Мирра не ответила, не хотела поддакивать.
Она забрала у него пленку, просмотрела сама. Чертов Клобуков был прав. Только один негатив получился годным – из сегодняшних. Четыре головы, не поймешь чьи.
– Валяйте, печатайте эту.
Когда на бумаге проступило изображение, поняла, кто это. На фоне стены Мишка Котов, Ленка Федотова и Анфиса Гриб, плюс затесался третьекурсник Арик, как его, Лившиц, у него с Анфиской роман.
– Четыре штуки печатайте, – сказала Мирра. – Нет, пять. Одну себе оставлю.
Снимки такого хорошего качества у нее – что правда, то правда – получались редко.
Где-то забили часы и долго не смолкали. Раздался нестройный вопль «Ура-а-а!!!».
– Новый год… – Клобуков обернулся на дверь. В голосе звучало то ли удивление, то ли грусть. – Когда-то я считал его важным праздником, на втором месте после дня рождения. А сейчас ни того, ни другого не отмечаю… В старые времена на новый год все пили вино, загадывали желания. И друг другу что-то желали. Подарки дарили… Самому себе, разве, подарить что-нибудь? – Разговаривал с собой, будто Мирры рядом нет. Но вот взглянул на нее – удостоил. – Раз уж получилось, пятикурсница Носик, что мы встречаем новый тысяча девятьсот двадцать шестой год вдвоем, давайте я вам чего-нибудь пожелаю. Что прикажете?
– А что желали в ваши старые времена девушке? – язвительно спросила она. – Жениха хорошего?
Ассистент развел руками:
– Любви. Счастья. Чего-нибудь такого. Годится?
– Любви мне желать не надо. Сама управлюсь. Со счастьем тоже сама разберусь.
Она забрала из сушилки готовые снимки, завернула в газету.
– Тогда просто пожелаю всего хорошего, – слегка поклонился Клобуков.
Хорошего он желает, как же. Их бы с Логиновым воля, загнали бы таких вроде Мирры назад, в черту оседлости.
Вышла из лаборатории, стукнув дверью. Для интеллигента этого она все равно хамка, пускай такой и остается. Ни «спасибо» не сказала, ни «до свидания». «Спасибо» значит «спаси бог», а бога нету. Свидание с Клобуковым Мирре тоже было не нужно.
(Из клетчатой тетради)
Altera pars
В определенный момент своего исторического исследования я вдруг понял, что всё время получаю сведения лишь с одной стороны – мужской. О любви или Любви рассуждают и теоретизируют только мужчины, которых, естественно, занимает прежде всего собственная роль и собственная позиция в процессе, вообще-то предназначенном для двух участников. Из-за жестко патриархальной структуры общества, существовавшей на протяжении всего описываемого периода, женщина была фактически лишена права голоса, и мы можем получить представление о том, что думал о Любви противоположный пол, почти исключительно из пересказа нарраторов-мужчин.
Вместе с тем жизнь женщины, весь круг ее забот, интересов, поступков, устремлений, ее кодекс поведения, ее представления о достойном и недостойном столь сильно отличались от обстоятельств мужского существования, что и палитра чувств должна была выглядеть как-то иначе. Для «симбиотической» Любви, которую я считаю истинной, вопрос о позиции и взглядах женской половины человечества не менее, а может быть, и более важен. Я говорю «может быть, более», потому что, как известно, в любовных отношениях женщины обычно компетентнее мужчин – смелее, самоотверженнее, ответственнее, что вызвано, в частности, биологическим распределением ролей в механизме воспроизводства, вся тяжесть которого лежит на женщине. Сегодня считается установленным фактом, что Любовь – территория, где женщины ориентируются лучше. Они, вероятно, больше разбирались в этом предмете и в исторические времена, просто общество не давало им слова.
Источники, из которых можно получить хоть какое-то представление о «женском» взгляде на Любовь во времена античности и Средневековья, чрезвычайно скудны. Мне известны всего два.
Первый – сохранившиеся стихи греческой поэтессы Сафо, которая родилась на острове Лесбос в VII веке до нашей эры, то есть раньше Парменида, самого раннего толкователя «эроса». Женщины этой области Эллады жили много свободней, чем другие гречанки. Имели доступ к образованию, не были заперты в доме, могли состоять в фиасах, формально – сообществах для подготовки девушек к замужеству, а на самом деле просто дамских клубах. Достоверных биографических сведений о Сафо почти не сохранилось, а большинство легенд не вызывают доверия, но известно, что жизненный путь поэтессы был насыщен событиями. Она прошла через раннее сиротство, школу для гетер, нужду и богатство, эмиграцию и реэмиграцию, замужество и материнство, безвестность и признание.
Будучи не философом (занятие, невообразимое для тогдашней женщины), а поэтом, Сафо не теоретизировала и не рефлексировала на темы Любви, не пыталась подменить огненный «эрос» тепловатым «филосом», не морализаторствовала. Она без стеснения воспевала Любовь к представителям обоих полов (впрочем, большинство античных авторов-мужчин тоже были бисексуальны). В стихах Сафо жизни и Любви гораздо больше, чем в высокоумных конструкциях философии. Недаром сам Сократ называл поэтессу своей наставницей в вопросах Любви – и, как мне кажется, владел предметом слабее, чем его учительница.
Примечательно, что, в отличие от позднейших поэтов-мужчин, Сафо в стихах почти не живописует плотских наслаждений, всецело поглощенная эмоциональным аспектом Любви. Насколько я могу судить по прочтении сотен произведений, написанных на эту тему в позднейшие времена писательницами и поэтессами, это вообще характерная особенность «женского взгляда», который главным образом фиксируется на чувствах, а не на чувственности.
Ни один лирик Эллады или Рима не писал о любовных ощущениях так сильно и так искренне, как Сафо:
- Равен блаженным богам тот, кто рядом с тобой
- Немеет, тебя лицезрея, слушая неясный твой смех
- И твой сладостный голос.
- У меня б, верно, лопнуло сердце.
- Ведь стоит тебя лишь увидеть –
- сил я лишаюсь, в устах цепенеет язык,
- Кожа пылает огнем, помрачается взор,
- Ураган завывает в ушах, всё чернеет вокруг.
- Льется ручьями волнения пот,
- И дрожат ослабевшие члены.
- Я вся бледнею, как жухнет зимою трава.
- Гаснет рассудок, почти пресекается жизнь.
- Но не страшит меня это нисколько…
Так пишет о Любви женщина, жившая две с половиной тысячи лет назад. Как жаль, что это единственный женский голос, пробившийся к нам сквозь толщу веков.
Много труднее было любить и, в особенности, писать о Любви женщине, которая жила в средневековой Европе – хотя бы потому, что грамотность среди женщин стала куда большей редкостью, чем в античные времена.
Среди обширного наследия куртуазной литературы можно встретить лишь одно сколько-то примечательное женское имя. Некая знатная дама, ни жизненных обстоятельствах, ни даже имени которой мы не знаем (она вошла в историю как Мария Французская), оставила дюжину баллад, по которым можно угадать, что женский взгляд на Любовь несколько отличался от мужского.
В своих лэ (балладах) Мария описывает те же коллизии, что и авторы-мужчины, пересказывает те же бродячие сюжеты, но ее интересуют в первую очередь чувства, возникающие в сердце любящей. Пишет она об этом с подкупающей простотой, даже бесхитростностью. «Дева зорко поглядела на рыцаря, его лик и фигуру, и сказала своему сердцу, что в жизни не видала никого милее. Ее глаза не могли обнаружить в нем никакого изъяна, и любовь постучалась ей в сердце, и велела любить, ибо тому пришло время» (лэ «Элидюк»). Если трубадурам загадочной, недоступной пониманию кажется La Belle Dame sans Merci (Прекрасная Безжалостная Дама), то в глазах Марии непредсказуемым, ненадежным и неблагодарным выглядит мужчина. Между полами есть взаимопритяжение, но нет попытки взаимопонимания; куртуазная стилистика ему никак не способствует. «Прекрасный и нежный друг, – с печальной безнадежностью говорит героиня лэ «Гигемар», – сердце подсказывает мне, что скоро я вас потеряю, ибо тайна наша раскроется. Коль вас убьют, пусть тот же меч сразит и меня. Но если вы одержите победу, я знаю, вы найдете себе другую любовь, а я останусь одна со своими думами. И пусть Господь не даст мне ни радостей, ни покоя, ни мира, коль в разлуке с вами я стану искать иного друга. Вам незачем этого страшиться».
Ярким и впечатляющим свидетельством того, что женская Любовь в ту эпоху могла быть и иной – не отстраненно-воздыхающей, а основанной на понимании и сопереживании, – является уникальный текст, не имеющий отношения к изящной словесности. Я, конечно же, имею в виду письма Элоизы к Абеляру.
Из уст самого Абеляра мы знаем, что ее Любовь к нему была самоотверженной и зрячей; Элоиза очень хорошо понимала человека, которого любит. «Она всеми силами отговаривала меня от женитьбы, – пишет ученый, – утверждая, что всякие узы губительны для философа, что детские крики и семейные заботы несовместны с покоем и прилежанием, какого требуют мои занятия. Она цитировала мне Теофраста, Цицерона, а более всего приводила в пример несчастного Сократа, который с радостью ушел из жизни, так как это позволило ему избавиться от его Ксантиппы.
«Не лучше ль для меня оставаться твоей возлюбленной, нежели стать твоей женой?»
Думаю, найдется мало женщин, готовых на такую жертву ради «покоя» и «занятий» Любимого. Как известно, связь эта завершилась трагически. Дядя и опекун Элоизы приказал оскопить соблазнителя своей воспитанницы, а саму ее навсегда заперли в отдаленный монастырь, так что больше Любящие не увиделись и лишь обменялись несколькими письмами.
Женщина XII века пишет: «Тебя, возможно, удивит и даже огорчит нижеследующее, но я более не стыжусь своей беспутной страсти к тебе, ибо я превзошла ее. Я ненавидела себя за то, что смею любить тебя; я заточила себя навечно, дабы ты мог жить в мире и покое. Лишь добродетель вкупе с нечувственной любовью могла привести к такому исходу. Страсти подобное не дано, она слишком порабощена телом. Любя наслаждения, мы любим жизнь, а не смерть. Мы пылаем желанием, но не встречаем ответного огня. Вот на что рассчитывал мой жестокий дядя; он мерил мою цену слабостью моего пола и полагал, что в тебе я люблю не человека, а лишь мужнину. Но он ошибся. Я люблю тебя больше, чем когда бы то ни было, и тем самым мшу ему. Я буду любить тебя всей нежностью моей души до последнего мига моей жизни…»
Как проигрывают по сравнению с этой великодушной и возвышенной простотой витиеватые эпистолы Абеляра, описывающего свои, вечно только свои страдания.
Мне еще не раз придется вернуться к этой переписке, поскольку она выявляет некоторые сущностные отличия между мужской и женской Любовью, неподвластные перемене культурно-исторических условий жизни.
Полагаю, именно сейчас, перед тем, как перейти к эпохе, когда в мире начал формироваться более или менее единый взгляд на человеческое существование, мне следует хотя бы коротко описать интерпретации Любви, сложившиеся в принципиально других исторических условиях. Я имею в виду Восток.
Если брать культурно-этические традиции мусульманской Азии, то доктрина Любви здесь восходит к эллинистическому миру и основывается всё на той же платоновской концепции: единственно приемлемой считается любовь духовная, поскольку лишь она возвышает и облагораживает душу. Ибн Сина в «Трактате о любви» (XI век) совершенно по-платоновски различает в человеке душу «животную» и душу «разумную», говоря, что первая обязана во всем повиноваться второй. По утверждению автора, Любовные отношения допустимы только с собственной женой или невольницей, и исключительно ради деторождения.
Дальнейшее развитие мусульманской религиозной этики, сколько я могу судить, никак этот тезис не модифицировало (помимо отмены института невольничества). Поскольку ислам позволяет мужчине иметь несколько ясен, о симбиотической Любви тут говорить не приходится. В основе одобряемых, то есть супружеских отношений лежит не «эрос», а «филос» – или, в терминологии Корана, «привязанность и милосердие» (в этой священной книге сказано: «…Он создал для вас из вас самих жен ваших, дабы вы жили с ними, и учредил меж вами привязанность и милосердие»). Халиф Умар ибн аль-Хаттаб (VII век), обращаясь к женщинам, поучает: «Если кто-то из вас не любит своего мужа, пусть не говорит ему об этом, ибо немногие семьи держатся на любви; в совместной жизни больше помогает благо добрых нравов и Ислама».
Вместе с тем, помимо религиозного – если угодно, официального – взгляда на Любовь в персидской и арабской культуре существовал и другой, поэтический, который, конечно, не мог основываться ни на «филосе», ни на многоженстве. Такова Любовь, которая свела с ума и погубила Маджнуна, разлученного с Лейлой. Не о «филосе» писал свои рубайи и Омар Хайям:
- Моей избранницы милее в мире нет.
- Ты для меня и сердца жар, и солнца свет.
- Живет Хайям, высоко жизнь ценя,
- Но ты дороже жизни для меня.
Как я уже писал, концепция куртуазной fin’amor, от которой ведет свое происхождение современная Любовь, была заимствована окситанскими трубадурами в мавританской Испании. Арабоязычные странствующие поэты научили соседей воспевать изысканную страсть, поклоняться женской красоте и служить Любви во имя Любви.
Но и в суннах, где рассказывается о жизни Пророка, Любовь предстает не только чинным, бесстрастным «филосом». У Магомета было много жен, но по-настоящему он Любил, кажется, только одну из них – Аишу. В хадисах можно прочитать, что Пророк старался пить из чаши, прилагая ее к устам в том же месте, где краев касались губы Аиши; что Он предпочитал пользоваться той же зубочисткой; что Он умер, прижавшись головой к ее груди. Всё это классическая симптоматика «эроса» и несомненная НЛ.
Примечательно, что, осуждая проявления страстной Любви в поступках (как, впрочем, и христианская церковь), Ислам оставляет больше свободы для движений души. Христианская доктрина считает грехом даже соблазнительную мысль: «Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». В фетве же, посвященной дозволенному и недозволенному в Любви, говорится: «Если мужчина и женщина полюбили друг друга, за это чувство не будет с них спрошено в Судный день. Тот, кто полюбил, не властен над своим чувством. Но если любовь понуждает тебя к тайным свиданиям и действиям, которые дозволены лишь состоящим в брачных узах, то это запретное».
Другая система взглядов, не менее мощная и еще более древняя, чем арабо-персидская – восточноазиатская – складывается из нескольких компонентов: индуистского, буддийского и конфуцианского.
Мне недостает образованности, чтобы уверенно изложить воззрения этой школы, которая к тому же делится на множество учений и ветвей. Я не владею ни санскритом, ни китайским, ни японским и был вынужден довольствоваться европейскими популяризациями и немногочисленными переводами, однако кое-какое представление о любовной философии этого мира я все же составил.
Она обладает одним важным преимуществом по сравнению с христианской и мусульманской доктринами: в индийском и китайском эпосах отсутствует понятие стыда перед телесностью, а у индийцев сексуальность даже возведена до уровня почтенной культурной практики. Жизнь человека там делится на четыре составляющих, каждая из которых благотворна, если превалирует в уместном возрасте: Кама – это стремление к чувственным наслаждениям, Артха – к материальным благам и жизненному успеху, Дхарма – к нравственности, Мокша – к спасению души. Созревая, а потом старясь, правильно развивающаяся личность последовательно проходит через все эти этапы, движется от простых и относительно низменных целей ко всё более трудным и высоким. Кама делает существование приятным, Артха – безопасным, Дхарма – добродетельным, а Мокша обеспечит счастливый исход.
Эта добродушная схема выглядит весьма симпатичной и, вероятно, сильно облегчает существование тем, кто ее придерживается, однако же довольно трудно представить себе реального человека, который был бы в двадцать пять лет идеальным возлюбленным, в сорок – хозяином жизни, в пятьдесят – образцом нравственности, а в семьдесят – святым старцем. Сильная любовь помешала бы карьере и обогащению; достижение материального успеха испортило бы нравственность, и откуда в конце жизни образовалась бы святость – непонятно. Меня в этой цепочке перевоплощений, согласно теме моего исследования, больше всего интересует первая стадия – служение Каме.
Индусы понимают эту ипостась жизни шире, чем просто Любовь. Речь идет о всевозможных удовольствиях, которые может доставить эксплуатация осязания, зрения, слуха, вкуса и обоняния под руководством ума и сердца. То есть, собственно, слово «Кама» обозначает радость бытия. Именно так – как к занятию, ориентированному на радость, – индуизм относится и к Любви, хотя, как известно, НЛ никак не сводится только к радости и удовольствиям. Отсюда и упрощенность, обедненность канонической «индийской» Любви, описание которой содержится в знаменитом трактате «Кама-сутра». Это своего рода практическое руководство для девиц, как быть счастливыми в браке. Для этого нужно до замужества научиться всяким полезным для семейного счастья вещам – не только 64 сексуальным позициям, но еще и пению, танцу, шитью, кулинарии, разгадыванию шарад, маникюру, устройству петушиных боев, и так далее, и так далее.
Буддийская философия относится к Любви серьезнее, но и строже, по сути дела считая духовный компонент этого чувства опасным заблуждением. Если любовь в общем смысле трактуется как благоволение, то есть желание счастья другому человеку и всячески одобряется, то упадана (собственно Любовь) числится одной из двенадцати причин человеческого страдания. Поощряются лишь привязанности, не нарушающие Дхарму, которая в буддизме представляет собой свод правил, способствующих душевному миру и просветлению. Слишком сильная эмоциональная фиксация на другом человеке влечет за собой тяжкие страдания, ибо все земное конечно, бесконечен лишь мир Всевышнего. В одной буддийской книге я прочитал, что Будда отвечает ученику, вопрошающему, как же обходиться без Любви, если при этом жизнь утрачивает тепло и вкус. Будда говорит: Любовь порождает в сердце несправедливость, ибо заставляет относиться к Любимому лучше, чем к другим людям; это неравенство порождает страхи и ненависть; страхи и ненависть делают просветление невозможным. Создается впечатление, что Будда – во всяком случае, как персонаж этой притчи – не знал, что такое Настоящая Любовь; он никогда ее не испытывал.
В конфуцианстве (которое так сильно помогло мне своей концепцией «благородного мужа», когда я выводил формулу аристономии) много прекрасных рассуждений о любви к человечеству, но в вопросах Любви это стройное учение оказывается не просто некомпетентным, а, кажется, даже не считает сей предмет заслуживающим серьезного обсуждения. В китайском государстве, правящее сословие которого на протяжении веков придерживалось конфуцианства, Любовь считалась материей низменной и недостойной восхваления – в отличие от дружбы и семейной привязанности.
Согласно конфуцианской доктрине, жену или мужа должны были выбирать родители, при этом фактор Любви совершенно не учитывался. Нравственный долг и семейные ценности ценились несравненно выше интимного чувства. Если супруги, пожив вместе, полюбят друг друга – прекрасно; если этого не произойдет, ничего страшного. Состоятельный мужчина может дать волю чувствам, взяв себе наложницу по вкусу, – эти отношения семье не угрожают и важности не имеют.
Главная идея дальневосточного Пути состоит в стремлении души, пройдя цикл возвышающих перерождений, в конце концов слиться с Буддой, когда «я» превратится во всемирное «не-я». При таком взгляде на смысл существования идея Любви как соединения двух половинок андрогина выглядит нелепой. Зачем соединяться душой с другим человеком, когда впереди – воссоединение с самим Буддой?
Завершив свое краткое и, несомненно, поверхностное знакомство с индо-буддийской философией, я был вынужден придти к выводу, что много полезного в этой цивилизации для моего поиска я не обрету, и свет с Востока мне не воссияет.
Пришлось возвращаться на Запад.
(Фотоальбом)
После лабораторных занятий стояли вдвоем на крыльце Госпитальной клиники, дымили. Главврач, формалист и старорежимная сволочь, не разрешал курить даже в уборной – гонял на улицу, мороз не мороз.
Притоптывали ногами от холода, дымили одной папиросой на двоих: у Мирры на плечи накинута ее заслуженная бекеша, у Лидки – элегантная мантошка на рыбьем меху.
Подруга рассказывала Мирре тихим, страшным голосом про свою новую любовь, совершенно безумную и, конечно, безнадежную. У Лидки все любови были такие – совершенно безумные и безнадежные. Мирра морщила нос, но слушала с интересом. Не выдержала только, когда Эйзен совсем уж зарапортовалась, сказала, что, видно, такая у ней судьба – вечно обретаться в аду, Эвридикой, за которой никогда не спустится никакой Орфей. Еще и носом шмыгнула, со слезой.
– Дура ты, а не Эвридика. Вроде современная девушка, сверхпередовой областью медицины занимаешься, а сама… Кто так вообще сейчас разговаривает? «Обретаться в аду», «Эвридика»! Ты кто – рентгенолог или осколок римской империи?
– Во-первых, это не римская мифология, а греческая, – ответила Лидка, уязвившись. Она не любила, когда ее попрекали несовременностью и в особенности старомодностью. – А во-вторых, скажи-ка, Миррочка, чьи это стихи?
И, закатив свои томные глаза, продекламировала:
- И вдруг, забыв слова стыдливости и гнева,
- Приникнет к юноше пылающая дева…
- Еще, о Гелиос, о царственный Зенит!
- Благослови сады широкогрудой Гебы,
- Благослови шафран ее живых ланит,
- На алтаре твоем дымящиеся хлебы,
- И пьяный виноград, и зреющие сливы,
- Где жертвенный огонь свои прядет извивы.
– Тютчев какой-нибудь, – пожала плечами Мирра. – Или Анненский. Сейчас так никто не пишет.
– Нет, это стихотворение Ларисы Рейснер, прекрасной амазонки Революции! – торжествующе объявила подруга. – И если Лариса Рейснер не современная, передовая женщина, то пусть и я буду такая же!
Она обожала Ларису Рейснер, которая и для Мирры, конечно, являлась непререкаемым авторитетом, женщиной новой эпохи, бесстрашной и свободной, дающей мужчинам сто очков вперед.
Крыть было нечем.
– Ладно, срезала, – усмехнулась Мирра. – Видно, от любви и у товарища Рейснер гайки с болтов слетают.
– От любви человек начинает думать и говорить языком любви, – убежденно сказала Лидка, – а совсем не таким, каким обсуждают примусы или жилищный вопрос.
– Ладно, широкогрудая Геба, переходи от лирики к фактам. Давай, рассказывай.
– Первый раз я увидела его три дня назад, в театре Корша. Олимпиада Аркадьевна, билетерша, я тебе про нее рассказывала, посадила меня на чудесное место в амфитеатре, под ложей. Он был прямо надо мной.
– Кто, царственный Зенит?
Но Лидку было уже не сбить. Она придерживала тоненькой – каждую косточку видно – рукой ворот пальтишки, длинные ресницы полуопущены, под глазами синие тени, – и мечтательно тянула слова:
– Сначала я услышала го-олос… Потом увидела серый тви-идовый рукав, лежащий на лаковом бордюре ло-ожи… Блеснули очки в стальной опра-аве… Потом, во мраке театрального зала – зеркальный пробор… Как Теодор говорит, как держится!
– Теодор? Иностранец что ли?
– Латыш.
– Твидовый рукав, пробор на бриллиантине. Нэпман?
– Сама ты нэпман! Он герой Гражданской войны, состоит на какой-то секретной работе, часто ездит за границу. Это настоящий европеец!
– А как же Кторов?
Последнее время Эйзен была влюблена в актера Кторова из того же коршевского театра. Разумеется, безумно и безнадежно, потому что Кторов женат на актрисе Поповой и души в ней не чает, а Попова на десять лет старше и вообще ужасная женщина.
Лидка только пальчиками плеснула – про Кторова ей было уже неинтересно.
– Ты хоть с этим Теодором познакомилась?
– Что ты! У него красавица-жена и маленькая дочь. Это препятствие, которое не преодолеешь… Ты бы видела, как он прогуливается с коляской. Такой нежный отец! И совсем не стесняется быть ласковым, не то что другие мужчины.
– А, вот ты где последние дни пропадаешь. Выследила? У подъезда караулишь? – Мирра осуждающе покачала головой. – Гляди, Лидка. Холодище, а на тебе ботики фетр, платьишко «шемиз», чулочки фильдеперсовые. Заработаешь пневмонию, да еще придатки застудишь. Погляди на себя. Глиста зеленая. Тебя ветром шатает, месячные через раз.
Каждый день после занятий Эйзен подрабатывала в рентгеновском кабинете, ей еще и мать из Ленинграда присылала, чтоб дочка хорошо питалась, но все деньги уходили на шмотки и билеты в театр или кино, а есть Лидка вообще не ела. Говорила, аппетита нет.
– Ох и парочка мы с тобой, – сказала Мирра, случайно взглянув на отражение в окне: одна длинная, тощая, вторая маленькая, плотная, в распахнутой бекеше. – Пат и Паташон. Дон Кихот и Санчо Панса… Ладно, валяй дальше рассказывай.
– Потом. Андрогин идет, – шепнула Лидка, смотря ей через плечо.
Мирра обернулась.
Из дверей вышла Андронова, пятикурсница с военно-медицинской кафедры. Увидела – помахала рукой. Лидка ее не любила, говорила, что это не женщина, а недоразумение. «Андрогин» – это что-то из древней философии. Полумужик-полубаба, кажется.
Андронову действительно издали можно было принять за парня. Она стриглась под ноль, ходила размашистой походкой и одета была в военное: шинель, буденовку, сапоги. Мирра уважала Андронову за целеустремленность и волевые качества. Вот кто тоже имел все шансы стать первой выдающейся женщиной-хирургом, но военно-полевая медицина так далека от той области, которой собиралась заниматься Мирра, что соперничать им, слава богу, не придется.
– Здорово, Носик. – Андронова крепко пожала руку. Лидке небрежно бросила: – А, это ты, Эйзен.
Она была принципиальная. Рукопожатием обменивалась только с теми, кого уважала. Кого не любила – игнорировала. С Лидкой это она еще любезность проявила – только потому что Миррина подруга.
– Слушай, Носик, я с тобой должна про завтрашний актив поговорить. Чтоб выработать единую позицию по снегоборьбе. Слыхала, вчера с крыши глыба свалилась, первокурсника с тяжелым сотрясением мозга увезли? Надо поставить перед ректоратом вопрос ребром: или делайте сами, или не мешайте ячейке выполнить за вас вашу работу…
Говорила она энергично, толково. Перечисляла аргументы – загибала сильные, белые от дезинфекции пальцы. Но при этом успевала смотреть на входящих-выходящих. С кем-то здоровалась по имени, кому-то просто кивала, на кого-то враждебно суживала глаза.
Вдруг, прервавшись на полуслове, подошла к человеку, появившемуся из-за двери, поздоровалась за руку, вернулась.
Мирра с любопытством обернулась – кому это такая честь?
Оказался знакомый. Ну, то есть не то чтобы знакомый-знакомый, а виделись недели три назад, разговаривали. Этот, как его, Клобуков. Неприятный.
Мирра не сразу его узнала, потому что он оброс светлой бородкой. За спиной у ассистента-анестезиста висел все тот же мешок с карманчиками, на лямках; из-под мышки торчали какие-то дощечки с маленькими колесиками, непонятного назначения.
– Кто это? – спросила Лидка. – Лицо интеллигентное.
– Хирурга Логинова знаешь? С козлиной бороденкой, рожа надутая. Буржуй, на авто с шофером ездит. Это его ассистент, специалист по обезболиванию. Тоже фрукт, вроде своего профессора. – И вернувшейся Андроновой: – Ты чего с ним за руку? Он же сволочь, недобитый беляк. У Врангеля служил.
Та засмеялась:
– Кто, товарищ Клобуков? Ну ты сказанула! Он конармеец, фронтовик, с белополяками воевал. Мне знакомый буденовец про него рассказывал – мировой, говорит, мужик. Свой на все сто, даром что интеллигент.
Аспирант спустился с крыльца, повозился со своими дощечками, и они превратились в самокат. Взялся за алюминиевые ручки и быстро, с удивительной мягкостью покатился вдоль по Царицынской, отталкиваясь от заснеженного тротуара ногой в добротной нэпманской бурке и блестящей галоше.
– Здорово шпарит! – сказала Андронова. – Он у нас в группе ведет курс по анестезии в военно-полевых условиях. Жутко интересно!
Лидка вздохнула:
– Жалко, некрасивый. И рост маловат.
Мирра же молчала, глядя вслед шустрому самокатчику сощуренными от ярости глазами. Ах так? Ты, значит, у барона Врангеля служил?
Хамства она не спускала никому. Особенно интеллигентского, которое не от пролетарской простоты, а от издевательства.
Ну гляди, Клобуков. Выставил дурой перед Андроновой? Ладно. Узнаешь, как Мирре Носик голову морочить.
Давать обидчику сдачи нужно сразу, не откладывая в долгий ящик. Это правило Мирра соблюдала железно.
Сразу же пошла в секретариат. Спросила у сморщенной мымры, сидевшей за «ундервудом», какое завтра расписание у ассистента Клобукова.
Мымра ей:
– А вы, гражданка кто? Вам зачем? Вы по личному вопросу?
– По общественному, – мрачно ответила Мирра, уже чувствуя, что сушеная слива ничего ей не скажет.
У них тут было гнездо старорежимной науки. На стенах портреты исключительно Пироговых-Боткиных. Даже Ильича нет, хотя только что прошла траурная годовщина.
– Обратитесь к профессору Логинову. Это его ассистент, – отрезала секретарша. – А меня от работы не отрывайте.
И демонстративно заколотила костлявыми пальцами по клавишам.
Мирра повернулась, но напоследок дала залп прямой наводкой, потому что не уходить же, поджав хвост.
– Думаете, испугаюсь? Это вы все тут перед Логиновым стелитесь. Тоже еще богдыхан выискался. И спрошу!
Тут случилось чудо. Секретарша улыбнулась.






