Другой Путь (адаптирована под iPad) Акунин Борис
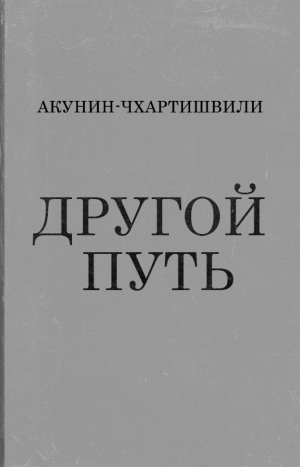
Но Лидка опять не слушала.
– Ты не представляешь, какой она была, Лика Оболенская… Она была влюблена в Олега Константиновича, лейб-гусара, поэта, великого князя.
– Ясное дело. Она – княжна, он великий князь. Славная парочка – гусь и гагарочка.
– Да нет же! Олега Константиновича убили еще в самом начале войны, Лика влюбилась в мертвого. Говорила, что всегда будет хранить себя ради его памяти. Это было так безумно красиво!
– А-а-а, ну, это девичье. – Мирра махнула свободной рукой. – Я в двенадцать лет по цирковому гимнасту сохла. Только на афише его и видела. Такой усатый, гордый, в черной маске.
– Как растоптанная фиалка в грязи… – всё всхлипывала про свое Лидка.
Придется найти эту фиалку, сказала себе Мирра. Поглядеть на нее вблизи. Наверняка алкоголичка, кокаинистка или, того хуже, морфинистка. Поди, еще и венерическая. Ничего, всё это в принципе лечится.
Вот как вылечиться от любви, которая сделала человека преступником?
Но вылечиться решила. Твердо.
Первое: поместила себя в изолятор. Изолировалась от источника инфекции – перестала видеться с Антоном.
Так прошел один день, второй, третий.
По университету ходила, как разведчик по вражеской территории. Глядела в оба, перед каждым поворотом коридора выглядывала – не идет ли Клобуков. В столовку и читалку вообще ходить перестала. Хирургическую клинику огибала стороной.
Чувствовала себя при этом, как положено больному в изоляторе: хреново. Лихорадка, навязчивые видения, нарушения сна, чередование возбуждения и подавленности.
На третий день случилось обострение. Через открытую дверь преподавательской курилки увидела его. Клобуков стоял с трубкой в зубах, читал книжку, поднеся ее поближе к льющемуся из окна тусклому свету. У Мирры – прямо сердечный спазм. И это Антон ее еще не заметил, а подошел бы, заговорил, и вся терапия полетела бы к черту.
После этого инцидента стало ясно, что без хирургического вмешательства никак. Со временем срастется, заживет. На Мирре любые раны заживали как на собаке. Например, в самую первую московскую зиму заработала на катке двойной перелом – большая и малая берцовые. И ничего, через восемь недель уже снова делала прыжок с поворотом.
Перевестись в Ленинград. И точка.
Она, наверное, уехала бы. И рана, конечно, зажила бы, куда б она делась? Но в первый день последнего месяца зимы произошло чудо.
В детстве Мирра больше всего любила сказки про добрых волшебников и волшебниц – наверно, потому что вокруг с добротой и волшебством было паршиво. Безусловно, в смысле закалки характера очень полезно, когда в жизни ты всё время преодолеваешь препятствия, прогрызаешься зубами и продираешься, ломая ногти. Но иногда ужасно хочется, чтобы явилась какая-нибудь фея, махнула волшебной палочкой, или на Новый год заглянул дед Мороз и спросил: «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?» И оп-ля! Все преграды пали бы сами собой.
Став взрослой, Мирра сказала себе, что одно чудо, самое главное, уже произошло – в октябре семнадцатого года, без ее участия. А все последующие чудеса в лучшей на свете стране произойдут уже с Мирриной помощью.
Но так говорила себе прежняя Мирра Носик, чья личность еще не была разрушена злокачественным недугом.
И когда она расшибла себе лоб о железные ребра любви, разнюнилась, пала духом, откуда ни возьмись явился добрый волшебник и совершил чудесное чудо.
А может быть, счастливой любви без волшебного вмешательства вообще не получается.
Короче, первого февраля понесла Мирра в деканат по всей форме составленное заявление. Так, мол, и так, прошу о переводе в Первый Ленинградский медицинский институт по личным обстоятельствам в порядке учебно-академического обмена. Найти в Ленинграде пятикурсника или пятикурсницу, кто захочет попасть в Первый МГУ, будет легче легкого. Сейчас все в Москву рвутся.
Только вышла из общаги – и столкнулась с Антоном, лоб в лоб.
– А я к тебе. Здравствуй.
Она просто кивнула. Смотрела на него, улыбающегося, ни черта не понимающего, не чувствующего. Подумала: какого черта я в тебе нашла, почему на тебе, кретине очкастом, свет клином сошелся?
– Ты куда вообще пропала? Я на факультет несколько раз заходил – нет. Записку вчера оставил у вахтерши. Не передали?
– Нет, – соврала Мирра. Записку она, наверно, полчаса протеребила в руках, но проявила волю. Скомкала и не читая выкинула. – Занята была. Я и сейчас тороплюсь. Опаздываю. Потом поговорим, ладно?
И пошла, вся одеревеневшая.
– Жалко, – сказал он вслед. – Ты не представляешь, как ты мне нужна!
Тут, она, ясно, встала как вкопанная. Ноги не идут, щеки горят.
– Нужна? Зачем?
– Может, найдешь час времени? Очень тяжелый случай. Через два часа операция, а я не знаю, что делать. Бился, бился. Никакие доводы не работают. Человек твердо решил умереть под наркозом. И умрет, сто процентов умрет. Тут нужны не логические доводы, а что-то другое. Я подумал, может, у тебя получится. Попробуй, а? Такой человек!
– Опять какая-нибудь любовная драма? Опять кого-то не любят, и он или она не хочет жить? – вяло спросила Мирра, сердясь на себя. Нужна она ему, как же. Главное – как собачонка откликнулась, по первому свисту. А вникать в чужие любовные терзания ей ужасно не хотелось. От своих деваться некуда.
– Любовь тут ни при чем. Отсутствие воли к жизни. Полное.
– Кайне вилле-цум-лебен? – Мирра равнодушно дернула плечом. У нее самой в последнее время с Wille zum Leben было так себе. – Что я-то могу сделать?
– Просто сходи со мной. – Ответ прозвучал уклончиво. Какая-то задумка у Клобукова, кажется, все-таки была. – Между прочим, это не кто-нибудь, а сам Кузевич, тот самый. Академик.
– Иди ты! – поразилась она.
Кузевич был известный в прошлом гигиенист, из старой профессуры, член президиума медицинской секции Академии наук. На первом курсе все учатся по его «Введению в гигиену труда».
– Клавдий Петрович должен сделать ему резекцию желудка по поводу язвы. Операция срочная – есть опасность прободения – но не особенно сложная. Я предлагал местную анестезию, ее вполне хватило бы. Максимум – можно было бы дать смешанную, с небольшой дозой морфина, хотя при таком флегматичном складе характера, как у Кузевича, это даже лишнее. Но академик потребовал общего наркоза, и шеф согласился. Он, как все хирурги, любит, чтобы пациент лежал колодой. Говорит, ничего страшного. Сердце для 65 лет сильное, давление приличное, не вижу оснований опасаться. А Кузевичу только одно нужно: уснуть и не проснуться. Я тебе говорил: тот, кто ложится под наркоз в таком настроении, обычно из него не выходит. Я это не раз видел. Кто твердо решил умереть – умирает. Не возвращается!
Они уже шли в сторону клиники. Вроде Мирра и не дала согласия, но как-то оно само собой получилось. И быстро шли, по-деловому.
– А ты не напридумывал?
– Если бы! Он и не скрывает. От меня, во всяком случае. Посмотрим, как с тобой заговорит…
Академика, конечно, разместили в палате для особенно заслуженных, куда вел специальный коридорчик. Мирра никогда там раньше не бывала.
Но ничего особенно роскошного внутри не оказалось. Только отдельный санузел, чахлая пальма в кадке да метраж побольше. Еще на стене картина в золоченой раме – не мишки какие-нибудь в сосновом бору, а современная, с конармейской тачанкой.
На кровати полулежал-полусидел старичок в роговых очках, рассматривал какой-то листок. Увидел вошедших, отложил. Весело улыбнулся Антону – морщинистое лицо всё пошло лучиками.
– А-а, настырный анестезист снова явился. Ждал, ждал. Думал, кого он на подмогу приведет? Не иначе профессора Логинова запугает. А он с юной и прекрасной девой пожаловал. Что, не вышло с Клавдием Петровичем?
– Нет.
Академик засмеялся. Вид у него был очень довольный.
– Знаю-знаю. Он был у меня с час назад. Посмотреть, в каком я психологическом состоянии. Вы его, коллега, немножко встревожили. Пришлось сказать почтенному профессору, что вы всё нафантазировали. Что я полон планов и энергии. Что помирать совершенно не собираюсь. Он успокоился. Так что вопрос с общим наркозом решен окончательно, хе-хе.
Старик с любопытством разглядывал Мирру, она тоже на него таращилась – изумленно. Человека, который хочет уснуть и не проснуться, представляешь себе иначе. Тот веселый маляр, Полуектов, хоть философствовал. А этот просто хихикает. И маслится, как кот на сметану.
– Кто вы, милая барышня?
– Вы правда не хотите жить? – спросила она, не ответив на пустой вопрос. Какая ему разница, кто она такая.
– Вам с вашими румяными щеками трудно в это поверить? – снова засмеялся Кузевич. – Да. Хочу умереть, уснуть. И видеть сны, быть может.
Настроение у него было преотличное.
– А, я понял, зачем он вас привел. – Больной подмигнул Антону. – Jeune fille en fleur[12] – самая лучшая реклама жизни. Спасибо, коллега. Приятно полюбоваться. Но, в отличие от цветущей барышни, я стар, никчемен и никаких желаний не имею. Академический паек, конечно, вещь прекрасная, равно как и госдача, но для дальнейшего путешествия сих стимулов мне недостаточно. Я дальше не поеду. Схожу на станции Бологое. Давно пора было, а тут представился отличный случай. Грех упускать.
– Вы – ученый с мировым именем! – воскликнул Антон. – У вас такая репутация в медицинских кругах! Скажите ради бога, ну что вам на свете не живется? Честное слово, я потребую, чтобы операцию отменили. Откажусь в ней участвовать, и всё! Палачом быть не желаю. А без меня Клавдий Петрович оперировать не станет!
– Предусмотрено, – хихикнул академик. – Я вашему патрону сказал: молодой человек упрямится из самолюбия. Как бы не забастовал. Для общего наркоза при такой несложной операции, говорю, вам анестезист не очень-то и нужен. Отлично медицинской сестрой обойдемся. Я, говорю, клиент золотой. Кольнет она меня в вену, подышу в масочку, и бай-бай, нету меня… А насчет имени и репутации. – Огонек в маленьких глазках погас, и Мирра увидела, что смешливый академик на самом деле человек совсем не веселый. И очень усталый. – Мое имя в прошлом. От научной работы я давно отошел, и вы, коллега, отлично это знаете. Все знают. А репутацию хорошо с собой в гроб положить… Впрочем, мы всё это уже обсуждали. Идем по десятому кругу. Пусть лучше барышня что-нибудь скажет. Хочу услышать звонкий, юный голос.
– Почему на станции Бологое? – спросила Мирра. – Ну, вы сказали: «Схожу на станции Бологое».
Утром, представляя, как поедет из Москвы в Ленинград, она решила, что до середины пути, до Бологого, позволит себе думать об Антоне и обо всем что между ними было и чего не было, но могло бы быть. А после Бологого начнет думать только о будущем. С прошлым покончит. И вдруг этот дедок тоже про Бологое.
– Ого! Барышня-то непростая. Попала своим вопросом точно в десятку, – непонятно ответил Кузевич. Прищурившись посмотрел на Мирру, на Клобукова, снова на Мирру. – А вы, молодые люди, просто работаете вместе или нечто… большее?
– Мы с Миррой друзья, – ответил Антон. – Ну и профессионально тоже сотрудничаем.
– Я будущий хирург, – подхватила Мирра. – Хочу понимать анестезиологию. Товарищ Клобуков мне помогает. – И поскорее сменила опасную тему. – Так что про Бологое?
Хитро прищурившись, старик пожевал губами, но приставать с дальнейшими расспросами не стал.
– Бологое-то? Да вот, лежал тут, вспоминал. Сравните-ка два эти снимка.
Он взял с тумбочки листок, который рассматривал, когда они с Антоном вошли.
Плотная бумага была сложена вдвое, и когда Кузевич ее развернул, оказалось, что там приклеены две небольшие фотокарточки. Одну он прикрыл ладонью, вторую показал.
– Это, как можете видеть, моя малопривлекательная персона. Снято в прошлом месяце. Я во всем моем нынешнем великолепии: старый, облезлый башмак. Склеил карточки рядом для контраста и наглядности.
Убрал ладонь, показал второй потрет, пожелтевший от времени. Там была женщина, довольно молодая, в старорежимной шляпке с пером.
– Какое лицо, а? – тихо сказал академик.
Лицо действительно было необычное. В глазах что-то такое. Или, скорее даже, в тенях под глазами.
– Прекрасное лицо. – Антон наклонился, поправил очки. – Кто это? Ваша жена в молодости?
– Нет, не жена. – Кузевич не отрываясь смотрел на снимок. – Честно говоря, я понятия не имею, кто она. Даже имени не спросил… Вот знаете, когда оглядываешься на прожитую жизнь… Хотя откуда вам в вашем возрасте знать… В общем, несколько дней назад, мысленно приготавливая себя к операции, я, как это принято у стариков, стал вспоминать свою жизнь. Многое, что раньше представлялось значительным, показалось мне совершенной чепухой. А одно мелкое происшествие, про которое вроде бы и забыл давно, вдруг вынырнуло из прошлого и заслонило всё остальное… Я, правда, перед тем еще и сон увидел. Про Бологое. Такой, знаете, явственный… Полез в коробку со старыми фотографиями, нашел. Стал разглядывать. И вдруг почувствовал себя таким идиотом, таким никчемным… банкротом. – Он засмеялся, полез пальцем под очки. – Ну вот, и слеза стариковская, сентиментальная…
– А можно по порядку? – отчего-то заволновалась Мирра, и вопрос прозвучал сердито. – Что произошло на станции Бологое?
– В том-то и дело, что ничего… Это было очень давно, во времена, когда прежний мир казался незыблемым, то есть еще до японской войны. Ехал я из Москвы в Петербург. Только что принял важное решение – расстаться с наукой, потому что мне предложили весьма лестную для молодого профессора учебно-административную должность. Выглядел я в ту пору не так, как сейчас. – Академик улыбнулся Мирре – не то чтобы грустно, а как-то рассеянно. – На моих лекциях преобладали особы прекрасного пола и нежного возраста – курсистки. Присылали мне надушенные записочки, иногда даже караулили у подъезда… Это я говорю не для хвастовства, а чтобы вы мысленно стерли с моей физиономии морщины и обтрепанность. Мне было едва за сорок. Гладкий такой, остроглазый господинчик… Тогда на станции Бологое давали обед для проезжающих, у первого класса очень приличный, а ля карт. Там как раз сходились два поезда, московский и питерский. Стояли целый час, а если десерт задерживался, то и дольше. Иные времена, иной темп жизни… Я что-то вилкой поковырял, но не было аппетита. Вышел из ресторана пройтись. А вдоль вагонов встречного поезда прогуливалась она…
Он смотрел на снимок. Легонько коснулся пальцем – будто погладил.
– Вы, коллега, назвали ее лицо прекрасным, а я даже не могу сказать, красивое оно или нет. Но посмотрел, встретился глазами – и… как бы объяснить… Будто все другие лица, виденные мною прежде, были ненастоящие, а настоящее только это… Или как будто соединились два электрических провода. Раньше были две безжизненные проволочки, а тут сверкнуло, обожгло, и загорелся свет, и… Ладно, я не поэт, я не умею объяснить…
– Ясно, ясно, – быстро сказала Мирра, слушавшаяся с напряженным вниманием. – А дальше что? Она что?
– Она тоже остановилась. Мы молча смотрели друг на друга. Не знаю сколько времени. Наверное, долго. Потом она говорит: «Странно. Мне кажется, я всё про вас знаю». А странно было другое. Я думал про то же самое – только противоположное. Что я ничего, совсем ничего про нее не знаю, но хочу знать всё. Я ей так и сказал. И потом мы просто говорили. Сбивчиво. Люди, которые только что встретились и даже не представились, так не разговаривают. Не беседа у нас была, а какая-то невнятица… «Почему сейчас, почему не раньше, – лепетала она. И все повторяла: – Где вы были прежде?» С упреком так, даже с обидой. Я, как болван, ей: «У меня прекрасная жена, просто чудесная. Я стольким ей обязан. У меня сын, дочь… Это совершенно, совершенно невозможно…» Она подхватывает: «Да-да, совершенно невозможно. Мой муж; достойнейший из людей, и дети, дети…» – Голос у академика задрожал. Кузевич хихикнул, откашлялся. – Такой примерно у нас был разговор. Не особенно содержательный. И тут звонок к отправлению. Она вот так – пальцы к виску. Глаза огромные. «Боже, мне ехать с вами?» Будто удивляясь. Вы понимаете? – Старик растерянно улыбнулся. – Она бы со мной уехала! Уехала! А я… Я пробормотал: «Простите меня, простите». И побежал к своему поезду, даже второго звонка не дождался. Безумие, наваждение, безответственность. Жена, сын с дочерью, жизненная миссия, да и должность в министерстве… – Кузевич засмеялся, покрутил головой. – …Потом поезд тронулся. Поехали… Зашел проводник. Вам, говорит, с питерского «скорого» просили передать. Конверт, в нем вот эта карточка. На обороте – видите – наскоро карандашом написано: «На память о несбывшемся». Только это. Ни имени, ничего…
Мирра потянула у него из рук листок, повертела, даже подняла к свету, но через бумагу надпись не просматривалась.
– …Я не знаю, что это было. – Кузевич смотрел в сторону, на картину с тачанкой. – Первое время вспоминал, потом забыл… Моя прекрасная жена меня потом бросила, уехала за границу с одним приватом. Записку оставила, обидную. «Я с тобой не живу, а просто старею». Сына убили под Танненбергом. Дочь вышла замуж, шлет открытки два раза в год. Моя жизненная миссия, оказывается, состояла в том, чтобы дремать на заседаниях и лелеять прежнюю репутацию… Рожа стала такая, что в зеркало смотреться тошно. Я и не смотрюсь обычно. Сфотографировали вот в прошлом месяце, – он отобрал у Мирры листок, щелкнул по своему портрету, – стал себя разглядывать. Вот, приклеил рядом. Я – такой, каким стал. Она – навсегда такая же, как в тот день. В прекрасной шляпке с перьями, каких теперь не носят. Как это, в «Гамлете»? «Вот два изображенья: вот и вот…»
– Если та дама жива, она тоже постарела, – встрял Клобуков, зануда. Но лицо у него было странное. Будто напуганное.
– Может быть, – пожал плечами старик. – Но это в какой-то параллельной реальности, которой на самом деле не существует. А в моей она всё та же. Я меняюсь, она – нет, только всё ярче сияет. Я же лишь тускнею и облупляюсь…
В коридоре загрохотало, санитар затащил в дверь палаты каталку.
– Товарищ академик, пора, – сказала вошедшая следом сестра.
– Опять я вас перехитрил, наркотизатор. – Кузевич показал Антону язык. – Заболтал, время-то и ушло. Ступайте, готовьте ваши препараты. Посмотрим, кто кого обставит: вы меня или я вас. А напоследок я вот что скажу вам, молодые друзья-сотрудники. Надо тускнеть и облупляться вдвоем. Только в этом и есть смысл, а больше ни в чем. Эту простую истину мы, дураки, понимаем хуже, чем они.
Сказано было Клобукову, а «они» – это было про Мирру, на которую академик показал пальцем.
Пока шла операция, Мирра ждала в опустевшей палате. Представляла картину.
Прошло двадцать лет. Допустим, тысяча девятьсот сорок шестой год. Она едет из Ленинграда в командировку, в Москву. Выходит в Бологом на платформу, а там Антон. Тоже едет, но в Ленинград. В командировку или неважно зачем.
Они оба давно забыли друг друга. Совсем чужие. Поздоровались, говорят о том, о сем: где работаешь, есть ли дети, и всё такое. Потом прощаются, пожимают руки – и вдруг, как это академик сказал? Два электрических провода. Сверкнуло, обожгло, и слепящий свет.
Нет, невозможно. За двадцать лет всё изменится, всё уйдет. Антон станет другой, она состарится.
Ничего не будет. Ничего. Одно несбывшееся. Даже без памяти. Потому что всё забудется. Да и нечего особенно вспоминать…
Антон вернулся несчастный, нахохленный. На вопрос только махнул рукой.
– Я же предупреждал шефа… Не послушал меня…
Сел рядом на кровать.
– Эх, покурить бы. Но нельзя. Не заслужил… И бороденку сбрею. Чуть не задохнулся под марлей…
Вошли нянечка и сестра-хозяйка. Первая – снимать постельное белье, вторая – делать опись вещей.
Пришлось выйти в коридор. Стояли, молчали. У Мирры в голове всё вертелось дурацкое старорежимное слово: несбывшееся, несбывшееся…
Подошла сестра – ассистентка Логинова.
– Антон Маркович, когда я готовила академика к операции, он просил вам передать. Извините, не до того было…
Сложенный вдвое листок. Те самые две фотографии.
– Погоди, тут что-то написано. Раньше не было, – сказала Мирра.
«От старого дурака – молодому. Чтобы не был дураком».
– В каком смысле? – наморщил лоб Антон.
Посмотрел на Мирру. Она отвернулась. Он шумно сглотнул.
Так и случилось чудо.
(Из клетчатой тетради)
«Неправильная Любовь»
В предыдущей главе я определил минимум необходимых признаков Любви, что позволило отделить от нее различные квазилюбовные состояния (влюбленность, страсть, неразделенная любовь и т. п.), которые не имеют прямого отношения к теме моего исследования. Однако есть случаи более сложные, когда между двумя людьми возникает именно Любовь, но неправильная – в том смысле, что в силу тех или иных причин она не приводит к формированию НЛ. Личность не развивается – или даже эволюционирует в пагубном направлении.
Вот какие девиации Любви я имею в виду.
Во-первых, это так называемая слепая Любовь, то есть неумение видеть партнера таким, каков он есть на самом деле. Привязанности подобного рода, сильные и искренние, нередко завершаются печально. В какой-то момент оказывается, что Любимый – вовсе не тот, кем его считал Любящий, и заканчивается такая связь разбитым сердцем, а то и чем-нибудь еще более трагическим. Виноват при этом бывает Любящий, поскольку стал жертвой собственной слепоты, не сумел или даже не пытался понять Любимого, выдумал себе некий не соответствующий действительности образ.
Классический пример слепой Любви – история Отелло и Дездемоны. Безусловно обоими владел обоюдоудовлетворяющий внутренний Голод: битый жизнью, преодолевший множество суровых испытаний мавр нуждался в сострадательной и преданной спутнице; романтической девушке был необходим тот, к кому она могла бы относиться с восхищением и эмпатией, ощущая при этом свою для него полезность. В общем, она его «за муки полюбила», а он ее – «за состраданье к ним».
При этом оба совершенно не понимают душевное устройство друг друга. Дездемона выдумывает себе некоего идеального героя: «Я отдала себя стремленьям мужа. Сквозь лик сияла мне его душа. Я подвигам и доблести его свое все будущее посвятила». Живого человека, одолеваемого комплексами, подозрительностью, мучительной неуверенностью в себе она не видит. «Муж мой благороден и духом чист, не даст себя унизить до ревности», – заявляет она, уже находясь на краю гибели.
Точно так же не понимает Любимую и неистовый Отелло – до такой степени, что с легкостью верит в коварство и развращенность той, в ком эти пороки начисто отсутствуют. Чем заканчивается Любовь двух слепцов, известно.
Историю с не менее трагической развязкой, притом взятую из жизни и произошедшую совсем недавно, под большим секретом рассказывал мне знакомый, врач-психотерапевт, которого глубоко впечатлило это событие. Он пользует одну пациентку, которая почти двадцать лет состояла в браке, по внешней видимости очень счастливом. Ее муж работал в госбезопасности. Женщина очень гордилась и его службой, и им самим. Никогда не задавала вопросов, поскольку знала, что это не положено, но часто рассказывала подругам, как сильно он выматывается и как себя не щадит, защищая Родину от шпионов и врагов народа. Во время кампании по очистке органов от сотрудников, связанных с бывшим министром Абакумовым, муж пришел домой бледный и потерянный. Сказал, что его начальник арестован и что, по видимости, такая же участь ждет всех ближайших сотрудников генерала. Наверху принято решение осудить прежнюю методику ведения допросов, понадобились козлы отпущения. И оказалось, что все эти годы муж; работал костоломом, выбивая из арестованных нужные показания. Женщина пришла в ужас. Ее реакция, в свою очередь, потрясла мужа. Он был уверен, что она все знает и понимает, просто помалкивает о том, о чем нельзя говорить. В страшную минуту своей жизни он обратился за сочувствием и поддержкой к единственному близкому человеку – жене, с которой всегда был нежен и заботлив (палач часто бывает прекрасным семьянином), а она от него отшатнулась. В ту же ночь этот человек застрелился, а женщина оказалась в лечебнице с тяжелым психическим расстройством.
Однако слепота, в конце концов, – инвалидство и потому достойна сочувствия. Этого не скажешь о Любви с закрытыми глазами, когда люди намеренно отказываются видеть партнера, сознательно пестуя некий образ, способный утолить их Голод.
Кому-то непременно нужно, чтобы Любимый представлял собой «тайну» – иначе Голод не насытится. Понимание равноценно обладанию, а Любящим этого сорта необходимо ощущать себя нищими и тянуться к чему-то недостижимому, ускользающему. При такого рода отношениях страдает обычно «носитель тайны», которому, может быть, вовсе не хочется быть загадочным, а хочется именно понимания и близости.
Совершенно отталкивающей кажется мне Любовь, которая видит в объекте лишь воплощение своих навязчивых фантазий и упорно отказывается разглядеть за ними живого человека. Это уж голое потребительство. Утоление собственного Голода без намерения «накормить» Любимого.
Любовь, категорически отказывающуюся видеть партнера, ярко описал Достоевский в рассказе «Кроткая», герой которой оказывается мучителем и палачом той, кого так сильно Любит. «Но главное для меня было… в том, что мне всё более и неудержимее хотелось опять лежать у ее ног, и опять целовать, целовать землю, на которой стоят ее ноги, и молиться ей и – «больше я ничего, ничего не спрошу у тебя, – повторял я поминутно, – не отвечай мне ничего, не замечай меня вовсе, и только дай из угла смотреть на тебя, обрати меня в свою вещь, в собачонку…» Она плакала». Закончилось всё, как мы помним, самоубийством измученной героини, которой не была нужна ни «вещь», ни «собачонка», а требовались просто понимание и сострадание.
Пожалуй, самый распространенный тип «неправильных» отношений – неравноправная Любовь. Ситуация эта настолько тривиальна, что сформировалось расхожее суждение, гласящее: в паре всегда один Любит, а другой позволяет себя Любить. В терминологии Владимира Соловьева это называется «восходящей» и «нисходящей» Любовью.
Пара, у которой взаимозависимость построена по этому принципу, никогда не выйдет на уровень НЛ. Взаимный Голод здесь, очевидно, удовлетворяется, но нового качества не возникает, каждый из партнеров «остается при своем».
Должно быть, очень удобно и приятно иметь такую жену, как Оленька из чеховского рассказа «Душечка». Чехов пишет про нее: «Какие мысли были у мужа, такие и у нее. Если он думал, что в комнате жарко или что дела теперь стали тихие, то так думала и она». Но этот тип Любви (можно его еще назвать идолизирующим) ничем не обогащает ее объект и никак не способствует его развитию. Самого же Любящего растворение в личности Любимого деперсонифицирует, превращает в тень.
Конечно, в паре всегда есть неравенство, но оно должно носить временный характер. Кто-то из партнеров сильнее, опытнее, талантливее в чем-то одном; второй – в чем-то другом. «Восходящая» и «нисходящая» роли должны меняться, только тогда симбиоз станет плодотворным.
Почти столь же часто – у прочных, давно сложившихся пар – наблюдается еще одна разновидность «неправильной» Любви, про которую говорят «стерпится – слюбится». Большинство т. н. благополучных семей сформировались подобным образом: благодаря долгой привычке, взаимной способности к компромиссу, долгу перед детьми или же каким-то общественным обязательствам. По сути дела, это всё тот же филос, воспетый еще мыслителями античности. Такой союз строится на здравом смысле, терпимости, совместной жизненной истории, конвенциональности.
Сейчас многие говорят и пишут, что «в старые времена», когда браки в основном заключались по сговору между родителями, удачных союзов было больше, чем в двадцатом веке, когда люди женятся по Любви. Объяснение у этого на первый взгляд парадоксального явления очень простое. В тогдашнем обществе супруги изначально были настроены на «стерпится-слюбится» и знали, что придется худо-бедно полюбить партнера, иначе жизнь превратится в ад. С точки зрения «теории Голода», стартовой установкой такой женитьбы был принцип «ешь что дают». Приходилось привыкать, и многим это даже удавалось из-за отсутствия какой-либо альтернативы. У Пушкина сказано: «Привычка свыше нам дана, замена счастию она», – и ключевое слово здесь «замена».
Удачный брак этого типа становится результатом взаимных жертв и компромиссов. Каждый остается наедине с собственным Голодом, но приспосабливается к нему. Смерть одного из партнеров, конечно, становится для второго потрясением, но не роковой трагедией. Ведь никакого симбиотического «сверх-я» не возникло, а стало быть, оно и не разрушилось. Вдова или вдовец продолжает жить, сохранив свою цельность.
Редко встречающаяся, но феноменологически интересная разновидность «неправильной» Любви – это союз двух очень плохих людей, обретших друг в друге гармонию. Назову это явление инфернальной Любовью, поскольку эволюция Любящих направлена не вверх, а вниз, так сказать, в сторону ада. Они словно подгоняют друг друга в этом антиразвитии и создают такое «сверх-я», от которого мир иногда приходит в содрогание.
Пары этого рода весьма немногочисленны (и слава богу), потому что плохой человек, как правило, по своему психоэмоциональному устройству неспособен Любить кого-либо кроме самого себя.
Ведь что такое «плохой человек» с объективной точки зрения? Мне представляется, что степень «плохости» или «хорошести» определятся очень простым параметром. Чем индивидуум эгоистичнее, тем он ниже качеством. И наоборот, чем он альтруистичнее, тем лучше. Совсем плохой человек все без исключения поступки совершает по одному-единственному принципу: хорошо только то, что хорошо лично для меня. Казалось бы, подобному складу личности Любовь совершенно противопоказана, поскольку ее не бывает без хотя бы минимальной доли жертвенности. И тем не менее аномалии этого рода случаются. Находятся чрезвычайно скверные люди, которые живут душа в душу, преданы друг другу и в результате создают довольно эффективного андрогина, способного причинить немало зла окружающим. Каждый из членов этой пары по отдельности был бы гораздо менее опасен.
Помню, лет двадцать назад, будучи в заграничной командировке (тогда такие вещи еще случались), я с интересом читал новости о двух американских разбойниках, мужчине по имени Клайд Барроу и женщине, которую звали Бонни Паркер. Это была мировая сенсация. Сейчас мне забылись подробности, а освежить их негде, однако я хорошо запомнил общую канву событий.
И он и она были существами асоциальными, но до тех пор, пока не нашли друг друга, совершали лишь какие-то мелкие правонарушения, потому что Барроу был туповат, а Паркер в силу своего пола не могла прибегать к насилию. Вместе же они создали по-настоящему опасную шайку. Женщина планировала преступления, а мужчина ловко управлялся с оружием, со временем обучив этому убийственному искусству и свою подругу. Они совершили множество дерзких и кровавых злодеяний. В конце концов полиции пришлось обоих застрелить, потому что арестовать их было нельзя без риска серьезных потерь.
При том что оба были несомненными злодеями и, судя по легкости, с которой они отбирали чужие жизни, даже чудовищами, Клайд и Бонни очень Любили друг друга. Это была в буквальном смысле «Любовь до гроба». Сколько я помню, женщина даже оставила поэму об их Любви, наполненную обычной для такой среды блатной романтикой, и все же по-своему сильную и искреннюю. Дословно я процитировать не смогу, однако в последней строфе там говорилось о твердом намерении не расставаться ни в смерти, ни после смерти – а таким языком безусловно говорит Любовь. Только в этом случае она не возвысила и не спасла Любящих, а наоборот, ускорила их падение и гибель.
Эта грустная история подводит меня к еще одному виду «неправильной» Любви – столь непростому и многосоставному, что будет уместно выделить его в отдельную главу.
«Что касается любви, – пишет Монтень, – то она породила больше недугов, чем остальные страсти вместе взятые, и перечислить их нет возможности». И это действительно так. Мы знаем, что Любовь может приводить не только к возвышению личности, но и к ее деградации; не только оздоровлять душу, но и вызывать душевную болезнь; не только спасти, но и погубить. И речь идет не о Любви злодеев и социопатов вроде американской гангстерской парочки, а о людях психически и этически нормальных, притом еще и способных на большое чувство. Ситуации, в которых Любовь оказывается негативной или даже разрушительной силой, возникают сплошь и рядом, так что мотив cherchez la femme стал одной из первых версий, которые расследует полиция или милиция при убийствах.
Разумеется, криминальная драма все же случай экстраординарный, но патологические или деструктивные изменения личности под воздействием «неправильной» Любви – явление настолько тривиальное, что мы этому не удивляемся, а лишь печалимся.
Человечеству давно известно, что Любовь опасна. Поэты Древнего Рима вообще не видели в этом чувстве ничего хорошего и считали всякую сильную Любовь недугом, которого следует остерегаться. «Любовная напасть приводит к тому, что лучшие годы жизни тратятся на праздность и беспутство», – поучает Лукреций в «Природе вещей».
Почти два тысячелетия спустя Стендаль со свойственной его эпохе декоративностью уподобляет Любовь восхитительному цветку, растущему на краю страшной пропасти. Я бы скорректировал эту романтическую метафору. Чаще всего «цветок» растет на краю не пропасти, а ямы, куда очень легко скатиться, – разбиться не разобьешься, но исцарапаешься, перепачкаешься, и выбраться обратно будет непросто.
Угрозы, которые таит в себе Любовь, очевидны.
Во-первых, душа становится незащищенной и уязвимой. Ее легко можно ранить или покалечить.
Во-вторых, ради Любимого приходится идти на компромиссы, менять себя, а иногда и ломать. Эти жертвы не всегда благотворны.
В-третьих, Любящий часто путает самоотвержение во имя Любви с добровольным унижением, а любое унижение вредно для человеческого достоинства и девальвирует качество личности. (Допускаю, что у меня на сей счет, как теперь говорят, «пунктик», и всё же буду настаивать: Любовь, унижающая кого-то из партнеров, болезненна и разрушительна.)
Наконец, Любовь заставляет совершать рискованные поступки, что само по себе опасно. Жизнетворящий инстинкт Эрос может оказаться сильней инстинкта самосохранения и парадоксальным образом обратиться в Танатос. Влюбленной паре приходится преодолевать разнообразные преграды, и чем эмоциональнее или смелее натура, тем выше уровень риска, на который человек готов идти ради Любви. (Я уж не говорю о том, что неразделенная Любовь – самый распространенный мотив суицида у молодежи, в особенности женского пола.)
Вот несколько типических болезней, в которые может превратиться Любовь, когда она развивается в патологическом направлении. Некоторые из этих заболеваний чреваты летальным исходом, некоторые просто мучительны, но общей чертой является регресс личности, ее отрицательная эволюция.
Преступная Любовь. Я имею в виду преступность не только в сугубо юридическом смысле, но и шире – как всякое подлое, жестокое или вероломное поведение, приносящее зло другим людям. Большинство Любовных коллизий не обходится без драм, потому что разрываются какие-то прежние привязанности, кого-то бросают, кому-то изменяют, а в случае развода остаются брошенные супруги с разбитым сердцем и психически травмированные дети. Ничего не поделаешь, Любовь эгоистична, и твое счастье нередко оплачивается чужим несчастьем. Но здесь всё дело в мере, в этической грани, за которой предосудительный поступок перерастает в нечто, пагубное для души.
На Любви, которая влечет за собой очевидное уголовное преступление, подробно останавливаться не буду. История криминалистики и художественная литература изобилуют сюжетами об умерщвленных мужьях и женах, которым не повезло оказаться помехой на дороге страстной Любви. С этой темой всё ясно: есть преступление и есть наказание, предусмотренное законом.
Сложнее с той Любовью, которая побуждает человека совершать вещи, чудовищные с этической точки зрения – в том числе противоречащие всем его убеждениям и принципам. Отец однажды рассказал мне случай из своей студенческой молодости, пришедшейся на годы реакции после убийства народовольцами Александра II. В университете был революционный кружок, в котором отец не состоял, однако знал многих членов этой подпольной организации. Там была пара, связанная глубокой Любовью. И вот их обоих арестовали. Молодой человек был болен чахоткой. В сыром каземате ему стало совсем худо. Тогда Охранка предложила сделку девушке: она выдаст всех членов кружка, а за это ее вместе с Любимым выпустят и даже позволят уехать за границу, где его, может быть, вылечат. Девушка колебалась недолго. Она спасла того, кого Любила, и увезла в Швейцарию, где он действительно стал поправляться. В эмигрантской среде пару подвергли бойкоту и остракизму, зная, что взамен этих двоих в каземате, а затем на сибирской каторге оказались почти два десятка их товарищей. Отец, человек мудрый и снисходительный к человеческим слабостям, рассказывал мне эту жуткую историю не с осуждением, а с печалью. Я же, помнится, клокотал от негодования, не зная, что многим из моего поколения предстоит делать ужасный нравственный выбор в еще более жестоких условиях.
Вскоре после войны я прочитал в газете отчет о судебном процессе над бывшим белорусским подпольщиком. Во время войны он совершил точно такое же предательство, только в обстановке совсем уж кошмарной: гестаповцы при нем истязали его возлюбленную, и он не выдержал. Впрочем, в данном случае преступление этическое одновременно стало и преступлением государственным – за такую Любовь подсудимому был вынесен суровый приговор.
Однако много гнуснее случай, произошедший в конце тридцатых годов в нашей клинике, хотя ни обществом, ни Фемидой он заклеймен не был. Арестовали, а затем и расстреляли главного врача, по «вредительской» статье. Жена отказалась от него еще во время процесса, что тогда было в порядке вещей и никого не удивило. Однако очень скоро эта женщина вышла замуж за молодого ординатора, и поползли слухи, к сожалению, сопровождаемые достоверными подробностями, что донос написала она – желала освободиться для новой Любви. Дело в том, что ее муж; обладал весьма тяжелым, конфликтным характером и на развод никогда бы не согласился, а женщине хотелось быстрее соединиться с Любимым. Пара молодоженов светилась блаженством, а все смотрели на них и думали, что это счастье зиждется на мерзости, однако виду не подавали, и, разумеется, никто не посмел бы даже шепотом назвать этот поступок преступлением. Впоследствии супруги уехали в другой город. Я не знаю, что с ними сталось потом, однако не могу представить, чтобы на подобном фундаменте могло построиться нечто завидное.
Любовь-обсессия. Это тот вид Любви, когда она заслоняет все прочие стороны жизни. Партнеры погружены только в собственные переживания, всецело поглощены друг другом, не интересуются окружающим миром – существуют отдельно от него. Такая пара представляет собой замкнутую систему, пожирающую без остатка все топливо, которое она производит. Любящие часто даже не заводят детей – они не нужны, они могут стать помехой. Никто не смеет вторгаться в эту вселенную на двоих.
Конечно, это всегда очень сильная Любовь, и склонность к ней испытывают люди мономаниакального склада. Собственно, эта Любовь, как любая обсессия, и является маниакальным состоянием.
Владимир Соловьев в «Смысле любви» пишет, что чрезмерно сильная Любовь почти всегда бывает несчастной. Что ж, всякая чрезмерность – это перекос и пережим; она патогенна и может перерасти в болезнь, в данном случае психическую. Стендаль приводит отрывок из письма барышни, ставшей жертвой подобного чувства (и впоследствии наложившей на себя руки): «С этой минуты он стал владыкой моего сердца и меня самой, и притом до такой степени, что это привело бы меня в ужас, если бы счастье видеть Германа оставило мне время для размышлений обо всем остальном в жизни». В том-то и беда: у Любви-обсессии не остается ни времени, ни сил «для размышлений обо всем остальном в жизни».
Это нездоровое состояние очень романтизировано художественной литературой, а теперь еще и кинематографом, поскольку сильные страсти импозантно смотрятся со стороны, однако на самом деле речь идет о серьезной экзистенциальной дисфункции.
Самый яркий, соблазнительно звучащий панегирик в честь Любви, изолированной от мира, я прочитал в одном романе, который мне тайком дали знакомые в машинописной копии. Это сочинение когда-то популярного, а ныне почти совершенно забытого прозаика и драматурга Михаила Булгакова. К огромному сожалению, вещь не может быть издана в нашей стране по идеологическим причинам, хотя она сильнее всех опубликованных книг этого автора. В романе описана Любовь между мужчиной и женщиной – такая мощная, что они забывают обо всем на свете, даже не помнят имен своих прежних супругов и в конце концов вместе уходят из жизни. Но попадают не в Небытие, а в тот мир, который более всего соответствует их Любви: в некий вечный дом, тихое пристанище, где никого кроме них нет и никогда не будет. Туда могут зайти на огонек какие-то друзья, но они необязательны и не нужны. Любящим совершенно достаточно друг друга.
Образ «вечного дома на двоих» безусловно красив, но эта красота обманчива. Человеку мало Любви ради Любви, он не может замереть в остановившемся счастливом мгновении, как муха в янтаре. Нужно развиваться, становиться лучше – и менять жизнь к лучшему. Иначе существование пустоцветно и бессмысленно. Правда, герой Булгакова написал гениальный роман, но это-то как раз произошло в прежней, настоящей жизни. Не похоже, что в своей волшебной изоляции он напишет что-то еще. Да и для кого? Для одной Маргариты (так зовут героиню)? Но ей нужно не творчество Любимого – лишь он сам.
Конечно, мечтать о таком счастье мог только очень усталый, затравленный невзгодами человек, каким, вероятно, ощущал себя автор, чья жизнь пришлась на очень тяжелые для всех нас времена. Пожалуй, эта мечта сродни моей собственной зависти к тихому франкфуртскому существованию Шопенгауэра. Тот же искейпизм, бегство от жизни, но только вдвоем.
Еще есть две родственные, хоть и противоположные по эмоциональному градусу мучительные девиации, которые можно назвать «садистской» Любовью и «мазохистской» Любовью. С точки зрения «теории Голода» идеальной парой являются натура «садистского» типа и натура «мазохистского» типа, так как они взаимно удовлетворяют внутренние запросы друг друга. Должен оговорить, что меня несколько коробят эти термины, ассоциирующиеся прежде всего с половым извращением, хотя на самом деле я имею в виду нечто совсем иное, просто не сумел подобрать удачного обозначения, вот и не придумал ничего лучше, как ограничиться введением кавычек. Поэтому все-таки поясню.
Под человеком «садистского» склада я имею в виду личность активную, деятельную, навязывающую себя окружающему миру, пытающуюся его преобразовать – уж к добру или к худу, зависит от того, хорош или плох сам «садист». К этому типу принадлежат революционеры, первооткрыватели, реформаторы, равно как и тираны, завоеватели, кровавые преступники. (Если говорить о моей профессии, то я заметил, что медики подобного психологического склада чаще всего встречаются в хирургии, причем истинно выдающиеся операционисты таковы практически без исключения.)
«Мазохист» имеет природную склонность приноравливаться к обстоятельствам, а не менять их. Среди лучших образцов этой человеческой разновидности можно встретить христианских мучеников-непротивленцев, альтруистов, пацифистов. Среди худших – трусов, предателей, патологических бездельников.
В Любовном отношении «садист» энергично добивается взаимности, а не получив ее, теряет интерес к объекту. «Мазохист» же скорее будет вздыхать на расстоянии и мучиться от неразделенной Любви, ибо само это страдание способно стать утолением его Голода.
Теперь, сделав необходимое разъяснение терминологии, перейду к описанию двух этих Любовных «болезней», каждая из которых является формой взаимоистязательства.
«Садистская» Любовь возникает, когда вследствие тех или иных обстоятельств сходятся два человека этого разряда. На первый взгляд может показаться, что такая коллизия противоречит «теории Голода», но на самом деле это не так. Внутренний Голод – фактор гораздо более сложный, чем стремление пассивной натуры к активной и наоборот; он может объясняться тысячью иных мотивов, спрятанных в глубинах подсознания.
Так или иначе, подобные союзы возникают и относятся к числу самых страстных. Обиходное название взрывных отношений данного рода – «любовь-ненависть». В жизни этот феномен наблюдается у пар, которые без конца ссорятся и мирятся, скандалят и потом кидаются друг другу в объятья, время от времени шумно расстаются, однако, к изумлению окружающих, всякий раз снова сходятся. Это несомненно Любовь, и пламенная, но ее огонь не несет ничего кроме нервического истощения.
Бурные, мелодраматические отношения двух «садистов» являются одной из самых благодарных тем для художественной литературы. Такая Любовь, например, связывает Настасью Филипповну и Рогожина в романе «Идиот». Трудно сказать, чего в этих болезненных отношениях больше – Любви или ненависти, однако «садистский» накал несомненен и в конце концов приводит обоих персонажей к трагическому финалу.
«Мазохистская» Любовь – явление совсем не живописное и потому в жизни встречается много чаще, чем в книгах. Когда соединяются два пассивных человека, притом оба любители пострадать, возникает чрезвычайно депрессивная, безысходная ситуация, наблюдать за которой со стороны бывает тоскливо и скучно.
У такой пары непременно находятся очень тяжелые обстоятельства, мешающие их счастью. Это не Любовь, а какой-то нескончаемый марш через топкое болото, сопровождаемый горькими вздохами и рыданиями. Очень часто «мазохистская» Любовь так и остается незавершившейся, ибо у партнеров не хватает смелости, решимости, жизненной силы одолеть реальные или ими самими придуманные преграды.
Классический пример такой унылой Любви дает Чехов в пьесе «Три сестры», сводя Машу с Вершининым. Объективное препятствие заключается в том, что оба женаты. Субъективное – в «вечнострадательном» устройстве Любящих.
Машу выдали замуж восемнадцатилетней, она так и не полюбила своего супруга, томится и его обществом, и средой, в которой существует, однако не предпринимает никаких попыток освободиться, а только вздыхает, что жизнь скучна, да повторяет всегдашний аргумент безволия: «Значит, судьба моя такая».
Еще более жалок подполковник Вершинин, человек зрелый и к тому же вроде бы принадлежащий к «садистской» военной профессии. Он беспрестанно рассуждает о том, какой прекрасной и изумительной будет жизнь через двести лет, так что с третьего раза это уже начинает вызвать смех, да жалуется на мучающую его жену. Даже поручик Тузенбах, обычный для Чехова вяло-положительный, обреченный персонаж, и тот знает, что нужно сделать: «Я бы давно ушел от такой, но он терпит и только жалуется». Настоящим манифестом экзистенциального «мазохизма» звучат слова Вершинина: «И как бы мне хотелось доказать вам, что счастья нет, не должно быть и не будет для нас… Мы должны только работать и работать, а счастье это удел наших далеких потомков…» Их с Машей роман мучителен, вял, тянется годами и обрывается разлукой, которая воспринимается обоими как фатум, а мною как читателем даже с облегчением.
Дело в том, что Любить нельзя с причитаниями и тоскливым кряхтением. Любовь не ноша и не крест, она – счастье, дар судьбы. Конечно, у этой розы есть шипы, о которые больно колешься, и все же она – Роза.
Я уверен, что человек, который не осмеливается бороться за счастье, неспособен к Настоящей Любви и никогда ее не достигнет.
Самоубийственная Любовь. Это малораспространенный, но, по несчастью, соблазнительно поэтизированный вид болезненной Любви, возводящий ее до уровня культа, Высшего Существа, на алтарь которого можно принести и собственную жизнь. Искусство всячески воспевает подлинные и вымышленные истории о двойном самоубийстве влюбленных, для которых жизнь друг без друга лишалась всякой ценности.
«Одна судьба у наших двух сердец: замрет мое – и твоему конец!» – сказано в шекспировском сонете, и эта идея тысячу раз повторена в других стихах, так что превратилась для влюбленных в род священной мантры.
Если в западной традиции это всё же скорее поэтическая гипербола и трагические развязки в духе Ромео и Джульетты встречаются редко, то в Японии, как я читал, они довольно обыкновенны и возведены в ранг наивысшего проявления Любви. Там существует целая библиотека классических литературных произведений, воспевающих «самоубийство по сговору». Буддистам роковое решение дается легче, ибо они верят в перерождение душ, и влюбленные покидают эту реальность в надежде, что следующая жизнь будет к ним более добра.
Мотивы двойного самоубийства обычно возвышенны.
Часто это проявление солидарности: один из партнеров смертельно болен или каким-то иным образом находится на пороге неминуемой гибели, и второй отказывается бросать Любимого в беде, уходит вместе с ним.
Иногда самоубийство совершают перед лицом неизбежной и вечной разлуки.
Наконец, известны случаи, когда люди, в особенности совсем молодые, убивали себя, поняв, что в силу каких-то причин они не смогут соединиться.
Должен признаться, что я не без внутреннего протеста причисляю такую Любовь к разряду болезней, поскольку мне драгоценна память моих родителей, ушедших из жизни этим трагическим способом. Однако я полагаю, что истинное назначение Любви – быть не только эйфорическим переживанием или душевной близостью двух «я», но стать катализатором, который делает каждое из них выше и лучше, а не убивает их мощью химической реакции. То, что я называю НЛ и что является Путем, не может вести к добровольному самоистреблению.
Даже будучи обречен на смерть, человек, Любящий по-настоящему, должен самой своей гибелью дать некий импульс, который сделает Любимого сильнее, а не раздавит его и не отберет волю к жизни. Пусть оставшийся живет за двоих. Не ради биологического существования, а ради того, чтобы полностью осуществить свое высокое предназначение (а я уверен, что предназначение всякого без исключения человека – высокое, как бы бездарно или преступно в реальности он ни обошелся со своей жизнью).
Впрочем, проблему Любви как сверхкульта, превосходящего своим значением ценность физического бытия, невозможно рассмотреть в отрыве от темы, которую я затрону в следующей главе.
(Фотоальбом)
Когда Панкрат Евтихьевич был чем недоволен – злился либо не мог решить какую закавыку, он вел авто сам, а Филиппа отправлял назад, чтоб не мешал обзору. На газ товарищ Рогачов жал, как бешеный, на поворотах скорость не сбрасывал, в клаксон дудел резко, будто всех встречных-поперечных матюками обкладывал. Прямо другой человек становился. В жизни-то сдержанный, редко на кого голос повысит, а за рулем проступала настоящая натура.
В такие времена нужно было держать себя тихо, с разговорами не лезть, поэтому Филипп не шевелился, глядел в окно, чтоб случайно не встретиться в зеркале с бешеным рогачовским взглядом.
На Страстной машину остановил постовой, потому что по бульвару, поперек, ехал кавалерийский эскадрон. Постовому, конечно, интересно, кого это в большом черном автомобиле везут. Приблизился, как бы прохаживаясь, покосился на пассажира – не на шофера же. Филипп придал лицу задумчивость, взор обратил как бы ввысь, на голову бронзового поэта Пушкина. И вообразил, будто он – большущий ответ-работник и персональный водитель везет его по важным государственным делам.
А что воображать? Дело действительно огромное, сверхсекретное, и Филипп в нем хоть и не мотор, а всего лишь маленькая шестеренка, но вылети она – и весь механизм зачихает, засбоит.
Ехали они от товарища Мягкова, где проходило экстренное рабочее совещание, по чрезвычайному поводу. Поступил сигнал из политотдела ГПУ: враги готовят контрудар. Чувствуя, что им скоро кирдык, «старая» оппозиция, новая «оппозиция», «рабочая» оппозиция забыли о прежних раздорах, перестали между собой собачиться, объединились. Товарищ Троцкий теперь заодно с товарищами Зиновьевым и Каменевым; к ним примкнули товарищи Шляпников, Радек, Смилга, Крестинский, много других известных всей партии товарищей и даже – вот те на – Надежда Константиновна Крупская, вдова Ильича. У них будет единый блок. Блок – это каменная или бетонная глыба так называется. Вон оно как.
Товарищ Мягков проинформировал товарищей, что, используя недовольство части рабочего класса безработицей и низкой зарплатой, вожди троцкистско-зиновьевского блока собираются выступить с планом коренной перестройки всего социалистического хозяйства. Эта опасная доктрина (проще сказать – идейка) называется «Сверхиндустриализация». Смысл ее в том, чтобы превратить Россию крестьянскую в Россию индустриальную, а для этого нужно заставить мужика из деревни идти в города, на заводы и стройки. Чтоб отошел от мелкособственнической идеологии и превратился в сознательного пролетария. Надо-де форсировать тяжелую промышленность и военное производство. Заодно и всю страну приучить к военной дисциплине.
Не бляхинского ума дело было рассуждать, правильная это доктрина или нет. Но и он, маленький человек, понимал, что затея очень опасная. Потому что наша линия – товарищей Сталина и Бухарина – совсем другая: на врастание крестьянина-середняка в социализм, на развитие сельского хозяйства. Чтоб наконец уже накормить трудовой народ, а то хватит, наголодались. Да что трудовой народ, плевать на него! Беда в том, что рабочим и нижним партийцам троцкистско-зиновьевская идея понравится, а это значит, что наших – и Самого, и товарища Бухарина, и прочих, включая товарища Рогачова – в бараний рог согнут. Власть штука жесткая. Или ты наверху, или ты внизу. Посередке не бывает.
Тревожно было на сегодняшнем совещании в кабинете товарища Мягкова.
– Демагоги! Спекулянты! Заигрывают с рабочим классом! Дешевой популярности ищут! – сердито сказал Панкрат Евтихьевич, и Филя немного расслабился. Это был хороший знак, что товарищ Рогачов перестал злобу внутри держать. Сейчас – известно – начнет говорить, как бы беседуя, а на самом деле для самого себя. Формулирует мысли. Худшая гроза позади.
– Страна-то все равно крестьянская, минимум на четыре пятых! Ну, сгонят они в трудовые лагеря или в заводские казармы десятки миллионов мужиков – и что? Только деревню разорят. А чем новым рабочим будут зарплату платить?
Бляхин помалкивал. Его ответы Панкрату Евтихьевичу не требовались.
– Прав Бухарин. Кого это он сегодня цитировал, Стендаля? «Не малое количество колоссальных состояний образует богатство страны, а множество средних состояний». Нужно делать ставку на середняка – работника, кормильца. Они поднимут страну, выведут из нищеты. Вот тогда будет на что разворачивать масштабную индустриализацию! И НЭП пока тоже отменять нельзя. Кто будет обеспечивать потребление? Государство? Это ж какой обслуживающий аппарат придется создать! Миллионы дармоедов-совслужей, кто ничего не производит, а только планирует и распределяет. Еще и руки, конечно, станут нагревать, как же у нас без этого?
– Это да, – сказал Филипп в паузе, потому что товарищ Рогачов надолго замолчал. – Всякий попользуется, ясно.
Когда через площадь тянулся уже самый хвост эскадрона, то есть минут наверно через пять, Панкрат Евтихьевич снова заговорил, и теперь уже без горячности. Остыл, значит.
– Но ведь и Троцкий, черт его дери, прав. Война с мировым капитализмом обязательно будет. Не оставят они нас в покое. Не дадут спокойно богатеть, мирный социализм строить. А как воевать без тяжелой индустрии, без броневиков, танков, самолетов?
При таком его тоне уже можно было и в разговоре поучаствовать.
Филипп осторожно спросил про главное:
– Вы с Самим говорили. Он-то как?
– Говорил. Изложил ему свои сомнения. – Широкое кожаное рогачовское плечо приподнялось и опустилось. – У него дна песня: на корабле двух капитанов не бывает. Сначала, говорит, нужно крепко руль взять, а там уже будем смотреть, куда ехать и где поворачивать. И в этом он, конечно, прав. Война с буржуазией продолжается, хоть и без выстрелов, а на войне двух командующих быть не должно.






