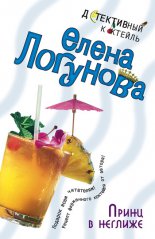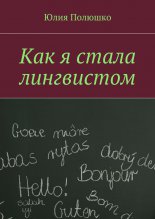Австро-Венгрия: судьба империи Шарый Андрей
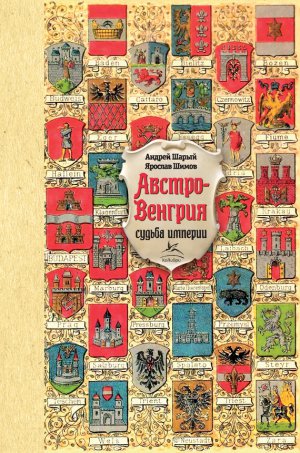
ПОДДАННЫЕ ИМПЕРИИ
ФЕРЕНЦ ДЕАК,
отец дуализма
Ференц Деак (1803–1876) принадлежал к знатной венгерской семье. В молодости занимался адвокатской практикой, получил популярность благодаря сочувствию к неимущим. Депутат венгерского парламента, Деак выступил за радикальные реформы, освободил своих крестьян от крепостных повинностей и стал добровольно платить налоги, считая освобождение дворян от податей несправедливым. Во время революции 1848–1849 годов он, однако, занял умеренную позицию и пытался примирить венгерскую элиту с габсбургским двором. Когда это не удалось, Деак уехал в свое имение и несколько лет воздерживался от участия в политике, что, в частности, позволило ему избежать наказания после разгрома революции. Современники Деака отмечали его аналитический ум, уравновешенность, любовь к компромиссам и некоторую склонность к лени. В 1850-е годы грузная фигура Деака стала символом пассивного сопротивления венгров неоабсолютистскому режиму. В следующем десятилетии он возглавил группу венгерских политиков и юристов, разработавшую проект преобразований, который лег в основу компромисса между Веной и Будапештом. Деак не претендовал на первые роли в политике, уступив пост венгерского премьер-министра Дьюле Андраши. Умеренность, основательность и реформистские взгляды Деака вызывали неудовольствие как консерваторов, так и радикалов, но в то же время снискали ему народное уважение.
Историки до сих пор не пришли к однозначному выводу о том, чем стал компромисс 1867 года для государства Габсбургов – разумной мерой, подарившей монархии почти полвека мирной и довольно благополучной жизни, или же шагом к катастрофе? Вот мнения нескольких авторитетных исследователей. Барбара Джелавич (США): “Ausgleich был огромной победой венгров, хотя и не удовлетворил требования сторонников полной независимости. Преобладание венгерских интересов было особенно очевидным во внешней политике”. Ласло Петер (Венгрия): “Поскольку государь был верховным главнокомандующим армии, которая в правовом смысле оставалась в большинстве случаев вне рамок, очерченных конституцией, Франц Иосиф располагал свободой действий во всех государственных вопросах”. А. Дж. П. Тэйлор (Великобритания): “Монарх отказался от части своих контрольных функций в области текущих внутренних дел, но по-прежнему располагал высшей властью… Многие проблемы, оставшись неразрешенными, давали ему возможности для маневра”. А вот не менее авторитетный голос из прошлого – Лайош Кошут писал из ссылки: “Дело самоопределения Венгрии сильно пострадало из-за ее подключения к внешнеполитическим замыслам, которые могут противоречить национальным интересам и… подтолкнуть страну к конфликту как с мощными державами, защиты от которых искал Деак, так и с соседними народами”.
Проблема, как нам кажется, заключалась скорее не в громоздкой административной схеме дуализма и не в том, что Венгерское королевство получило в рамках Австро-Венгрии широкую автономию, какой у него не было за все время правления Габсбургов. Загвоздка состояла в другом. Ausgleich поставил Венгрию и венгров выше других земель и народов монархии, тоже обладавших древней традицией государственности. Неудивительно, что чешские представители принялись настаивать: император должен короноваться в качестве чешского короля – так же, как он короновался в качестве короля венгерского. В 1871 году стороны едва не пришли к соглашению: венское правительство подготовило проект так называемых “Фундаментальных статей”, согласно которым земли короны святого Вацлава (Богемия, Моравия и чешская часть Силезии) должны были получить автономию, сопоставимую с предоставленной землям короны святого Иштвана, то есть Венгрии. Однако яростное сопротивление венгров (они боялись, что автономии потребуют и подвластные им народы), австрийских и части богемских немцев (опасавшихся усиления чехов) привело к тому, что император дал задний ход. “Фундаментальные статьи” отложили в долгий ящик. Чехи не забыли обиду: именно с 1871 года началось заметное охлаждение чешской элиты (а постепенно и более широких слоев населения) к династии и монархии и отход от принципов австрославизма, пропагандировавшихся Палацким. Дошло даже до того, что группа чешских националистов в знак протеста напечатала текст “Фундаментальных статей” на туалетной бумаге. А Франц Иосиф, как и его преемник Карл, в Праге не короновался.
Плакат просветительского общества Matica slovensk – “Выдающиеся словаки”. Литография Роберта Вейбезагла. Пешт, 1863 год.
“Половины” монархии были устроены по-разному, их правящие круги проводили различную политику. Это имело серьезные последствия, прежде всего в национальном вопросе. Венгерский сейм уже в 1868 году одобрил на первый взгляд весьма демократичный “Закон о правах национальностей”, в котором национальным меньшинствам предоставлялась возможность свободного культурно-языкового развития, но при этом подчеркивалось наличие в Венгрии “единственной политической нации – неделимой венгерской, членами которой являются все граждане страны, к какой бы национальности они ни принадлежали”. На практике это означало мадьяризацию, причем возможность получить образование (кроме начального) на родном языке для словаков, сербов, румын, русинов максимально ограничивалась. На какое-либо восхождение по социальной лестнице подданный апостолического короля мог рассчитывать только при хорошем знании венгерского[25], остававшегося единственным административным языком в Хорватии, Славонии, Воеводине, Словакии, Трансильвании – районах с явным преобладанием немадьярского населения.
ПОДДАННЫЕ ИМПЕРИИ
ИОСИП ШТРОССМАЙЕР,
политик в сутане
Иосип Юрай Штроссмайер (1815–1905) был личностью своеобразной: хорват с немецкими корнями, католик, с уважением относившийся к православию, монархист, которому случалось вызывать недовольство самого императора. Высокообразованный выпускник Венского университета, дважды доктор философии и один раз – теологии, Штроссмайер большую часть жизни провел в провинциальном городке Джаково в Славонии, где служил епископом. С конца 1850-х годов активно участвовал в политической жизни, основал Хорватскую национальную партию. Был одним из идеологов иллиризма – концепции объединения населенных южными славянами (“иллирами”) земель габсбургской монархии под эгидой хорватов. Боролся за единство населенных хорватами территорий Транслейтании и Цислейтании – Славонии, Загорья, Кварнера, Далмации. Выступал за усиление роли славян в Австро-Венгрии. В начале 1880-х годов Штроссмайер ушел из политики. Епископ активно занимался культурно-просветительской деятельностью, основал множество школ и библиотек.
В середине XIX века венгерский был родным или обиходным языком для меньшинства (!) населения королевства – примерно 48 %. К 1910 году вследствие политики мадьяризации этот показатель вырос до 55 %[26]. Тем не менее в некоторых провинциях, прежде всего в Словакии (или Верхней Внгрии, как ее тогда называли), последствия мадьяризаторской политики были налицо.
Число начальных школ с обучением на словацком языке за три десятилетия снизилось в 3,5 раза; из 1664 государственных чиновников, работавших в 1910 году в словацких районах, лишь 24 были словаками, из 750 врачей – только 26.
Камил Владислав Муттих. “Словацкая девушка”. Открытка 1914 года.
К культурно-языковому дисбалансу в королевстве добавлялся и политический. Венгерская политика оставалась прежде всего политикой дворянской. Шляхта гордилась венгерскими вольностями, сравнивала парламентские традиции своей страны с английскими – но старалась не замечать тот факт, что представительские институты Венгерского королевства основывались на вопиющей социальной и национальной несправедливости и дискриминации. В Венгрии сохранялся очень жесткий имущественный ценз, из-за которого на пороге ХХ века избирательным правом в стране обладало менее 7 % населения. После 1907 года, когда в Цислейтании право голоса стало всеобщим, контраст между двумя частями монархии оказался особенно резким. Этнические меньшинства Венгрии (за исключением хорватов) почти не были представлены в парламенте королевства. Участились случаи крестьянских выступлений и забастовок рабочих, возникли социалистические организации, добивавшиеся реформ экономического и политического устройства Венгрии; самые радикальные социалисты мечтали о революции. С другой стороны, усиливалось сопротивление национальных меньшинств. В 1895 году в Будапеште прошел “съезд немадьярских народов Венгрии”, участники которого обратились к правительству с требованием автономии для всех народов Транслейтании. Наконец, брожение затронуло и привилегированные слои, считавшие, что дуализм перестал быть выгодным Венгрии, а Вена во все большей степени вмешивается в дела королевства – особенно в вопросе комплектования армии и распределения финансового бремени.
Эти противоречия проявились во время затяжного политического кризиса 1904–1906 годов, в ходе которого Будапешт стал свидетелем всеобщей забастовки, стотысячных антиправительственных демонстраций, колоссальной драки в парламенте (в зале заседаний пришлось заменить мебель) и падения первого кабинета Иштвана Тисы, прозванного “железным Тисой”. Сын Кальмана Тисы[27] стал последним выдающимся политиком габсбургской Венгрии. Авторитарный государственник, он, однако, не был чужд реформистским идеям в экономике и социальной сфере. Тиса выступал против введения всеобщего избирательного права, считая, что “демагоги сагитируют крестьян, обладающих большинством голосов, и те при поддержке городских интеллектуалов приведут к власти группы, враждебные демократии”. Будущий опыт большевистской революции в Венгрии, как и другие события, например приход нацистов к власти в Германии, показал, что в суждениях “железного графа” имелся свой резон, хотя жесткая защита Тисой консервативных позиций в конечном итоге нанесла Венгрии серьезный урон.
Итогом венгерского кризиса стало заключенное в 1906 году политическое соглашение, которое иногда называют “новым Ausgleich”. Изменив детали государственного устройства, этот договор не затронул основ дуализма. С другой стороны, провалились попытки либеральной части венгерских политиков провести демократизацию. Франц Иосиф фактически обменял сохранение королевских прерогатив на неизменность основ политической системы Венгрии. Это представлялось венгерским консерваторам очень важным: они боялись реформаторских планов наследника престола, эрцгерцога Франца Фердинанда, известного неприязненным отношением к мадьярской элите и стремлением демонтировать дуалистическую схему. “Железный Тиса”, вернувшийся на пост премьера в 1913 году, смог найти общий язык со старым императором-королем, но терпеть не мог наследника; эти чувства были взаимными. Как отмечает биограф эрцгерцога Ян Галандауэр, “Франц Фердинанд ненавидел этих оппозиционных графьев… Император, несомненно, желал сохранить единство страны, армии, внешней политики, но был склонен уступать венгерскому давлению. Он был стар, хотел покоя, да и в конце концов дуалистическое решение было его рук делом. У Франца Фердинанда же складывалось впечатление, что своими уступками ненавистным мадьярам император транжирит предназначенное ему, эрцгерцогу, наследство”.
Возможно, именно поэтому внимание наследника престола привлекла вышедшая в 1906 году книга выходца из Трансильвании румына Аурела Поповича “Соединенные Штаты Великой Австрии”, в которой излагалась концепция федерализации государства Габсбургов на принципах, более справедливых с точки зрения национальных чаяний отдельных народов. Попович предлагал разделить Австро-Венгрию на пятнадцать равноправных автономных образований (штатов) по национально-территориальному принципу: 1) Немецкая Австрия, 2) Крайна, 3) Трентино, 4) Триест, 5) Чехия,6) Немецкая Богемия, 7) Немецкая Моравия, 8) Венгрия, 9) Словакия, 10) Трансильвания, 11) Секейские земли[28], 12) Воеводина, 13) Хорватия и Славония, 14) Западная Галиция, 15) Восточная Галиция. Управлять этой федерацией помимо императора должно было правительство из представителей отдельных штатов. Государственным языком “Соединенных Штатов Великой Австрии” предполагалось сделать немецкий, однако в отдельных штатах широко использовались бы местные языки. Главным проигравшим в результате такой гипотетической реформы стала бы Венгрия, хотя ее границы, предлагавшиеся Поповичем, все равно оказались более широкими, чем те, в рамки которых страну загнали после Первой мировой войны и в которых, с незначительными изменениями, она существует по сей день.
ПОДДАННЫЕ ИМПЕРИИ
ИВАН ФРАНКО,
поэт-революционер
Иван Франко – поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературовед, журналист, историк, этнограф, экономист, общественный деятель. Владел несколькими языками, переводил с четырнадцати языков. Родился в 1856 году в семье деревенского кузнеца. Закончил гимназию в Дрогобыче, учился в Черновицком, а затем в Венском университетах, защитил диссертацию по философии. В молодости в качестве литературного языка пользовался язычием – языком на основе украинской и русинской лексики с применением церковнославянской словообразовательной модели. В политических убеждениях Франко сочетались украинский национализм и социализм, поначалу радикальный. Императорская полиция несколько раз арестовывала молодого поэта за социалистическую агитацию. В последние годы жизни Франко осудил марксистское учение, но с консервативной частью украинского национального движения по-прежнему враждовал. Франко был одним из основателей Русско-украинской радикальной партии (1890) и Национально-демократической партии (1899); трижды баллотировался в депутаты рейхсрата и сейма Галиции, но неудачно. До 1906 года оставался одним из редакторов выходившего во Львове-Лемберге “Литературно-научного вестника”. Франко был известен и за пределами Галиции, много публиковался в периодических изданиях Вены и Кракова. Его статья в венском журнале Die Zeit в 1897 году вызвала скандал: Франко нелицеприятно отозвался о классике польской литературы Адаме Мицкевиче, назвав его “поэтом измены”. Выступал за развитие самосознания украинцев, живущих как в Австро-Венгрии, так и в России, за отказ от использования самоназвания “русины”: “Мы должны научиться чувствовать себя украинцами – не галицкими, не буковинскими, а украинцами без социальных границ”. Писатель скончался в 1916 году во Львове. Полное собрание сочинений Франко – от поэм (“Смерть Каина”, “Моисей”) и пьес (“Украденное счастье”) до повестей (“Борислав смеется”, “Захар Беркут”), сказок (“Красная лиса”) и романов (“Перепутья”, “Лель и Полель”) – включает в себя почти 150 томов. В советское время в украинском литературном пантеоне Ивану Франко отводилось второе по значимости место после Тараса Шевченко. В 1962 году город Станислав – в год его трехсотлетнего юбилея – переименовали в Ивано-Франковск.
Так далеко, как предлагал Попович, Франц Фердинанд заходить не хотел, но федералистский проект оказал на него заметное влияние. В 1910–1911 годах в окружении наследника разработали проект политических реформ, которые предполагалось осуществить сразу по восшествии на престол Франца II (это имя намеревался принять Франц Фердинанд в качестве императора). Краеугольным камнем преобразований должно было стать введение в Венгрии всеобщего избирательного права. По замыслу реформаторов, это привело бы к появлению в парламенте Венгерского королевства по меньшей мере двухсот депутатов, представляющих национальные меньшинства, и тем самым – к резкому сужению политической базы мадьярского дворянства. Франц Фердинанд не был демократом, резкое расширение электората ему потребовалось, чтобы отказаться от ненавистного Ausgleich. Новый парламент, по мнению престолонаследника, мог бы заняться устранением старой системы органов венгерского местного самоуправления (комитатов), служивших опорой политической власти шляхты, реализацией требований национально-культурной автономии для этнических меньшинств, унификацией в армии и так далее.
Разработчики проекта, однако, не исключали возможности сопротивления со стороны националистически настроенной части венгерского общества, прежде всего дворянства. В таком случае, в полном соответствии с представлениями Франца Фердинанда об армии как опоре трона, предполагалось использование военной силы. Программа действий будущего Франца II предполагала два по сути противоположных варианта действий: конституционно-демократический (преобразование Венгрии путем либерализации ее политической системы) и авторитарно-силовой (фактическое повторение 1849 года, когда была подавлена венгерская революция). Из-за гибели наследника престола в 1914 году эти замыслы не были реализованы, но само существование проектов Франца Фердинанда говорит о том, что многие в Вене отдавали себе отчет: потенциал дуализма исчерпан, новые времена требуют более демократичных схем устройства многонациональной империи. В правящих кругах Будапешта этого не понимал почти никто, и после 1918 года Венгрии предстояло заплатить за такое непонимание высокую цену.
Впрочем, проблемы межнациональных отношений в габсбургском государстве не ограничивались одной лишь Венгрией. В Цислейтании хватало своих, не менее острых конфликтов. Народы западной части империи были равны, статья 19 императорского Основного закона, принятого в 1867году, гласила: “Все народности империи обладают равными правами… Равенство всех общеупотребимых на данной территории языков в школах, административных учреждениях и общественной жизни признается государством. На территориях, где проживает несколько народностей, общественные институты и образовательные учреждения должны быть организованы так, чтобы каждая из народностей имела возможность получать образование на родном языке”. На практике реализация этого закона – а габсбургская администрация в большинстве случаев честно стремилась выполнять указания императора – сталкивалась с серьезными проблемами. Если самосознание так называемых исторических народов – австрийских немцев и галицийских поляков (равно как венгров и хорватов в Транслейтании) – опиралось на традиции древней государственности, то формирующиеся нации (словенцы, словаки, румыны, украинцы)[29] такого опыта были лишены, их национальные элиты поначалу представляли собой лишь немногочисленные кружки разночинной интеллигенции. С тем большим рвением отстаивали эти народы свои права и протестовали против истинных или мнимых притеснений со стороны как имперской администрации, так и (главным образом) представителей “исторических” народов. Наиболее выразительным из таких конфликтов – и потенциально губительным для монархии – оказалось противостояние чехов и богемских и моравских (позднее неточно названных судетскими)[30] немцев.
Юлиуш Коссак. “Император на балу в ратуше города Львова”. 1881 год.
Этническая карта монархии была чрезвычайно пестрой, причем во многих районах можно говорить о чересполосице – расселении разных народов вперемешку; четкие границы между областями обитания того или иного этноса часто невозможно было провести. Таких районов особенно много в чешских землях, где “перемешанными” оказались чехи и немцы; в Галиции с ее польским, украинским и еврейским населением; в Буковине, которая по этнической пестроте вообще представляла собой габсбургскую монархию в миниатюре: здесь вместе жили украинцы, поляки, румыны, немцы, евреи, русины… Характерно, что именно в Буковине габсбургская администрация ближе всего подошла к созданию эффективной модели многонационального общества, обеспечив всем основным национальностям пропорциональное представительство в местных выборных учреждениях.
ПОДДАННЫЕ ИМПЕРИИ
ТЕОДОР ГЕРЦЛЬ,
сионист
Родился в 1860 году в Пеште в богатой, не слишком религиозной еврейской немецкоязычной семье. Вскоре отец Герцля потерял свое состояние. После переезда обедневшей семьи в Вену в 1878 году Теодор поступил на юридический факультет университета. Недолго поработав в судах Вены и Зальцбурга, занялся журналистской и литературной деятельностью. Написал несколько пьес и рассказов, получил известность как автор газетных фельетонов. Активно продвигал идею ассимиляции австро-венгерского еврейства путем соглашения с Ватиканом: политическое и социальное равенство в обмен на обращение в христианство. Брак Герцля с дочерью богатого еврея-промышленника Юлией Нашауэр оказался несчастливым – из-за социального неравенства, несовпадения политических взглядов, но еще и потому, что Юлия страдала психическим расстройством. В 1891–1895 годах Герцль работал корреспондентом газеты Neue Freie Presse в Париже. В этот период он сформулировал идею образования еврейского государства. Сионизм (термин введен в обращение ранним идеологом еврейского движения, тоже австро-венгерским подданным, Натаном Бирнбаумом) в опубликованной в 1896 году в Вене книге “Еврейское государство” Герцль определил как национальное движение, созданное с целью возрождения еврейского народа на его исторической родине. В 1897 году на Всемирном сионистском конгрессе в Базеле, проведенном на средства жены Герцля, он был избран президентом Всемирной сионистской организации. В 1899 году создал Еврейское колонизационное общество с целью закупки земель в Палестине. В опубликованном в 1900 году утопическом романе “Старая новая земля” нарисовал картину идеального еврейского государства. В 1904 году Герцль скончался в городе Эдлах от болезни сердца, вызванной переутомлением. Жена пережила его на три года. Старшая дочь Герцля Паулина в 1930 году совершила самоубийство (по другой версии – умерла от передозировки наркотиков), в день похорон на ее могиле застрелился сын Герцля Ханс (он не разделял идеи отца и принял христианство). Младшая дочь Герцля Маргарет умерла в концлагере Терезин в 1943 году. Ее сын Стефан, убежденный сионист, воевал в годы Второй мировой войны в британской армии, а в 1946 году в состоянии депрессии бросился с моста в Вашингтоне. Останки Теодора Герцля и его родителей в 1946 году перезахоронены в Иерусалиме.
Другим примером такой модели стал “моравский компромисс” 1905 года, согласно которому область поделили на районы, официальным языком в каждом из которых становился язык большинства, чешский или немецкий. Каждый взрослый обитатель Моравии регистрировался по месту жительства в соответствии с национальной принадлежностью. Таким образом, национальность, по выражению А. Дж. П. Тэйлора, “низводилась… до уровня некой личной характеристики – такой же, как, например, цвет волос”, что должно было способствовать снижению межнациональной напряженности. Однако, как отмечает другой видный исследователь, Роберт Канн, “хотя персональный подход к решению национального вопроса и был более тонким, чем национально-территориальная автономия, в долгосрочной перспективе он не мог стать способом достижения справедливости в отношениях между народами. Он имел слишком мало общего с национально-государственным самоопределением, о котором мечтали националисты”.
Евреи в Вене. Фото 1915 года.
Особое положение в обеих частях габсбургской монархии занимали евреи. При Иосифе II евреям (прежде всего крещеным) предоставили большую часть гражданских прав. После 1867 года евреи были окончательно уравнены с остальными подданными. Значительная часть этого меньшинства успешно ассимилировалась: многие уже считали себя не евреями, а немцами или венграми. Стремясь стать полноправными подданными монархии, евреи, как правило, “примыкали” к одной из двух наций, располагавших наибольшим политическим влиянием. Однако и здесь возникали противоречия. Как отмечает франко-венгерский историк Франсуа Фейтё, “принятие немецкого языка и культуры было, возможно, само собой разумеющимся в Австрии или Германии, но в Чехии, Венгрии и Галиции оно принимало иной смысл. Евреи, решившиеся на такой шаг, представлялись естественными союзниками немцев против чехов, венгров, поляков. Так же обстояло дело с евреями, которые перенимали венгерскую культуру в Словакии, Трансильвании, Хорватии или Далмации: они делали это как бы против румынского, хорватского и т. п. большинства”.
Для многих венгров и австро-немцев ассимилировавшиеся евреи не стали “своими”, многовековые предрассудки так просто не исчезают. Даже многочисленные венские или будапештские евреи – ремесленники, учителя, врачи, адвокаты, актеры, журналисты, – чувствовавшие себя естественно в немецкоязычной или мадьярской среде, находились между двух огней. Параллельно с ассимилированным, в основном буржуазно-интеллигентским еврейством крупных городов монархии, существовал и другой еврейский мир. Это были небогатые местечки Галиции, Буковины и Закарпатья, среда еврейских сельских и городских жителей со своеобразной культурой, глубокой религиозностью и уникальным, ныне почти исчезнувшим, языком восточноевропейских евреев – идиш. Образ жизни пражанина Франца Кафки сильно отличался от образа жизни выходцев из еврейских местечек Галиции и Трансильвании (в их числе будущие нобелевские лауреаты Исаак Башевис-Зингер и Эли Визель).
Консерватизм и патриархальность социальной структуры, прежде всего в Венгрии (влиятельная аристократия, многочисленная небогатая мелкая шляхта, слабость национальной буржуазии), привели к тому, что значительная часть торговли, промышленности, финансовых операций оказалась под контролем “инородцев” – армян, греков и особенно евреев. “Евреи были главным космополитическим элементом, объединявшим всю Центральную Европу, – справедливо заметил чешский писатель Милан Кундера в эссе “Похищенный Запад, или Трагедия Центральной Европы”, – были ее интеллектуальным цементом, концентратом ее духа, созидателями ее духовного единства”. Предприимчивость и трудолюбие евреев вызывали зависть и ненависть, которая накладывалась на традиционно негативное отношение к ним как иноверцам, особенно в тех районах, где сохранялось сильное влияние католической церкви. В каждой из двух частей монархии в конце XIX века были свои антисемитские процессы, напоминавшие дело Дрейфуса во Франции или дело Бейлиса в царской России. В 1899 году некоего Леопольда Хильснера, двадцатитрехлетнего умственно отсталого бродягу из бедной еврейской семьи, обвинили в ритуальном убийстве чешской девушки Анежки Грузовой. Доказательная база обвинения была малоубедительной, но Хильснера приговорили к смертной казни (император заменил ее пожизненным заключением). В защиту подсудимого высказался профессор Томаш Масарик, будущий первый президент Чехословакии. Этот поступок стоил Масарику популярности у студентов, а пражские газеты дружно насмехались над профессором-“жидолюбом”. В те же годы в Венгрии перед судом предстал молодой еврей из городка Тисаэслар, которого подозревали в ритуальном убийстве юной венгерской служанки.
К чести императора Франца Иосифа, он, в отличие от многих своих предков, отрицательно относился к антисемитизму. Ценя в евреях лояльность трону (ведь, несмотря ни на что, в Австро-Венгрии им жилось куда уютнее, чем в царской России или кайзеровской Германии), император неоднократно выражал им свое расположение и, в частности, открыл евреям доступ к любым должностям в армии и государственном аппарате. Однако в эпоху, когда довелось править этому Габсбургу, одной терпимости для разрешения национальных проблем уже не хватало.
Неверно представлять себе Австро-Венгрию как государство, из-за межнациональных противоречий вечно балансировавшее на грани гражданской войны. Да, не раз эти противоречия приводили к острым ситуациям. В Праге из-за чешско-немецких конфликтов дважды (в 1893 и 1897 годах) вводилось чрезвычайное, а один раз (в 1908 году) даже военное положение. В Лемберге (Львове) в мае 1908 года нарушения в ходе предвыборной кампании, связанные с борьбой польской, украинской и русинской (так называемой “москвофильской”) общин за места в рейхсрате, привели к акту политического террора: украинский студент Мирослав Сычинский застрелил императорского наместника графа Анджея Потоцкого[31]. Последовали столкновения поляков и украинцев. Можно привести и другие подобные примеры. Но по сравнению с европейскими соседями пестрая Австро-Венгрия со всеми своими межнациональными неурядицами выглядела спокойной страной. Здесь не было ни кровопролитных социальных конфликтов вроде Парижской коммуны 1871-го или русской революции 1905 года, ни политического террора, схожего по интенсивности с народовольческим или эсеровским, ни переворотов вроде тех, что сотрясали Балканы, Испанию и Португалию. Даже казнили в дунайской монархии на рубеже XIX и XX веков заметно реже, чем в Британии, Франции или России.
До 1914 года, когда мировая война резко обострила все имевшиеся в Австро-Венгрии противоречия, габсбургская государственная традиция и созданная в ее рамках модель политического и национально-культурного равновесия – об этом позволяют ясно судить документы эпохи – представлялась большинству подданных императора пусть не идеальной, но вполне удовлетворительной. Не кто иной, как Томаш Масарик, пражский профессор и депутат рейхсрата, будущий могильщик монархии и первый президент Чехословакии, в 1905 году писал: “Чешская политика не может быть успешной, если ее движущей силой не будет подлинная сильная заинтересованность и забота о дальнейшей судьбе Австрии – причем речь идет не о бессознательной пассивной лояльности, а о культурных и политических усилиях, соответствующих потребностям нашего народа работать во имя совершенствования всей Австрии и ее политического устройства”. А Стефан Цвейг, вспоминая о годах юности, пришедшихся на эпоху Франца Иосифа, называл мир, исчезнувший в пламени Первой мировой, “миром надежности”: “Все в нашей почти тысячелетней австрийской монархии, казалось, было рассчитано на вечность, и государство – вечный гарант этого постоянства. Права, которые оно обеспечивало своим гражданам, были закреплены парламентом, каждая обязанность строго регламентирована… Все в этой обширной империи прочно и незыблемо стояло на своих местах, а надо всем – старый кайзер. И все знали (или надеялись): если ему суждено умереть, то придет другой, и ничего не изменится в благоустроенном порядке”.
Насколько обоснованной была такая уверенность? Казалось бы, крах Австро-Венгрии позволяет нам, самим пережившим крушение другой империи, лишь покачать головой над наивностью последнего поколения габсбургских подданных. Тем не менее слишком много находится свидетельств того, что до рокового лета 1914 года Австро-Венгрия не производила впечатления смертельно больного государства. Единство империи поддерживалось не только силой штыков императорской и королевской армии, не только отлаженной работой бюрократического аппарата, не только силой привычки и почтением к старому монарху, но и осознанием того, что Австро-Венгрия пусть не столь бурно, как бисмарковская Германия или викторианская Британия, но однозначно прогрессировала, в том числе и в политическом отношении.
Лайбах (Любляна). Открытка 1900 года.
Ко второму десятилетию ХХ века у народов Австро-Венгрии, в первую очередь ее западной части, накопился опыт парламентаризма и взаимодействия избранных представителей с главой государства и правительством. После введения в 1907 году в Цислейтании всеобщего избирательного права возможность участвовать в политике получили новые слои населения. Семидесятисемилетний Франц Иосиф проявил неожиданную смелость, допустив в парламент социалистов, на которых он постепенно научился смотреть как на противовес куда более опасным врагам империи – националистам, в том числе австро-немецким, мечтавшим о “воссоединении” населенных немцами габсбургских земель с Германской империей. Социалисты отвечали монарху взаимностью: настаивая на социальных реформах и поддержке неимущих, они в то же время научились сотрудничать с монархией и даже воспринимать ее как естественную (и вдобавок близкую им своим интернационализмом!) форму организации центральноевропейского пространства.
Но расчеты старого императора не оправдались. Социалисты в рейхсрате появились, однако националистов с парламентских скамей не вытеснили. Многие левые, на последовательный интернационализм и лояльность которых рассчитывали при дворе, оказались заражены националистическими настроениями столь же сильно, как их политические противники из либерального лагеря. Демократизация избирательной системы в Цислейтании не выполнила задачу, поставленную Францем Иосифом. Вдобавок оскудел кадровый резерв монархии: на смену искусным, хитрым, харизматичным государственным деятелям, таким, как Эдуард Тааффе (друг детства императора), Эрнст фон Кёрбер и Макс Владимир фон Бек, занимавшим пост главы правительства западной части монархии на рубеже веков, пришли суховатые, прямолинейные бюрократы, которым решить сложные национально-политические проблемы империи было не по силам. Один из таких, как сказали бы сегодня, “технических премьеров”, Карл Штюргк, в конце 1913 года обратился к императору с просьбой распустить рейхсрат, где чешские депутаты, добиваясь расширения национально-культурной автономии, в очередной раз бойкотировали заседания. В марте 1914 года Франц Иосиф удовлетворил пожелание премьера. Через несколько месяцев началась война, и в этих условиях Вена предпочла депутатов не собирать – до самой весны 1917 года, когда на престоле уже был молодой и неопытный Карл I.
К тому времени шанс на политические реформы был упущен: война сделала противоречия между народами неразрешимыми. Но до лета 1914 года – и это важно понять – для Австро-Венгрии оставались открытыми все пути. Мало кому сейчас придет в голову считать “неестественными” и называть “лоскутными” такие государства, как Швейцария, Испания и даже Великобритания, – хотя с этнической, исторической, правовой точек зрения они подчас почти так же разнородны, как монархия Габсбургов, о которой столь часто и столь самоуверенно говорят как о неестественном пережитке прошлого. Рассуждая о проблемах народов Австро-Венгрии, разумнее удовлетвориться открытой концовкой – как это делает французский историк Виктор-Люсьен Тапье: “Нельзя убедительно доказать ни то, что крах габсбургской системы был неизбежен и стал следствием внутренней дезинтеграции; ни то, что ее выживание обеспечили бы центростремительные силы, не испытай монархия удара извне. Речь идет о том же вопросе, который часто задается о Римской империи: стал ли Рим жертвой внутреннего истощения или был убит?”
Будапешт. Венгерский полдень
Весной этот город пахнет фиалками – как благоухают фиалками дамы, фланирующие по променаду над рекой в Пеште. А осенью тон задает Буда. Молчание города нарушают в эту пору лишь далекие звуки военного оркестра из беседки на другом берегу да стук падающих на тропинки у замка случайных каштанов. Осень и Буда рождены одной матерью.
Дьюла Круди. Подсолнух
В Будапеште Дунай течет быстрее и мощнее, чем в Вене. Ни один другой город эта река на своем трехтысячекилометровом протяжении не разрезает пополам с такой естественной точностью; пятисотметровое дунайское русло не объединяет ни один другой город столь гармонично и соразмерно. Но вода в голубом Дунае вовсе не голубая. С любого из восьми будапештских мостов прекрасно видно, с каким ровным рабочим усилием река перекатывает с севера на юг мускулистые серо-зеленые волны. Дунай в Будапеште – монотонный, грустный, словно цыганская скрипка, поток. В любое время дня, даже в полдень, в любое время года, даже летом, в любую погоду, даже если над головой ни облачка, дунайские берега, будапештский горизонт, венгерское небо затянуты дымкой меланхоличной неопределенности.
В трудном венгерском языке есть выражение temetni tudunk. В несовершенном переводе оно означает “мы знаем толк в похоронах”. Откуда такая тоска, откуда эта мрачная уверенность, подтверждаемая статистикой – венгры числятся среди народов с самой высокой склонностью к самоубийствам? Один из ответов дает автор исторического исследования “Тысяча лет венгерского народа” Пауль Лендваи, сопроводивший свою книгу подзаголовком “К поражениям через победы”. Этот публицистический образ характеризует сложный алгоритм строительства венгерского государства. Пришедшие с Урала кочевники, начавшие освоение Карпатской котловины одиннадцать столетий назад, венгры после двух с половиной веков удачных захватнических походов сами оказались жертвой монгольского нашествия. Еще через триста лет процветанию Венгерского королевства, покорившего половину Центральной Европы, положило конец поражение от Османской империи. Освобождение от власти турок пришло сюда в конце XVII века вместе с европейскими армиями, основу которых составляли войска Габсбургов. А северные и западные венгерские земли попали под габсбургскую власть полутора веками ранее.
Сожительство с Габсбургами венгров, нации эмоциональной, воинственной, с гордой шляхетской культурой, было непростым. Рука императора казалась тяжелой: из Австрии на многоконфессиональную Венгрию накатывались волны рекатолизации, а традиционные вольности местного дворянства раздражали Вену. Венгры восставали, выдвигали ярких, умных, но равно неудачливых вождей – Ференца Ракоци в начале XVIII века, Лайоша Кошута в середине XIX – и неизменно героически проигрывали. Эта печальная традиция продолжилась и в ХХ веке, когда Венгрия после Первой мировой войны пережила катастрофу Трианонского мира[32], лишившего страну большей части ее земель. В неблагоразумном союзе с Гитлером регент Миклош Хорти попытался вернуть хотя бы часть утраченного – лишь для того, чтобы после 1945 года нацизм сменился коммунизмом, а узкие трианонские границы вернулись. Венгры с сочувствием к собственному горю цитируют главного национального поэта-революционера Шандора Петефи: “Мы – самый покинутый народ на земле”. Журналист Артур Кестлер, в 1956 году наблюдавший из-за пролива Ла-Манш за трагическими событиями на родине, констатировал: “Быть венгром – это коллективный невроз”. Похоже, метафору писателя Дьюлы Круди можно расширить: не только Буда, но и весь венгерский народ рожден той же матерью, что и осень.
Михай Зичи. Шандор Петефи читает толпе стихотворение “Вспрянь, мадьяр!” 15 марта 1848 года.
Местный историк-патриот написал: “Только в XIX веке характерный для венгерского ума пессимизм сменился оптимизмом, часто вовсе не обоснованным. Этот оптимизм, ставший проявлением динамичного национального роста, выглядел столь же наивным, сколь близоруким”. Парадокс заключается в том, что Будапешт, главный город этой ныне скромной по размерам и влиянию страны, пережил пору самого бурного своего расцвета, свою восхитительную belle poque, являясь скорее не полноценной столицей, но только духовным и культурным центром нации. Тысячелетняя идея государственности расцвела и во многом была воплощена на практике под властью иноземной династии в ту пору, когда корона святого Иштвана венчала чело австрийского старик. Еще одна цитата из исторической книжки: “Венгры стали свободной нацией, но их страна не стала независимым государством”.
Сегодняшний Будапешт – элегантный, оживленный, просторный – памятник всепоглощающей идее национального величия, попытка овеществить в бетоне, граните и мраморе то царствие небесное, которого нация завоевателей так и не дождалась на земле. Историки умеют точно определять временные координаты, как астрономы – положение тел в пространстве. С 1867 по 1914 год наблюдался максимальный подъем солнца Венгрии над политическим горизонтом. Это зенит будапештского благоденствия и благополучия: это пора реформ, возведения величественных монументов (во второй половине XIX века в Будапеште появилось 63 “полноформатных” памятника), казавшейся беззаботной жизни. Это без малого полвека научных, социальных, экономических достижений. Это еще и полустолетие пышных венгерских похорон.
1 апреля 1894 года сотни тысяч безутешных венгров провожали в последний путь бывшего вождя революции Лайоша Кошута. Когда-то его сторонники утверждали, что “шляпа Кошута весит больше, чем короны всех королей, вместе взятые”. Гроб с телом покойного доставили из Италии на траурном поезде. Кошут надолго пережил свою революцию. 45 лет после поражения он провел в эмиграции. Его родина, где идеи о независимости в 1867 году отчасти были реализованы австро-венгерским компромиссом, пользовалась благами самоуправления. А Кошут собирал травы в Альпах, вел из Турина романтическую переписку с последней любовью своей жизни, юной трансильванской красавицей Шаролтой Зейк, и выдумывал утопические государственные проекты – вроде Дунайской федерации в составе Венгрии, Сербии, Болгарии и Румынии. Но главной для него оставалась мечта о независимости. В предсмертном письме девяностодвухлетний Кошут патетически напомнил соотечественникам: “Стрелки часов не определяют движение истории, они только указывают время; мое имя – такая стрелка. Время, которого я ждал, придет, если сама судьба не остановит будущее моего народа. У этого будущего есть имя: свободная родина для венгров”.
Траурная процессия за гробом Кошута растянулась на несколько километров, от здания Национального музея до главного будапештского кладбища у Восточного вокзала. Император Франц Иосиф (в Венгрии – король Ференц Йожеф) не объявил государственного траура после смерти опального политика и публициста, деятельность которого когда-то потрясла габсбургскую монархию, но и препятствовать массовому проявлению венгерских чувств не желал или был не в состоянии. На просторном кладбище Керепеши саркофаг с останками революционера вот уже столетие поднят на десятиметровую высоту громадного мавзолея. Вечный покой народного вождя охраняют две каменные пантеры. Напряженный оскал дикой кошки справа символизирует ярость; расслабленный оскал той, что слева, означает настороженность.
Памятник Кошуту (по всей стране таких установлен не один десяток) замыкает бронзовую череду четырнадцати венгерских героев на колоннаде Мемориала Тысячелетия. Когда-то последним в этой шеренге – на месте нынешнего бронзового Кошута – стоял император-король Франц Иосиф. После каждой из мировых войн памятник модернизировали, постепенно всех Габсбургов заменили на анти-Габсбургов. В число венгерских титанов не попал ни один из пяти прежде красовавшихся на колоннаде королей. Справедливо? Вряд ли, ибо Австрийский дом пусть и не сроднился со своими венгерскими подданными, но и безжалостным угнетателем все же не был. После крушения монархии венграм довелось жить и при куда более жесткой власти. Но такова логика исторической борьбы: где есть Кошут, там не бывать Габсбургу.
В мае 1900 года на той же площади Героев, замкнутой с двух сторон сундуковатыми музейными зданиями, венгры прощались с другим национальным гением, художником Михаем Мункачи. Он скончался в Германии от душевного расстройства и последствий сифилиса. Как и погребение Кошута, это были не столько похороны, сколько праздник бессмертия из числа тех, смысл которых подметила американский историк Джоанна Ричардсон: “XIX век должен был уйти в прошлое – вместе с людьми, которые лучше других выразили энтузиазм и страсть старой эпохи”. Мункачи родился в закарпатском городе Мункач (ныне Мукачево на Украине) в немецкой семье чиновника фон Либа. В Европе взявший географический псевдоним живописец получил громкую известность благодаря масштабному триптиху на библейские темы – “Христос перед Пилатом”, “Голгофа”, “Се человек!”. Громадное, без малого пять на почти двадцать метров, полотно “Обретение родины”, над которым Мункачи увлеченно работал несколько лет, изображает приход в 896 году на Паннонскую равнину с Урала вождей венгерских племен под водительством князя Арпада. Картина была написана к помпезному празднику, которым Венгрия отметила на исходе позапрошлого века свое тысячелетие. Отметила, сделав заметный акцент на мистически понятых мотивах степных кочевий; должно быть, азиатчина казалась венграм вызовом утонченному европеизму Габсбургов.
Это понятие – “Обретение родины”, Honfoglals – служит отправной точкой венгерского державного порыва. Картина Мункачи и центральная скульптурная группа Мемориала Тысячелетия (семерка могучих всадников, первый из них – грозный Арпад) стали еще одним, художественным воплощением Главной Венгерской Идеи. Разве что чугунный Юрий Долгорукий напротив московской мэрии не оробеет перед этими мадьярскими исполинами, суровыми взглядами провожавшими в последний путь, вдаль по проспекту Андраши, катафалки с останками тех, кому довелось вложить свой политический, военный, социальный, творческий кирпичик в здание вечной Венгрии.
Так что кладбище Керепеши, открытое на тогдашней окраине Будапешта (как на заказ – вскоре после поражения революции Кошута), помнит не один десяток пышных похорон. Temetni tudunk – жизнь и смерть сплетались в Будапеште ради достижения национальной цели. Огромные толпы собрались на перезахоронении останков премьер-министра революционного правительства графа Лайоша Баттяни, казненного в 1849 году по приказу императора. Граф умер красиво, скомандовав расстрельному взводу сразу на трех языках: Allez, Jger, ljen haza![33] В этой фразе слились воедино патриотизм и космополитизм венгерской аристократии. Сотни тысяч венгров молились на панихиде по воспевшему прошлое и оплакавшему настоящее Dulcis Patria (“милой Родины”) поэту-романтику Михаю Верешмарти; скорбели по Ференцу Деаку, одному из немногих политиков, приверженных не отчаянному, обреченному на поражение мадьярскому романтизму, а осторожному реализму, тому, что сулит хотя бы частичный успех. В июне 1897 года парадных похорон удостоился и Карой (Карл) Камермайер, четверть века прослуживший мэром Будапешта. Благодаря и его усилиям Будапешт в последней трети XIX века вошел в число крупнейших городов Старого Света и превратился для многих европейцев в образец продуманного хозяйственного и социального развития.
Немец Камермайер занял кресло бургомистра в 1873 году, эта дата официально считается датой объединения Буды, Обуды и Пешта. Еще в начале XIX столетия суммарное население трех придунайских городков не превышало пятидесяти тысяч человек. На Будайском холме вокруг заложенного королем Белой IV, но так и не достроенного его наследниками серокаменного дворца – с куполом, напоминавшим шлем венгерского кочевника (сейчас заменен полусферой классических пропорций), – теснились домишки ремесленников и мещан. На правом, пологом берегу Дуная, в Пеште, обосновались торговцы, некогда перебравшиеся в Венгрию в основном из германских земель. Обуда, возникшая близ развалин античного Аквинкума, жила рыбной ловлей и мукомольным промыслом. Административная и политическая жизнь Венгрии долгое время текла в иных краях. Многие представители венгерской знати проводили время в Вене, при габсбургском дворе. Административным центром королевства полтора века, со времен, когда в Буде и Пеште хозяйничали турки, оставался скромный город Пожонь (в немецком варианте Пресбург, ныне словацкая столица Братислава). Именно там заседал венгерский сейм, там кипели политические страст, там звучали патриотические речи. Но не по-венгерски, а на латыни – до 1844 года этот мертвый язык оставался административным языком Венгрии.
В 1908 году будапештский публицист Аладар Шёпфлин опубликовал эссе “Город”. Шёпфлин обратил внимание на такую национальную черту венгров: “Если народы покрупнее и поудачливее строили себе города по своему образу и подобию, то у венгров чутья к городскому быту долго не было. Города в Венгрии отстраивались за счет немецкого элемента, а коренные венгры жили в деревне. Если они и селились кучно в городах, то на ремесленный и торговый люд все равно смотрели свысока, со смесью раздражения и насмешки, как на чудаковатых чужаков. Сам город был для них чужеродным телом в теле нации”. Это положение изменилось только к концу XIX столетия, когда за время жизни одного-двух поколений, по крайней мере в объединившихся Буде – Пеште, это “чужеродное тело” стало родным и привычным.
Постепенно Буда и Пешт превратились в центр притяжения всех венгерских земель – поначалу экономический, чуть позднее культурный и, наконец, политический. Выражение “американский темп” не случайно превратилось в то время в журналистское клише. Город стал не только большим, но и очень пестрым, в том числе в этническом отношении. Тем не менее, согласно переписи населения 1910 года, 86 % населения уже более чем миллионного Будапешта называли родным языком венгерский. Венгерские источники утверждают, что во всей восточной части двуединой монархии (с населением 17 миллионов человек) в ту пору венграми себя считали 700 тысяч евреев, 600 тысяч немцев, 400 тысяч словаков, 100 тысяч румын, 100 тысяч южных славян и еще 100 тысяч представителей других национальностей. Это, однако, не означает, что политика венгров, которые сами боролись с австро-немецким засильем (истинным или мнимым), была мудрой по отношению к “своим” национальным меньшинствам. В этом тоже проявлялась двойственность, преследующая венгров чуть ли не все тысячелетие их европейской истории, – свобода для себя оборачивалась несвободой для других. Так или иначе, национальность многих будапештских подданных императора оказалась “утопленной” в идее венгерской государственности.
Венгерское возрождение и будапештское процветание не случайно начались с родной речи, хотя еще двести лет назад существовала угроза того, что этот сложный для восприятия и освоения язык если и не исчезнет вовсе, то так и останется исключительно средством устного общения. В чопорной Вене к “мадьярской тарабарщине” относились с презрением. Придворный драматург Франц Грильпарцер[34], слывший, между прочим, либералом, в 1840 году оставил в дневнике язвительное замечание: “У венгерского языка нет будущего. Его идиомы не соответствуют европейским понятиям, распространение этого языка ограничено несколькими миллионами преимущественно необразованных людей. Если бы Кант написал “Критику чистого разума” на венгерском, у него не нашлось бы и трех читателей. Венгр, говорящий только по-венгерски, останется мужланом, даже если обладает выдающимися способностями”.
ПОДДАННЫЕ ИМПЕРИИ
АРМИНИЙ ВАМБЕРИ,
толмач и дервиш
Арминий Вамбери (Герман Бамберберг) родился в 1832 году в городе Дунасердахей (сейчас Дунайска-Стреда в Словакии) в бедной семье еврея-портного. Был хромым от рождения. В юности переехал в Пожонь, затем в Пешт, где учился и работал домашним преподавателем иностранных языков. Вамбери обладал феноменальной памятью и невероятными лингвистическими способностями, знал несколько десятков языков. В середине 1850-х годов отправился в Стамбул, где стал секретарем видного царедворца Фуата-паши. Принял ислам. Написал несколько научных трудов, составил немецко-турецкий словарь. В 1861 году в одеянии нищенствующего проповедника-дервиша совершил путешествие по Османской империи, Персии, Афганистану, Хивинскому и Бухарскому ханствам, выясняя вопрос о возможном тюркском происхождении венгерского языка. По некоторым данным, выполнял поручения британского Министерства иностранных дел. После возвращения в Европу написал книгу “Путешествия и приключения в Центральной Азии”. Сорок лет руководил кафедрой ориенталистики в Будапештском университете. Крестился. Приятельствовал с ирландским писателем Брэмом Стокером, автором “Дракулы”, которого консультировал по истории и этнографии Трансильвании. Вамбери умер в 1913 году в Будапеште.
Будущее рассудило иначе: именно идея сохранения и кодификации венгерского языка дала толчок революционной деятельности молодых мадьярских дворян и мещан. Быть венгром в их многонациональной стране означало прежде всего говорить по-венгерски. На рубеже XVIII–XIX веков возникло активное движение за языковую реформу, самой заметной фигурой которого стал писатель Ференц Казинци. Реформаторы возрождали язык мадьяр, стремясь осовременить и обогатить его, приспособив к запросам новой эпохи. Правда, первый литературный журнал на венгерском Казинци выпустил в 1788 году не в Буде или Пеште, а в провинциальной Кашше (ныне Кошице в Словакии). Другое языковое (а на самом деле политическое) событие произошло в 1825 году уже в Буде, на заседании периодически собиравшегося здесь сейма: капитан Иштван Сечени, известный при императорском дворе повеса и бонвиван, неожиданно произнес речь на венгерском языке (которым, кстати, владел неважно). Это выступление произвело фурор.
Наследник одной из самых богатых и знатных венгерских семей, Сечени с юных лет путешествовал по миру, посетил Францию, Италию, Британию, Турцию, содержа в свите не только слуг и повара, но и художника. Четверть века по моде времени вел дневник, в который помимо политических размышлений и этнографических заметок заносил отчеты о своих и чужих романтических приключениях. Как гласит исторический анекдот, после смерти графа его секретарь, выполняя завещание патрона, уничтожил более пяти тысяч страниц интимных записей, компрометировавших многих некогда прелестнейших светских дам. При этом граф был меланхоликом, с молодости размышлявшим о самоубийстве, которое он в конце концов и совершил в 1860 году. В Вене над молодым Сечени посмеивались и снисходительно называли “графом Штефи”. Вскоре выяснилось, что у насмешек не имелось оснований.
Мост Сечени. Фото 1928 года.
Сечени говорил на нескольких языках, но в совершенстве не знал ни одного: немецкий, на котором граф вел переписку, биографы считают корявым; с такой латынью в габсбургской Венгрии никого не приняли бы на госслужбу; он бегло, но тоже небезукоризненно, изъяснялся на итальянском и французском. С годами в речах и дневниках графа появлялось все больше патриотических интонаций. Сечени пожертвовал годовой доход от своих поместий на организацию Венгерской академии наук. Затем этот дворянин, считавший себя образцовым англофилом, организовал в Пеште первые в Венгрии скачки и открыл по образцу лондонских клубов National Casino, ставшее символом и одним из очагов национального возрождения. В австро-венгерских провинциях понятие casino долго сохраняло первоначальный смысл. В таких заведениях не столько играли в азартные игры, сколько музицировали, заводили деловые и политические связи, дискутировали о судьбах родины, иногда плели заговоры. Подобно английским клубам, венгерские казино функционировали как закрытые и часто снобистские сообщества, строго охранявшие социальные границы: в National Casino собирались только аристократы голубых кровей, Orszg Casino объединяло дворян со “средними” родословной и достатком, Leopoldstadt Casino – состоятельных буржуа и госчиновников.
Лозунгом Иштвана Сечени стало утверждение “Венгрии не было! Венгрия будет!”, хотя в самых смелых своих проектах он, либеральный националист, не лишенный антисемитских предубеждений, представлял себе Венгрию частью габсбургской монархии, оставаясь в этом отношении оппонентом сторонника полной независимости Лайоша Кошута. Благодаря Сечени в 1830-х годах стали меняться и Буда, и Пешт, усилиями этого “величайшего вегра” будущая объединенная столица начала приобретать черты, которые и теперь определяют ее облик. На деньги и благодаря организаторским усилиям Сечени устроили первую современную пристань на Дунае; неутомимый граф нашел средства и на оборудование общественного променада. По инициативе Сечени открыты Венгерский национальный театр, консерватория, ремесленная школа, первые паровые мельницы, первое литейное производство; он основал спортивный клуб и учредил гребное общество – опять-таки первые в Венгрии.
Главный будапештский памятник патриотизму и энергии Сечени – спроектированный и построенный по его инициативе и при его финансовом участии британскими инженерами Уильямом и Адамом Кларками (однофамильцы) Цепной мост, впервые прочно соединивший не только берега Дуная, но и восток и запад Венгрии. Этот мост, украшенный стальными гирляндами и к концу XIX века получивший имя Сечени, в момент своего открытия (1849) заслуженно считался одним из технических чудес света. Мост и сейчас ох как хорош: и для автовладельцев, и для влюбленных, и для туристов, но особенно (в ночную пору, с иллюминацией) – для фотографов. Краеведы утверждают: объединение Буды и Пешта началось с моста, а главным объединителем городов и всей нации стал Иштван Сечени.
Франц Иосиф и Елизавета на улицах Будапешта. Фото 1897 года.
Этот человек зримо, как ни один другой персонаж истории, присутствует и в сегодняшнем Будапеште. Его имя помимо моста носят крупнейшие в Европе купальни с термальными ваннами, площадь, две улицы, набережная, ресторан, пивной погреб. Именем отца Сечени названа Национальная библиотека. В Пеште установлены и многофигурный памятник, и скромный бюст Иштвана Сечени.
ПОДДАННЫЕ ИМПЕРИИ
CАМУЭЛЬ ТЕЛЕКИ,
искатель приключений
Граф Самуэль Телеки де Сек (1845–1916) родился в Трансильвании в семье богатых землевладельцев. Среди его предков был основатель открытой в 1802 году в Марошвашархее (сейчас Тыргу-Муреш в Румынии) одной из первых венгерских публичных библиотек. В 1881 году Телеки стал депутатом венгерского парламента. Увлечение охотой привело его к идее организации сафари. В 1887 году экспедиция под руководством Телеки и морского офицера-картографа Людвига фон Хохнеля отправилась по руслу танзанийской реки Руву. Первыми из европейцев они достигли линии снегов Килиманджаро (5300 метров), а также покорили вторую по высоте в Африке гору Кения (4300 метров). Экспедиция Телеки–Хохнеля открыла в Великой рифтовой долине озеро, названное графом в честь друга, кронпринца Рудольфа (сейчас озеро Туркана). Другое озеро, на юге Эфиопии, Телеки назвал в честь жены Рудольфа, принцессы Стефании (ныне озеро Чев-Бахир). Экспедиция, которую сопровождали четыреста носильщиков, провела научные наблюдения, открыла новые виды насекомых и растений. В районе Момбасы Телеки обнаружил действующий вулкан, которому присвоил свое имя. Впечатления граф обобщил в “Восточноафриканских дневниках”; фон Хохнель назвал отчет об экспедиции “Открытие озер Рудольфа и Стефании”. В 1895 году Телеки совершил новую экспедицию, но покорить Килиманджаро ему не удалось. Фон Хохнель также еще раз побывал в Африке, затем командовал крейсером “Пантера” в походе в Австралию и Полинезию.
Портрет графа украшает купюру в 5000 форинтов. Больше, чем революционер Лайош Кошут, чем поэт Шандор Петефи, даже в большей степени, чем местный король-креститель Иштван и местный “король-солнце” Матиаш Корвин, граф Сечени – венгерское “все”. И кажется, не только в силу замыслов и деяний: Сечени умел пылко любить родину – как полагалось венгерскому патриоту; умел широко жить – как полагалось венгерскому магнату; он и умереть сумел трагично, как умирают великие в народном эпосе.
Столетие назад в Будапеште, как и по всей Австро-Венгрии эпохи заката, вот так же едва ли не все, подлежавшее наименованию, носило имя императора-короля Франца Иосифа. Но память о старом монархе в последние десятилетия начисто вымарана с городской карты. Словно и не бывал он никогда в Будапеште, словно не короновался под восторженные возгласы придворных и горожан, под ружейные залпы почетного караула и пушечные выстрелы. Словно не открывал торжественно и с помпой 2 мая 1896 года Национальную венгерскую выставку, посвященную тысячелетию “обретения Родины”. Словно не праздновал здесь, в белом мундире гусарского генерала, четвертьвековой юбилей своего царствования.
К концу XIX века и в этой стране вечных бунтовщиков габсбургская династия воспринималась как символ традиции и знак стабильности. Об этой укоренившейся и в Венгрии монархической традиции интересно писал в литературном журнале Nyugat публицист Пал Кери: “Монархия правит по отлаженным принципам господства, в которых всегда перевешивал патриархальный абсолютизм. Заботиться о благе народа, давить, но не чересчур, пусть живет себе в достатке, но не слишком умничает; пусть будут буржуазия и промышленность, это попридержит дворянскую крамолу; пусть крестьянин по возможности крепнет, буржуа богатеет. И пусть каждая завоеванная провинция будет объемистым резервуаром, из которого можно черпать побольше добрых солдат и налогов. Вот и все правило”. Для многих венгров крушение государства Габсбургов стало в первую очередь отказом от этих правил.
В конце концов крупнейший дунайский город рассчитался с австрийской династией сполна. Будапешт тщательно, до мелочей, продумывался как столица великой свободной страны – вопреки своему тогдашнему, отчасти подчиненному положению. Город замышлялся и строился не похожим на Вену – не равным ей, а равным самому себе. Оттого так широки проспекты и бульвары Пешта, так уютны парки и дворики Буды, так элегантны площади и памятники, так узорчаты и нарядны дома, потому так гармоничен весь городской архитектурный ансамбль. Движения грифелей и циркулей маститых австрийских, немецких, итальянских, английских зодчих, строивших новый Будапешт, вдохновлял не только их несомненный талант, но и политическая воля “отцов венгерского народа”. Здесь венгерские историки культуры, кстати, проявляют самокритичность: особенности исторического развития страны, по их мнению, не позволили сформировать национальный архитектурный стиль (за исключением Трансильвании). Поэтому венгры в меру сил творчески осваивали и применяли в своих условиях привнесенное.
Императорская семья в поместье Гёделлё с детьми Рудольфом, Валерией и Гизелой. Литография 1870 года.
Если вы не освоили учебника венгерской истории, вам будет сложно правильно понять Будапешт. Неподготовленному гостю трудно определить, куда направлена и против кого обращена городская идеологическая вертикаль, из каких источников черпается освободительная энергетика Будапешта, на какую борьбу зовут многие его бронзовые герои. Будапешт несет на себе печать сложного отношения венгерской нации к Габсбургам. Бульварное полукольцо в центральном районе Пешта, охватывающее пространство между мостами Маргит и Шандора Петефи, на четырех своих участках сохранило присвоенные улицам более века назад имена членов монархической фамилии, а пятое название (бывший бульвар Леопольда I) теперь чтит память первого венгерского короля Иштвана. Хотя как раз Леопольда могли бы и пощадить, ведь именно при нем Буду и Пешт освободили от турок.
Исключение из правила – отношение Будапешта к супруге Франца Иосифа, императрице Елизавете, или, по-венгерски, королеве Эржебет. Она подолгу гостила в Венгрии, часто останавливалась в подаренной ей местной шляхтой летней резиденции Гёделлё под Будапештом. В молодости Елизавету связывали теплые отношения (степень их близости историки оценивают по-разному) с графом Дьюлой Андраши, который начал политическую карьеру с участия в революции, а продолжил на посту министра иностранных дел Австро-Венгрии, отстаивавшего международные интересы Габсбургов. Елизавета симпатизировала венграм, вероятно, потому, что рыцарственность, выставляемая здешней знатью напоказ, импонировала романтической натуре королевы, а совсем не показное веселье шляхты помогало развеять невротическую меланхолию. По настоянию супруги Франц Иосиф в 1867 году амнистировал бунтовщиков 1848-го, более того, распорядился оказать помощь семьям расстрелянных участников восстания против его же власти. Мадьярофильство унаследовал от матери и несчастный кронпринц Рудольф. Венгрию он называл “Англией Востока” и даже считал эти свои будущие владения образцом для либерального переустройства всей огромной и сложной империи: “В Будапеште жизнь, уверенность в себе, вера в будущее – особенности, которые приносит с собой эпоха свободы и которых нет на других желто-черных[35] территориях”.
Проспект Андраши. Фото 1896 года.
Метро в Будапеште. Открытка начала 1900-х годов.
Будапешт помнит и любит Эржебет. Один из дунайских мостов назван ее именем (соседний мост Франца Иосифа давно переименован в мост Свободы), а сама печальная бронзовая королева примостилась у подножия холма Геллерт. В Пеште вы можете прогуляться по бульвару Эржебет, в одном из парков Буды – подняться на башню Эржебет, в большом книжном магазине – купить биографию Эржебет с сентиментальным заголовком “Одинокая императрица”. К площади Эржебет (отчего-то посередине этой площади установлен фонтан с Нептуном) сходятся чуть ли не все главные дороги Пешта, а летними вечерами здесь, у клуба Gdr, собирается столичная молодежь – потанцевать, погалдеть, покурить травку. Портреты Елизаветы на туристических лотках красуются рядом с ликами венгерских героев и картами несчастливо утраченных Венгрией территорий. Королева Эржебет (в отличие от Вены, в Будапеште ее не называют фамильярно Сисси) стала и секс-символом венгерской истории, и примером романтизации прошлого силами масскульта, и даже парафразом грустного венгерского счастья.
В отличие от центральных кварталов других европейских столиц, облик которых складывался веками, венгерский город будущего строили одним историческим махом и фактически по единому плану. К середине XIX века в Пеште регламентировались и высота зданий, и параметры фасадов, и размеры окон. Оттого по городским проспектам и бульварам гуляешь как по огромной квартире, меблировка и оформление которой продуманы хозяевами до мелочей. Восхищаешься не стариной, а тем смирением, с каким архитекторы подчиняли фантазию модным в пору будапештского полудня неоренессансу и неоклассицизму. Строили не кто как хотел, а в соответствии с национальной идеей о красоте преуспевания. Получилось богато и стильно. Нарядные столетние четырехэтажки на авеню Андраши (в начале 1950-х эта улица носила имя Иосифа Сталина) – вот розовая с виньетками над окнами, вот зеленая с пилястрами во весь фасад, вот бежевая с кариатидами у подъездов – и теперь тщательно подогнаны одна к другой. По широкому проспекту вплываешь на восьмиугольную площадь Октогон (в 1930-е годы, когда Венгрия дружила с фашистской Италией, – площадь Бенито Муссолини) на пересечении с бульварным пештским полукольцом: все просторно, все воздушно, все размеренно. Еще через квартал – нарядная Опера: попроще парижской, поменьше миланской, поизящнее венской. В 1895 году по этому проспекту с ветерком пронесся первый в Будапеште автомобиль марки Benz. До 1941 года дорожное движение в Венгрии было левосторонним. Кое-кто из историков считает, что и таким образом Будапешт стремился подчеркнуть независимость от Вены. Возможно, сказалось также традиционное англофильство венгерской элиты.
Вдоль парадной авеню Андраши (вернее, под ней) к празднику Тысячелетия протянули четырехкилометровую линию подземки. Первый в континентальной Европе метрополитен – восемь подземных и две надземные станции от площади Гизелы[36] (ныне площадь Михая Верешмарти) до зоологического сада, открытого еще в 1866 году, – планировали инженеры немецкой компании Siemens & Halske AG. Смешные вагончики и теперь курсируют от центра до площади Героев – через станции, стены которых по старой моде облицованы узорчатой глазурованной плиткой. Но в конце XIX века подземка не могла вызвать у будапештцев снисходительных улыбок, напротив, только чувство гордости. Такого чуда в ту пору не видывали ни Вена, ни Париж, ни Нью-Йорк, своим метро мог похвастать только Лондон.
ПОДДАННЫЕ ИМПЕРИИ
АБРАХАМ ГАНЦ,
владелец заводов
Абрахам Ганц родился в 1814 году в Швейцарии, кажется, специально для того, чтобы тридцатью годами позже открыть в Буде слесарную мастерскую, которая с годами превратилась в крупнейшее предприятие венгерской промышленности. Через два десятилетия производство Ганца снабжало колесными парами 60 железнодорожных компаний многих стран Европы. Абрахам Ганц, страдавший психическим заболеванием, совершил самоубийство в 1867 году, как раз дожив до эпохи дуализма и успев отпраздновать выпуск на своем предприятии стотысячного железнодорожного колеса. Миллионное колесо на заводах Ганца выпустил его младший партнер Андраш Мехварт. На предприятиях Ganz в нескольких областях Австро-Венгрии строили подводные лодки, дредноуты, речные суда, выпускали паровозы, вагоны метро, трамваи, мостовые опоры, артиллерийские орудия, мельничное оборудование и технику для электростанций, двигатели. Здесь работали талантливые менеджеры и инженеры. В 1959 году после национализации предприятия Ganz стали частью концерна Ganz-MAVAG.
К концу XIX века в Будапеште выстроили три огромных железнодорожных вокзала, настоящие дворцы транспорта. С платформ Южного вокзала вечерний экспресс компании “Дунай – Сава – Адрия” ежедневно уносил в Венецию молодые пары, решившие провести в комфортабельном купе спального вагона первую брачную ночь. Таким был буржуазный шик эпохи будапештского полудня. Еще одной парадной витриной стала дунайская набережная, вдоль которой чинно выстроились роскошные отели. В пору строительства это были неизбежные Carlton, Bristol, Hungaria, Ritz, все – с уличными кафе и уютными террасами. По элегантному корсо в начале 1900-х годов, к неудовольствию любителей прогулок, проложили трамвайную линию – “двойка” до сих пор катает по ней пассажиров. Гостиничную красоту зимой 1945 года превратило в руины яростное сопротивление венгерских и немецких войск при штурме Будапешта Красной армией. При послевоенном восстановлении города туристическую идею сохранили, но новые огромные коробки из стекла и бетона не облагородили дунайскую панораму. Теперь в неизменно дорогой цепочке – Marriott, Intercontinental, Kempinski.
Своей архитектурной целостностью Пешт отчасти обязан тому, что в начале XIX столетия в придунайском селении, только что срывшем оборонительные стены, под перестройку годилось немногое. Новый город и возвели заново, порой жертвуя тем ценным, что сохранялось веками. При строительстве моста Эржебет едва уцелела старая Приходская церковь, на месте которой располагался храм с мощами одного из главных венгерских святых, Геллерта. Бенедиктинский монах из Венеции Джорджо Сагредо, ставший епископом Герардом (Геллертом) Венгерским, был умучен язычниками за пропаганду веры Христовой и погиб лютой смертью. Легенда гласит, что враги сбросили проповедника в Дунай с горы в бочке, усаженной изнутри шипами. На месте казни несчастного (неподалеку от бронзовой Эржебет) стоит бронзовый Геллерт, осеняя Будапешт крестом и глядя через реку на ту самую церковь, где некогда покоились его собственные останки. Многократно перестроенное храмовое здание пожалели, но выглядит оно, задавленное мостовой рампой, невыразительно.
Вряд ли, впрочем, церковники так уж роптали: в ту пору они уже готовились к освящению главного столичного храма – тяжеловесного собора Святого Иштвана, маковка которого поднялась на 96 метров, на высоту шпиля другого сакрального будапештского здания – парламента, Orszghaz, “дома страны”. Собор возвели довольно быстро, за полвека, но в муках: в 1868 году – только успела образоваться Австро-Венгрия! – дурны предзнаменованием обрушился храмовый купол. Стройку пришлось начинать заново. Собор и парламент, духовный и политический компасы нации, поделили главные венгерские реликвии: в одном хранятся мощи короля Иштвана (его правая рука), а в другом – двухкилограммовая золотая корона этого монарха, возложенная впоследствии на чело почти всех 55 правивших Венгрией монархов – и Арпадов, и Ягеллонов, и Анжу, и Габсбургов[37]. Не повезло за тысячу лет только двоим, Венгрией официально не коронованным. Иосифа II, которому по стечению политических обстоятельств королевство досталось без короны, здесь называли “монархом в шляпе”.
Будапешт. Восточный вокзал. Открытка 1912 года.
Огромный парламентский комплекс на берегу Дуная возведен по проекту будапештского профессора Имре Штейндля. Он взял за образец готический Вестминстерский дворец, перемешав в своих чертежах сразу несколько архитектурных “нео”. В течение двух десятилетий, с 1885 по 1904 год, на строительной площадке посменно трудились около тысячи человек, в итоге сложивших из сорока миллионов кирпичей гигантское здание протяженностью почти триста метров. Главный мастер вложил в свое детище столько энергии, сил и здоровья, что умер, не дождавшись счастливого мига открытия парламента. В последние недели жизни Штейндля, немощного бородатого старика, приносили к строительным лесам на носилках, и почти ослепший архитектор давал ценные указания лежа. Его проект изначально был сопряжен с риском: Дунай расположен близко, велика опасность подтопления и в почву для поддержки бетонного фундамента загнали десятки тысяч деревянных свай.
Идею национальной эмансипации выразил не только экстерьер гигантского здания. На отделку внутренних помещений парламента пошло сорок килограммов золота и пятьсот тысяч полудрагоценных камней; залы, коридоры, лестницы поражают напыщенной роскошью. Рассмотрите повнимательнее настенные росписи и художественные полотна: помимо знаменитого Мункачи тут найдутся, скажем, “Восславление Венгрии” или “Торжество венгерского права” кисти Кароя (Карла) Лотца, рожденного немцем в Бад-Гомбурге, но умершего в Будапеште истовым венгром. Тот же монументалист Лотц, кстати, расписывал и купол собора Святого Иштвана: лиловые одежды венгерского Бога-Вседержителя на верхотуре храма заслоняют само солнце. Но есть в парламенте и не такие парадные, как у Лотца, картины: вот монахи ловят рыбу на озере Балатон – это символизирует традиции народного трудолюбия.
Orszghaz, полностью сданный в эксплуатацию к осенней парламентской сессии 1904 года, стал апофеозом будапештского идеологического строительства. Гордый народ в конце концов получил достойную своей истории столицу: с одной стороны, главный символ выстраданной государственности, с другой – воплощение расцвета культуры и либерализма. В 1906 году в Будапеште выходило 39 ежедневных газет (в Вене, подсчитали городские историки, издавалось 24, в Лондоне – 25, в Берлине – 36 газет), причем только одна из них, Neues Pester Journal, печаталась на немецком. Этот город на берегу Дуная мог похвастать самым большим числом мельниц в мире. В Будапеште работали 600 кафе и 40 “лицензированных” борделей. В Будапеште открылись рестораны под стать парижским – Hangli на пештской набережной, Wampetics в Народном парке (в 1910 году его заменил существующий и теперь Gundel); в Будапеште хватало стильных венских кафе – Fiume и New York на авеню Андраши, Gerbeaud на тогдашней площади Гизелы (оно и сейчас на своем месте).
ПОДДАННЫЕ ИМПЕРИИ
ФРАНЦ ЛЕГАР,
“Веселая вдова”
Автор лучших венских оперетт Франц Легар родился в 1870 году в городе Комаром (сейчас Комарно в Словакии) в семье капельмейстера оркестра 50-го пехотного полка. Среди предков Легара – венгры, немцы, словаки, итальянцы. Концертировал с пяти лет. Образование скрипача получил в Праге, играл в военном оркестре вместе с отцом и в двадцать лет стал самым молодым капельмейстером австро-венгерской армии. Первую оперу, “Кукушка” (из русской жизни), написал в 1895 году для театра в Лейпциге. Известность получил как автор вальсов (лучшим считается “Грезы любви”) и маршей. Первая оперетта Легара, “Венские женщины”, поставлена в 1902 году. Прославился Легар после премьеры в 1905 году оперетты “Веселая вдова”. Всего он сочинил около 30 оперетт, самые известные – “Граф Люксембург”, “Цыганская любовь”, “Ева”, “Весна в Париже”, “Голубая мазурка”. В Вене состоялись премьеры 23 оперетт Легара, а в Будапеште – только одной, “Там, где жаворонок поет” (январь 1918 года). Все оперетты Легара исполнялись на немецком, но родным языком композитор, большую часть жизни проведший вне Венгрии, считал венгерский. Либреттист Пауль Кнеплер писал: “Существуют три вида музыкальной драмы: опера, оперетта и Легар”. Музыка Легара приобрела огромную популярность. 7 ноября 1929 года на четырех сценах Берлина было дано девять спектаклей Легара. В день его 60-летия, 30 апреля 1930 года, в течение часа по всей Австрии по радио, в дансингах и на концертах исполнялись только его произведения. Легар скончался в 1948 году.
Популярностью у интеллектуалов пользовались светские салоны, хотя по сравнению с европейскими столицами таковых в Будапеште было немного. Наиболее известен салон сестер Штефании и Янки Воль, звездой которого считался однорукий пианист граф Геза Зичи, автор сборника фортепианных этюдов для левой руки, обладавший удивительным даром музыкальной импровизации. В Будапеште бурлила театральная жизнь, только за последнее пятилетие XIX века в городе открылись три сцены. Изучение старых газет показывает, что у театрала той поры – в один вечер буднего дня – был выбор, например, между “Летучим голландцем” Рихарда Вагнера, “Медеей” Франца Грильпарцера и “Еленой Прекрасной” Жака Оффенбаха, не считая пары-тройки легких народных комедий. Первое кино в Будапеште показали в апреле 1896-го, под зрительный зал приспособили кафе отеля Royal.
Когда в ноябре 1919 года адмирал Миклош Хорти пришел к власти, в первой же своей публичной речи, говоря о Будапеште, он употребил слово bns – c венгерского оно переводится как “грешный” и “виновный” одновременно. У Будапешта действительно были сложные отношения с венгерской провинцией, их связывала странная любовь-ненависть. Гордость провинциальных венгров великолепной столицей сочеталась с суеверным ужасом перед громадой Будапешта и отторжением, основанным на разнице ценностей. Провинциальная Венгрия была небогатой, консервативной, религиозной и чем дальше, тем более националистической, вплоть до яростного антисемитизма, подогретого кратковременной “жидобольшевистской” (по определению венгерских контрреволюционеров) диктатурой коммуниста Белы Куна в 1919 году. Будапешт был городом, “умевшим жить”, ценившим и духовные, и вполне земные наслаждения. В облике Будапешта действительно проглядывала некоторая упадочность, как и во всей Австро-Венгрии. И в блеске венгерского полудня отчетливо виделись первые багряные лучи предстоящего заката, но это был ласковый, мягкий, слегка расслабляющий свет. Именно поэтому Будапешт так не нравился адептам беспрекословных авторитарных “истин”, которые пытались потом, после падения Габсбургов, подчинить себе Венгрию, – большевикам Куна, сменившим их “белым” погромщикам, доморощенным нацистам из “Скрещенных стрел”[38], сталинистам Матиаша Ракоши[39]…
ПОДДАННЫЕ ИМПЕРИИ
АЛЬФРЕД ХАЙОШ,
олимпийский чемпион
Восемнадцатилетний студент-архитектор из Будапешта Альфред Хайош завоевал две золотые медали в соревнованиях по плаванию (дистанции 100 и 1200 метров вольным стилем) на первых современных Олимпийских играх в 1896 году. Заплывы проводились в афинском порту Пирей при температуре воды 10 градусов. Настояее имя чемпиона – Альфред Гуттман, hajs по-венгерски означает “моряк”. Хайош также стал двукратным чемпионом Европы по плаванию, трехкратным чемпионом Венгрии по легкой атлетике (в беговых дисциплинах и метании диска), участвовал в чемпионатах Венгрии по футболу. По проектам Хайоша, успешно окончившего университет, в первой половине XX века в Венгрии построено несколько общественных зданий и спортивных сооружений, в том числе открытый бассейн на будапештском острове Маргит. Хайош скончался в 1955 году.
“Для европейцев путешествие в Будапешт перестало быть экзотической экспедицией. Иностранцы, приезжавшие в незнакомый город к востоку от Вены, с удивлением обнаруживали современный метрополис с первоклассными отелями, электрическими трамваями, элегантными прохожими на улицах у магазинов, с огромным зданием парламента на берегу Дуная, – пишет в книге “Будапешт-1900. Портрет города и его культуры” историк Джон Лукач. – Этот город был космополитичным, но на свой лад: его жители говорили и пели, ели и пили, думали и мечтали по-венгерски. Общество было разделено на классы, но, хотя разные люди существовали в разных мирах, эти их миры все-таки пересекались. Многие жители Будапешта, вне зависимости от социального положения, читали одни и те же книги, восхищались одними и теми же актерами, слушали одну и ту же музыку”. В Будапеште не существовало изолированной vie de bohme, в городе не было артистического квартала. Будапешт превратился в административный и индустриальный центр со всеми его прелестями и пороками: мрачноватые министерские здания, роскошные кварталы в центре, унылые трущобы на окраинах; в городе располагалось две трети венгерских промышленных предприятий.
Буда. Королевский дворец. Фото 1908 года.
На рубеже веков почти пятую часть населения миллионного Будапешта составляли евреи, успешная ассимиляция которых в венгерское общество послужила одной из предпосылок теории о формировании бегло говорящей по-венгерски многоэтничной политической нации. Еврейский капитал служил главным источником финансирования амбициозных городских проектов. На улице Дохань, неподалеку от родного дома идеолога сионизма Теодора Герцля, возвели самую большую в Европе синагогу, почти на три тысячи мест. Состоятельные евреи превратились во влиятельную социальную группу с разветвленными связями при венском дворе. 120 еврейских семей были удостоены дворянских титулов за заслуги перед империей; среди будапештских евреев насчитывалось 28 баронов (не было, правда, ни одного графа). Без евреев-журналистов, артистов, адвокатов, промышленников, ученых, политиков общественная жизнь Будапешта той эпохи потеряла бы свои блеск и размах.
Богатые еврейские кварталы не случайно разместились в шумном буржуазном Пеште. Консервативная Буда когда-то слыла малоэтажным городом ремесленников, торговцев да королевской челяди. Здесь кривые узкие улицы с высоких холмов стекались к дощатым дунайским пристаням, рядом с которыми в дешевых кабаках разливали красное вино из Эгера и белое токайское, такое терпкое, что сводило скулы. Здесь еще в середине XIX века повседневной жизнью командовал не бургомистр, а старшины гильдий рыбаков, бочаров, кузнецов, жестянщиков, кожевенников. Но время все равно взяло свое: упорядочило хаотичное, утихомирило шумное, увеличило маленькое, вычистило грязное, усложнило простое. И в Буде, хоть тут и не развернуться, как в просторном Пеште, к концу габсбургской эпохи победило спокойное и элегантное. Именно в Буде, кстати, располагается сейчас то немногое, что осталось городу от османского завоевания. Учрежденные когда-то султанским наместником Арслан-пашой турецкие бани выкупила и осовременила, сохранив зеленые купола со шпилями, увенчанными полумесяцами, семья промышленника Кёнига. Мавзолей с останками поэта и дервиша Гюль Бабы – именно этот просветитель, как считается, разработал принципы культивирования роз – до сих пор привлекает мусульманских паломников.
Буда на левом дунайском берегу хранит венгерскую печаль. Эта печаль проглядывает и в облике королевского дворца, громадный комплекс которого вместил десятки статусных учреждений вроде Исторического музея, Национальной галереи, Народной библиотеки и проч. Сомнительно, что существует человек невероятной выносливости, способный детально осмотреть все музейные экспонаты, вникая в их историческую ценность. Но если такой все же отыщется, то в его лице Венгрия и Будапешт наверняка получат горячего патриота. Пожары, войны, перестройки, реконструкции не пощадили этот древний город. В широком смысле почти вся многовековая древность Буды – новодел эпохи праздника Тысячелетия. С той славной поры полководец Евгений Савойский, освободивший Буду от турок, направляет бронзового коня к Дунаю, а черная мифическая птица турул, указавшая венгерским кочевникам путь на новую родину, простирает широкие крыла над всей страной. Скульптор Дьюла Донат знал, что изваять: встаньте в тени бронзовой птицы, взгляните вдаль – на прекрасный вольный город, на мощный дунайский поток, несущий в Будапеште воды к югу быстрее, чем в Вене, на ажурные скрепы мостов, на зеленый клин острова Маргит, дальний берег которого и в полдень подернут туманом. И представьте на миг, что в вашей груди бьется славное венгерское сердце.
3
Будни и праздники империи
Всемирно известная шведская актриса госпожа Фогельзанг призналась, что ей никогда так хорошо не спалось, как в эту первую ночь по прибытии в Каканию, и что ее обрадовал полицейский, который спас ее от энтузиазма толпы, но затем попросил позволения благодарно пожать ей руку обеими своими руками.
Роберт Музиль. Человек без свойств
Аббревиатура k. u. k., kaiserlich und kniglich, “императорский и королевский”, сопровождала жителей Австро-Венгрии от рождения до смерти. K. u. k. (на западе монархии – императорским, на востоке – королевским) было все: больницы и школы, железные дороги и корабли, армия и чиновники… Как шутили остряки, над Австро-Венгрией вставало “императорское и королевское солнце”. Роберт Музиль позднее дал монархии, к тому времени уже погибшей, не слишком благозвучное для русского уха название, происходящее от аббревиатуры k. u. k., – Kakanien. Сколько же, собственно, было жителей в этой стране, по территории уступавшей в Европе одной лишь Российской империи?[40] К концу XIX века население Австро-Венгрии составило без малого 47 миллионов человек, а в 1910 году, когда проводилась последняя в истории монархии перепись населения, – 51 миллион 390 тысяч человек.
Венгрия была заметно крупнее Цислейтании, но по численности населения западная часть империи, наоборот, превосходила восточную: по данным той же переписи 1910 года, 28 и 21 миллион человек соответственно. Еще два миллиона приходились на Боснию и Герцеговину, не “приписанную” ни к западу, ни к востоку габсбургского государства. Концепция “империи 60 миллионов”, которую в последние годы монархии разрабатывали лояльные к престолу интеллектуалы, так и осталась нереализованной. Сейчас население Австрии составляет 8,3 миллиона человек, Венгрии – на 2 миллиона больше, примерно столько же проживает в Чехии, около 5,4 миллиона – в Словакии, 4,5 – в Хорватии, чуть более 2 миллионов – в Словении… Таковы, как писал по другому поводу русский юморист Аркадий Аверченко (умерший и похороненный, кстати, в Праге), “осколки разбитого вдребезги”.
Полвека, отведенные историей дуалистическому государству, оказались для обитателей Kakanien периодом бурных перемен в большинстве областей их повседневной жизни. Империя Габсбургов, слишком долго для крупной европейской державы несшая на себе отпечаток патриархальности, а на восточных окраинах, вроде Галиции, Трансильвании или Закарпатья, и откровенной отсталости, в 1860-е годы окончательно вступила на путь капиталистического развития. Толчок этим переменам был дан еще в революционном 1848 году, кода австрийский парламент одобрил законы, отменявшие последние феодальные повинности, закреплявшие основы гражданского равенства и изменявшие систему местного самоуправления. Но только в конце 1860-х наступили те “семь тучных лет”, когда экономическое и социальное развитие монархии, казалось, полностью подтвердило справедливость теории экономиста Адама Смита о “невидимой руке рынка”, обустраивающей жизнь ко всеобщему удовольствию и процветанию. 1867–1873 годы стали для Австро-Венгрии своего рода наградой за потрясения, которые стране пришлось пережить в предыдущее десятилетие. Страну охватила грюндерская лихорадка (от немецкого grnden – “основать”): только в 1869 году возникло 141 акционерное общество с общим капиталом 517 миллионов флоринов[41], а три года спустя 376 новых компаний располагали не менее чем двухмиллиардным капиталом.
Банкнота номиналом в 20 крон. 1913 год. Оборотная сторона – на венгерском языке.
Паровоз производства Wiener Neustdter Lokomotivfabrik.
Особенно бурный рост переживала транспортная система империи, в первую очередь железные дороги, хотя по темпам их строительства Австро-Венгрия отставала от большинства стран Западной Европы и России. Подданные империи впервые увидели на своей земле паровоз в 1837 году. Южная железная дорога связала столицу страны с Адриатическим побережьем и вскоре превратила Триест в главный портовый город юго-востока Европы. Участок Грогниц – Земмеринг – Мюрццушлаг (1848–1854) длиной 40 километров с 14 тоннелями и 16 виадуками стал первой в Европе горной железной дорогой, построенной по самым строгим требованиям времени. К концу 1850-х железнодорожное полотно соединило Вену с Будой и Пештом. Проложили ветку на запад от столицы (Вена – Линц – Зальцбург), протянули две линии в Богемию. Из Вены в Краков вела Северная железная дорога.
Стратегия по отношению к железнодорожным магистралям менялась. Поначалу, до середины 1850-х годов, государство стремилось взять железные дороги под контроль, но затем, столкнувшись с финансовыми трудностями, временно отдало этот вид транспорта на откуп частным предпринимателям, в том числе Ротшильдам, построившим Северную железную дорогу имени императора Фердинанда (предшественника Франца Иосифа)[42]. С середины 1870-х, когда сеть железнодорожных магистралей стала достаточно густой, а их стратегическое значение – очевидным, начался обратный процесс: государство выкупало у частных владельцев контрольные пакеты акций железнодорожных компаний и в начале ХХ века уже полностью контролировало этот вид транспорта.
Первая в Европе горная железная дорога в Земмеринге. Открытка 1890-х годов.
Монархии Габсбургов так и не удалось стать передовой промышленной державой, но облик ее экономики за последние полвека существования страны изменился разительно. Добыча угля, к примеру, выросла с 800 тысяч тонн в 1848 году почти до 34 миллионов тонн в 1904-м. Особенно бурно прогрессировали альпийские районы и Нижняя Австрия (в совокупности это территория нынешней Австрийской Республики), а также чешские земли. В Вене, Винер-Нойштадте, Штайре были сконцентрированы как новейшие промышленные предприятия, вроде производства локомотивов и мотоциклов, так и традиционные для Австрии отрасли – изготовление фарфора, шелка, музыкальных инструментов, предметов роскоши. Штирия и Каринтия стали регионами металлургии, в 1880-е годы большинство здешних предприятий отрасли объединилось в рамках Альпийской горнопромышленной компании. Пригороды Вены, находившиеся на полпути между угольным бассейном Острау (сейчас Острава) в Моравии и месторождениями железной руды в Штирии, превратились в центры машиностроения. В Вене строительный бум привел к бурному росту производства стройматериалов.
Другим промышленно развитым регионом стали чешские земли, в первую очередь Богемия. В 1880 году на чешские провинции приходилось три пятых промышленной продукции Цислейтании. В таких отраслях, как текстильное или стекольное производство, эта доля приближалась к 80 %, а в машиностроении и пищевой промышленности составляла более половины. На севере Моравии во второй половине XIX века почти с нуля развилась добыча каменного и бурого угля. Позднее в Праге, Райхенберге (ныне Либерец), Пльзене и других городах Богемии и Моравии появились предприятия новейших на тот момент отраслей промышленности – электротехнической и химической.
ПОДДАННЫЕ ИМПЕРИИ
ИГНАЦ ПЕЧЕК,
угольщик
Родился в 1857 году в городке Колин неподалеку от Праги в семье не слишком удачливого ростовщика-еврея Моисея Печека. Кроме шести классов пражской гимназии, образования не получил. С 17 лет Игнац Печек работал коммивояжером. В деловой поездке познакомился с владельцем фирмы по торговле углем Якобом Вайманом и поступил к нему на работу. В 1880 году основал в городе Ауссиг (ныне Усти-над-Лабем на севере Чехии) фирму, составившую успешную конкуренцию предприятию Ваймана. Печек завел новые формы работы с угледобывающими компаниями, умело реагировал на конъюнктуру рынка, вводил передовые технологии (первым в Австро-Венгрии наладил производство угольных брикетов). Прославился щедростью: финансировал в Ауссиге строительство лечебницы для больных туберкулезом, детского дома, школ, жертвовал местной синагоге. После падения монархии вместе с братьями Юлиусом и Исидором создал синдикат, контролировавший половину европейского рынка бурого угля. Похороны Игнаца Печека в 1934 году стали для провинциального Ауссига крупным событием. После прихода к власти Гитлера семья Печек, располагавшая собственностью в Германии, лишилась большей части состояния. Печеки, успевшие в конце 1930-х эмигрировать в США, не вернулись в Европу. В Праге династии угольщиков принадлежало несколько красивейших вилл, в которых сейчас размещаются посольства США, России и Китая.
Венгерское королевство по уровню индустриального развития отставало от Цислейтании, но и его не обошла стороной промышленная революция. По протяженности железных дорог на душу населения Венгрию в начале ХХ века в Европе опережала только Франция. В 1847 году в королевстве появился телеграф, через два десятилетия протяженность венгерской телеграфной сети составляла 14 тысяч километров. В 1881 году в Будапеште открылась первая телефонная станция. Принцип работы телефонных станций обосновал инженер Тивадар Пушкаш. На счету венгров в ту эпоху оказалось еще несколько важных технических изобретений. В 1914 году по дорогам Венгрии колесило свыше тысячи автомобилей – в то время солидное число для любой европейской страны. При движении в городе водители обязаны были обращать внимание на то, что автомобили тянули за собой шлейфы пыли, поэтому скорость ограничивалась пятнадцатью километрами в час (скорость движения всадника рысью), а на опасных участках – шестью километрами в час (скорость движения всадника шагом). За городской чертой разрешенная скорость составляла 45 километров в час. Но в целом Венгерское королевство оставалось по преимуществу аграрной страной: в 1910 году 63 % его трудоспособного населения было занято в сельском и лесном хозяйстве. В Цислейтании этот показатель составлял 53 %. Для сравнения: в Германии доля занятых в аграрном секторе едва превышала треть населения.
ПОДДАННЫЕ ИМПЕРИИ
ТИВАДАР ПУШКАШ,
телефонист
Выходец из семьи небогатых трансильванских дворян, Пушкаш поначалу изучал право, но затем отдал предпочтение техническим дисциплинам. Получив диплом инженера, он работал в Англии в компании по строительству железных дорог. В 1873 году вернулся в Венгрию и открыл первое в Центральной Европе туристическое агентство. Беспокойная натура Пушкаша привела его в США, где вместе со знаменитым изобретателем Томасом Эдисоном он занялся усовершенствованием систем связи. Имено Пушкаш обосновал принцип телефонной станции, позволивший найти массовое употребление этому новому для той поры виду связи. Первое испытание прошло в Бостоне в 1877 году. Услышав голос на другом конце провода, Пушкаш в восторге прокричал на родном языке: Hallom! (венг.: “Слышу!”) Это слово в слегка искаженной форме (hallo, halo, алло и проч.) вошло во все языки и оказалось навеки связано с телефоном. В 1879 году
Пушкаш открыл первую телефонную станцию в Париже, двумя годами позже – в Будапеште. Десятилетие спустя он основал службу Telefn Hrmond (буквально – “Рассказчик новостей по телефону”). Позвонив на соответствующий номер, абоненты могли ознакомиться с выпуском новостей, прогнозом погоды, биржевой сводкой и другой полезной информацией. В марте 1893 года Telefn Hrmond передал слушателям печальную новость о смерти своего основателя от сердечного приступа в возрасте всего лишь 48 лет.
Развитие австро-венгерской экономики не было непрерывным быстрым подъемом из патриархального болота к блеску капиталистического модерна. В 1873 году империю постиг финансово-экономический кризис, отзвуки которого ощущались еще по меньшей мере полтора десятилетия. Буря ударила как раз тогда, когда дунайская монархия демонстрировала свои экономические достижения на Всемирной выставке, открывшейся в Вене 1 мая 1873 года. Однако всего через девять дней на венской бирже произошел крах, не только похоронивший надежды на прибыль от выставки, но и положивший конец начавшемуся было экономическому процветанию. Наступили “семь худых лет” Австро-Венгрии. Биржа, разогретая спекуляциями, в которых участвовали тысячи игроков, лопнула. В стране закрылось более шестидесяти банков, разорились десятки фирм, в одной только Вене “черный четверг” стал причиной более чем тысячи самоубийств. Среди покончивших с собой оказался, в частности, герой войн с Пьемонтом, Данией и Пруссией генерал Людвиг фон Габленц. Государственную казну спасли от банкротства Ротшильды, предоставившие монархии крупный заем. Франц Иосиф отблагодарил: Альбрехту Ротшильду пожаловали титул барона.
Впрочем, биржевая катастрофа имела не только отрицательные последствия. Она способствовала перетеканию капиталов из финансовой в производственную сферу. И если до конца 1870-х годов экономическая ситуация в дунайской монархии оставалась сложной, то затем положение улучшилось, а в 1890-е начался резкий подъем, который – с небольшими колебаниями, свойственными рыночной экономике, – продолжался вплоть до Первой мировой войны. Столь долгого поступательного экономического роста Центральная Европа не знала ни до, ни после этого периода. Возможно, именно поэтому Франц Иосиф и вошел в историю земель и территорий, которыми правил, как символ “старых добрых времен” – ведь значительная часть его царствования представляла собой, по выражению французского историка Жана Беранже, ту “эпоху благополучия, мира и культурного расцвета, которую так часто идеализируют, сравнивая ее с катастрофами, ожидавшими придунайскую Европу в XX столетии”.
Кризис 1870-х годов привел, помимо прочего, к изменению многих принципов функционирования экономики Австро-Венгрии. В последние два десятилетия XIX века возникло несколько крупных концернов, нарастала монополизация капитала. Примером классического “капитана индустрии” считается Карл Витгенштейн, сколотивший огромное состояние в металлургической отрасли. Несмотря на немалые собственные достижения и разнообразные дарования, этот человек известен потомкам прежде всего как отец Людвига Витгенштейна, одного из величайших философов ХХ века. В 1870-е годы Витгенштейн-старший сумел перекупить у конкурентов лицензию на право использования в Цислейтании новейшего технологического процесса, позволявшего очищать сталь от фосфора, что значительно улучшало ее качество. Это принесло огромные барыши. Затем предприниматель приобрел крупнейшую в Австрии Альпийскую горнопромышленную компанию, модернизировал ее и сделал куда более прибыльной. Витгенштейн вовлек в свой бизнес крупнейший банк дунайской монархии – Creditаnstalt, которому продал пакет акций Альпийской компании, а сам, в свою очередь, вошел в банковский совет директоров. В конце карьеры Витгенштейн оказался втянутым в острый конфликт, связанный с попытками властей ввести антимонопольное законодательство и снизить протекционистские тарифы на металлургическую продукцию. Хотя самому Витгенштейну пришлось уйти в тень, доминирующее положение созданных им компаний в австрийской тяжелой промышленности сохранилось до сегодняшнего дня.
Фабрика в окрестностях Будапешта. Рисунок 1913 года.
Предприятия Витгенштейна, как и другие гиганты австро-венгерского капитализма, дали немало примеров острого конфликта между трудом и капиталом, вовсе не выдуманного марксистами. Капиталистическое производство той эпохи действительно напоминало соковыжималку, в которой здоровье, а порой и жизнь рабочих приносились в жертву прибыли. Вот как в 1888 году описывала общежитие рабочих крупной кирпичной фабрики венская социал-демократическая газета: “Деревянные лавки, покрытые старой соломой, на которых тесно рядами лежат люди… В одном из таких помещений, где спят 50 человек, в углу примостилась супружеская пара. Две недели назад женщина заболела – и лежит здесь, среди полуголых, грязных мужчин, дыша смрадным воздухом”. Подобных заведений в австрийской столице были десятки, да и в других промышленных центрах империи ситуация складывалась не лучше. “Пролетарские семьи жили в казармах, почти лишенных элементарных удобств: на десятки семей приходился один туалет, воду носили из общей колонки. Одежда и питание были нищенскими, мясо потреблялось крайне редко, основной рацион составляли картофель, капуста, хлеб и пиво. В этом мире ни религия, ни культура не играли сколько-нибудь значительной роли, и борьба за физическое выживание часто заслоняла собой все остальное”, – пишет австрийский историк Карл Воцелка.
ПОДДАННЫЕ ИМПЕРИИ
ФЕРДИНАНД ПОРШЕ,
пламенный мотор
Мальчик из местечка Мафферсдорф (ныне Вратиславице-над-Нисоу) на севере Богемии, Фердинанд Порше рано увлекся механикой. Инженерно-технического образования он не получил, хоть и слушал какое-то время лекции в техническом училище Райхенберга. В возрасте восемнадцати лет перебрался в Вену, где работал в электротехнической компании. Там Порше впервые проявил себя как изобретатель: разработал модель велосипедного электромотора, монтируемого на колесе. В 1898 году фирма Lohner & Co представила “самодвижущийся экипаж”, для которой двадцатитрехлетний Порше сконструировал электромотор. Его усовершенствованная модель стала в 1901 году первым в истории гибридным автомобилем (комбинация двигателя внутреннего сгорания с электрическим приводом). Эти машины развивали скорость до 56 километров в час. С 1906 года Порше работал в компании Austro-Daimler главным инженером, позднее – исполнительным директором. Порше участвовал в разработках военной техники, за что получил австро-венгерские и немецкие награды. Главным увлечением гениального инженера оставалось конструирование гоночных автомобилей. В 1920-е годы Порше работал в различных компаниях Германии и Австрии, в том числе в фирме Daimler-Benz. С начала 1930-х жил в Штутгарте, где основал собственную фирму, ныне известную просто как Porsche. Самым знаменитым детищем “позднего” Порше стал произведенный по заказу нацистского правительства “народный автомобиль”, Volkswagen, вошедший в историю как “жук”. В годы Второй мировой войны Порше, будучи аполитичным профессионалом, любившим решение сложных задач, участвовал в оборонных проектах, в том числе в разработке танка “Тигр”. В 1945 году он был арестован французскими оккупационными властями, но затем освобожден без суда. Порше умер от инсульта в 1951 году. Его сын Фердинанд Антон восстановил и продолжил семейное дело.
Реакцией на невыносимые условия существования становились забастовки, появление снчала профсоюзов, обществ взаимопомощи, а затем и политических организаций рабочих, преимущественно социалистической направленности. Не будучи заинтересованным в социальных конфликтах, императорское и королевское правительство пыталось выступать в роли посредника между работодателями и работниками, защищая права трудящихся, но не в ущерб экономическому развитию и правам собственности. Рабочий день в 1885 году ограничили одиннадцатью часами (в 1901 году сократили до девяти часов), запретили детский труд, ввели обязательный выходной по воскресеньям. Возникли зачатки пенсионной системы, в 1887 году рейхсрат одобрил закон о страховании и компенсациях, связанных с производственными травмами. За ним последовал закон о медицинском страховании. Так была организована система социальной защиты, равной которой на тот момент не было ни в одной европейской стране, кроме Германии. Первое в мире Министерство социальной помощи появилось в Австро-Венгрии, оно было создано в 1917 году по указу императора Карла I.
Расслоение общества привело к появлению новых политических сил, в первую очередь социал-демократов и христианских социалистов, деятельность которых угрожала стабильности монархии. Благодаря прогрессивной для того времени государственной политике социальные контрасты в Австро-Венгрии хотя и оставались выразительными, но были все же меньшими, чем в Великобритании, России или Италии. Тем не менее разрыв в доходах впечатлял. Рабочий средней квалификации получал в 1880-е годы 400–500 флоринов в год. Учитель средней школы зарабатывал до 1000 флоринов. В то же время чиновники императорского и королевского Министерства иностранных дел, даже не самого высокого ранга, могли рассчитывать как минимум на четырехтысячное годовое жалованье. Налоговая система способствовала процветанию зажиточных слоев населения: подоходный налог был низким, максимальная ставка взималась только с лиц, которые располагали колоссальными годовыми доходами – 210 тысяч флоринов и более.
Один из первых автомобилей Фердинанда Порше. Фото 1900 года.
Павильон сельскохозяйственных машин на Всемирной выставке в Вене. Фото 1873 года.
В 1866 году австрийские и венгерские земледельцы собрали рекордный урожай; в этот и последующие годы объемы экспорта сельскохозяйственной продукции росли небывалыми темпами. Венгрия превратилась в главную житницу Европы и оставалась таковой до притока на европейский рынок дешевого американского зерна. Но аграрный сектор, составлявший основу венгерской экономики, не избавился от наследия минувшей эпохи, мешавшего модернизации. Во второй половине XIX века две с небольшим тысячи магнатских семей владели четвертью земельных угодий Венгерского королевства, примерно двести семей располагали поместьями площадью пятнадцать тысяч акров и более. Один лишь князь Мориц Эстерхази имел семьсот с лишним тысяч акров земли.
В целом по империи не более чем пяти тысячам землевладельцев – императору и членам его семьи, церкви, помещикам и крупным компаниям – принадлежало почти 90 % сельскохозяйственных угодий, в то время как на два миллиона крестьянских хозяйств приходилось в девять раз меньше. Неудивительно, что из аграрных провинций Австро-Венгрии – Галиции, Трансильвании, Баната, Закарпатья, Верхней Венгрии (Словакии) – шел мощный поток эмигрантов. В поисках лучшей доли монархию за последние сорок лет ее существования покинули почти три миллиона человек. Уезжали в основном за моря – в США и Канаду, в Аргентину и Австралию. Сильна была и внутренняя миграция, из отсталых областей в развитые. В бедных кварталах Будапешта в 1910 году жила четверть рабочего класса Венгрии, притом что население венгерской столицы составляло лишь пять процентов населения королевства. Бегство из деревни приводило в города вчерашних крестьян, влачивших жалкое существование в качестве наемных рабочих. Во многих отношениях их положение оказывалось даже хуже, чем у оставшихся на селе родственников, поскольку они ощущали себя утратившими корни и потерявшими связь с культурой малой родины. Промышленная революция медленно меняла стиль жизни – со строгим разделением праздников и будней, труда и отдыха. Досуг этих людей не отличался разнообразием и состоял обычно только из посещений трактиров по воскресеньям.
По сравнению с передовыми державами Австро-Венгрии не хватало собственных капиталов, ее экономика в значительной степени зависела от иностранных инвестиций. К 1914 году большая их часть была немецкой (шесть миллиардов крон), на втором месте шла Франция (три миллиарда). Зависимость от германского капитала отводила дунайской монархии роль младшего партнера в лоббировавшемся правящими кругами Германии проекте Mitteleuropa, единого экономического пространства Центральной Европы. В 1913 году по уровню промышленного производства Австро-Венгрия занимала в Европе четвертое место после Великобритании, Германии и Франции, опережая Россию и Италию. Однако эта почетная строка в таблице означала лишь шестипроцентную долю в общеевропейском промышленном производстве. Недостаточное развитие промышленности и сильные региональные различия аукнулись монархии в ее последние годы, когда затяжная война легла на экономику страны непосильным бременем.
С каким интеллектуальным багажом строила капитализм эта работящая империя, умудрявшаяся сочетать консерватизм старого монарха, либерализм дарованных им политических институтов и прогрессизм экономического развития? Жители Kakanien были в большинстве своем если не образованными, то по крайней мере грамотными. Система образования, основы которой заложила еще Мария Терезия, развивалась быстро и успешно: к концу 1880-х годов школу в Венгерском королевстве посещали восемь детей из десяти. Однако в целом – из-за слабого развития сети школ в восточных и южных провинциях – неграмотные составляли около трети подданных Франца Иосифа.
В системе образования находили отражение и национальные проблемы страны: ничем, кроме политики мадьяризации, нельзя объяснить тот факт, что на пороге ХХ века для четырех из пяти студентов в восточной части империи родным языком был венгерский, в то время как доля венгров в населении королевства не достигала и половины. В то же время, прежде всего в Цислейтании, власти стремились дать молодежи возможность учиться на родном языке. Эта тенденция затронула не только начальное и среднее, но и высшее образование. В чешских землях в последней четверти XIX века один за другим создавались чешскоязычные вузы (не все из них оказались долгожителями). Логическим продолжением стало разделение пражского Карло-Фердинандова университета на чешскую и немецкую части. Этот процесс, с одной стороны, сглаживал межнациональные противоречия, а с другой – разобщал народы империи, которые приучались жить в “параллельных мирах”.
ПОДДАННЫЕ ИМПЕРИИ
ТОМАШ БАТЯ,
башмачник
Имя чешского сапожника по фамилии Батя впервые упомянуто в 1667 году. Томаш, третий ребенок башмачника в восьмом поколении Антонина Бати, родился в 1876 году в моравском городе Злин. В 1894 году вместе с сестрой и старшим братом Томаш выкупил у отца семейное ремесло. Новые владельцы наладили производство пастушьей войлочной обуви. Начало процветанию фирмы положил выпуск так называемых батёвок – суконных ботинок на кожаной подошве с носком из качественной кожи. Батя активно внедрял новые способы управления производством и системы выплаты жалованья, премирования и штрафования работников, для чего заимствовал американский опыт. С 1908 года – единоличный владелец компании T. & A. Baa. Для расширения производства организовал строительство жилья для рабочих, так называемых “домиков Бати” из красного кирпича, которые и сейчас делают узнаваемой архитектуру Злина. В годы Первой мировой войны T. & A. Baa получила баснословные прибыли, выполняя государственный заказ на пошив солдатских ботинок. С 1914 по 1918 год число работников предприятия увеличилось в десять раз; дневная производительность к концу войны составила 6 ысяч пар. В 1920-е годы фирма перешла на конвейерное производство по образцу заводов Генри Форда, к началу 1930-х годов открыла филиалы и магазины более чем в 60 странах. В 1932 году Томаш Батя погиб в авиакатастрофе. Его дело продолжил сводный брат, сумевший после оккупации Чехословакии нацистами сохранить капитал, а затем, уже в эмиграции, сын, Томаш Батя II (1914–2008). В конце 1940-х годов фабрики Бати в Чехословакии национализировали. Сейчас компания Bata Shoe Organization владеет 40 предприятиями в 26 странах; ей принадлежит около пяти тысяч торговых точек в десятках стран – в том числе, конечно, и в Чехии.
В гражданское законодательство, определявшее правовые рамки семейных отношений австро-венгерских подданных, в 1868 году тоже внесли изменения в либеральном духе. Отныне жители дунайской монархии могли заключать браки вне зависимости от религиозной и национальной принадлежности. Были разрешены и разводы, хотя их процедура осталась сложной. Зато строго воспрещались родственные браки, даже в третьем и четвертом колене. Это выглядело насмешкой над подданными со стороны династии, для которой брачные союзы между близкими родственниками были обычным делом. Но законы законами, а свобода нравов в городах процветала. В Вене более четверти детей рождались вне брака, проститутки исчислялись тысячами (не считая дам полусвета вроде Мицци Каспар, многолетней приятельницы кронпринца Рудольфа). При этом в деревнях царили патриархальные нравы, а для заключения брака лицам до 24 лет требовалось разрешение родителей.
В отличие от наиболее консервативных Габсбургов, например своего дяди эрцгерцога Альбрехта, Франц Иосиф относился ко всей этой либерализации без особой боязни. Снижение социальной роли церкви было политически выгодным для страны. Габсбурги оставались в большинстве своем католиками, но, за редкими исключениями, не были фанатичными папистами; интересы собственного государства для них были однозначно важнее устремлений Ватикана. Когда в 1868 году папа Пий IX высказал габсбургскому посланнику нелестное мнение о реформе австро-венгерской системы образования, из Вены не последовало ни извинений, ни обещаний исправиться. Габсбурги знали: молчание часто выразительнее слов.
Несмотря на противоречия и диспропорции, хозяйство и социальная сфера империи находились в относительном порядке и развивались достаточно быстро для того, чтобы обеспечивать все большей доле подданных вполне достойную жизнь. При Франце Иосифе сложились многие традиции и социальные стандарты, определявшие облик Центральной Европы на протяжении целых десятилетий после крушения Австро-Венгрии – вопреки потрясениям, которые ждали этот регион в ХХ веке.
Австро-Венгрия не была бы империей, если бы распорядок ее будней и праздников не подчинялся календарю знаменательных для царствующей фамилии дат. По всей стране, от Триеста до Черновица (ныне Черновцы на Украине), от Эгера до трансильванского Кронштадта (теперь Брашов в Румынии), торжественно отмечали дни рождения его императорского и королевского величества (Франц Иосиф появился на свет 18 августа) и августейшей супруги, Елизаветы (24 декабря), юбилеи престолонаследника (кто бы им ни был), годовщины вступления императора на престол (2 декабря) и бракосочетания монаршей четы (24 апреля).
Император неизменно встречал свои дни рождения в городке Бад-Ишль. Это курортное местечко в предгорьях Альп на слиянии рек Траун и Ишль Франц Иосиф любил с детства. Считалось, что известные издревле солевые источники Бад-Ишля исцеляли болезни дыхательных путей, ревматизм и женские хвори, но император, человек довольно крепкий даже в преклонном возрасте, приезжал сюда из пышной и многолюдной Вены не по медицинским причинам, а за спокойствием, тишиной и свежим воздухом. Быть может, монарха влекли в Бад-Ишль и сентиментальные воспоминания: именно здесь в 1853 году Франц Иосиф обручился с юной принцессой Елизаветой Баварской. В качестве свадебного подарка мать жениха, эрцгерцогиня София, преподнесла молодоженам элегантную виллу в стиле бидермайер. Двухэтажная Kaiservilla, которую Франц Иосиф называл “раем на земле”, на десятилетия стала летней резиденцией императорской фамилии. В этом здании размещались личные покои Габсбургов; приемы для гостей устраивались в иных местах. В последние десятилетия жизни неподалеку от императорской виллы Франц Иосиф арендовал для своей подруги Катарины Шратт скромный, но достойный особняк Villa Felicitas. В рабочем кабинете в восточном крыле императорской резиденции 28 июля 1914 года без малого восьмидесятичетырехлетний Франц Иосиф подписал манифест “К моим народам”, извещавший о начале последней габсбургской войны. Наутро монарх покинул Бад-Ишль, чтобы больше сюда не вернуться.
Бад-Ишль. Габсбургские будни и праздники.
Лишь пару раз император праздновал свои дни рождения не в Бад-Ишле. В детские годы Франца Иосифа центром торжеств становилось выходящее фасадом на главный городской променад здание, в котором ныне расположен городской музей; мальчика выпускала на балкон его молодая мама, и маленький принц махал ручкой своим будущим подданным. В приходской церкви Святого Николая каждое
18 августа в присутствии именинника служили утреннюю Kaisermesse. С 1850-х годов для избранной публики открыли доступ в прилегающий к императорской вилле чудесный английский парк, аллеи которого спускались со склона холма Яйнцен к неспешной речке Ишль. В парке и проходили главные торжества. В середине августа Бад-Ишль на несколько дней становился светской столицей габсбургской монархии: здесь давали концерты лучшие музыканты; на здешних балах играли лучшие оркестры; придворные дамы готовили к здешним званым вечерам свои самые смелые туалеты.
Как подметил один современник эпохи, славя императора, его подданные по всей стране съедали и выпивали не меньше, чем когда славили Иисуса Христа. В дни рождения Франца Иосифа и его ближайших родственников в Австро-Венгрии гуляла и знать, и чернь: для дворян устраивали концерты и балы, для простонародья – игры и забавы, сопровождавшиеся фейерверками, а также выходом кого-то из придворной свиты к подданным для демонстрации милосердия и щедрости. Обязательными по любому поводу в Австро-Венгрии считались смотры войск и военные парады. К праздничным датам приурочивали либо закладку больших строительных объектов, либо их открытие (церковь Обета в Вене освящали в 1879 году по случаю серебряной свадьбы Франца Иосифа и Елизаветы, а колесо обозрения в парке Пратер в 1898-м запустили к пятидесятилетию царствования императора).
Простому народу и зрелища полагались простые, вроде уличного театра марионеток с многонациональным составом исполнителей (итальянский Пульчинелла, немецкий Гансвурст, австро-богемский Касперле, он же Кашпарек), цирка обезьян-гимнастов или чудесного сеанса у гипнотизера, наследника славы знаменитого доктора Франца Месмера. Особой популярностью неизменно пользовался зоологический сад в Шёнбруннском парке, основанный в 1762 году (Габсбурги приобрели зверинец у некоего итальянца Альби) и почти сразу же, первым в Европе, открытый для публичного посещения. Еще в 1828 году в вольере поселили жирафа, подаренного императору египетским правителем. Народ валом валил глазеть на диковинное африканское животное, и в течение нескольких лет в столице дунайской монархии многое было la giraffe – прически, накидки, шарфы, трости. Естественно, такие изысканные развлечения существовали только в Вене. Чем глубже в провинцию – тем явственнее бледнела праздничная жизнь, тем серее становились будни.
В Венгрии на “местном” уровне праздновали годовщину коронации Франца Иосифа и его супруги в Буде, поскольку этому событию придавали особое значение. А вот в чешских землях (Франц Иосиф здесь, напомним, не короновался) подобной знаменательной даты не существовало. Важными мероприятиями считались деловые поездки императора по стране. Франц Иосиф имел склонность к кабинетной работе, но, будучи добросовестным хозяином, не сидел в столице. Его вояи сопровождались организованными проявлениями лояльности к трону и превращались в испытание для чиновников и местных бюджетов.
Кому-то “не везло” на императорские посещения, формально превращавшие будни в праздники, другим такая удача выпадала неоднократно. В Будапеште, например, в последние десятилетия своего царствования Франц Иосиф появлялся практически ежегодно. Прагу за долгое время пребывания на престоле император посетил около двадцати раз. Особым расположением монарха и двора по понятным причинам пользовалось теплое Приморье. Франц Иосиф совершал поездки и на “южный полюс” Австро-Венгрии, в далматинские Спалато и Зару (ныне Сплит и Задар в Хорватии), и на крайний север, в богемский Райхенберг (Либерец), в галицийские Краков и Лемберг-Львов. В Загребе гостям города и сейчас напоминают, что и Национальный театр на нынешней площади маршала Тито, и здание Центрального вокзала на нынешней площади короля Томислава торжественно открывал сам Франц Иосиф. “Медвежьи углы” империи – Буковина, Трансильвания, Восточная Галиция, Босния и Герцеговина – о таком частом проявлении высочайшего внимания, как близкие к центру империи Венгрия, Богемия или Хорватия, и не мечтали. Есть основания полагать, что восточные окраины империи представители правящего дома посещали без особого удовольствия. Последний император Карл, служивший некоторое время офицером в полку, расквартированном в прикарпатской Коломые, вспоминал об этом времени с ужасом.
Франца Иосифа встречали как самого дорогого гостя. В четвертом по величине в Богемии, вполне заурядном городе Жижкове (сейчас один из районов Праги) император-король побывал трижды – в 1891, 1901 и 1907 годах. Всякий раз такой визит проходил в рамках большой императорской “командировки” и комбинировался с поездками в соседние населенные пункты. Помимо почетного воинского караула и представителей светской и духовной власти монарха приветствовали артисты в исторических и народных костюмах, горожане, многие из которых облачались в профессиональные униформы (кондукторы, телеграфисты, пожарные). Гремели оркестры. На улицы выводили школьников и гимназистов с желто-черными габсбургскими флажками[43] и цветочными корзинками в руках. Журнал Zlat Praha с умилением описывал появление Франца Иосифа в Жижкове: “Воспитанники реальных училищ, завидев кортеж, хором запели императорский гимн. Взволнованные гимназистки выбегали навстречу автомобилю, чтобы в наивной простоте на миг коснуться руки или хотя бы рукава его величества, восклицая: “Приветствуем императора! Слава императору!” В эти минуты на глазах его величества блестели слезы…” Император обращался к своему верному народу с кратким приветствием, хотя бы несколько слов произнося на родном для собравшихся языке. Неимущие получали от императорской семьи вспомоществование (Жижкову было отпущено две тысячи крон; каждой бедной семье, заблаговременно подавшей прошение властям, полагалось от двух до пяти крон), а город удостаивался высочайшего пожертвования на реализацию какого-нибудь важного проекта вроде возведения моста, строительства дома призрения или устройства общественных купален. Суммы были несопоставимы с расходами на прием высокого гостя (фейерверк, иллюминация, ремонт дорог, обновление фасадов зданий и прочее). Но лицезреть своего монарха! – для многих подданных Габсбургов это становилось событием в их небогатой приключениями жизни.
По моде времени по маршруту следования государя устанавливали громадные “почетные ворота” наподобие триумфальной арки, украшенные флагами, цветочными гирляндами, государственными символами и здравицами в адрес императора. Такие же ворота сооружали в дни приезда в Вену и другие важные города монархии высоких иностранных гостей. Летом 1896 года, когда в Австро-Венгрию пожаловал молодой русский царь Николай II с супругой, на столичной площади Шварценберга появилась пятнадцатиметровая конструкция из дерева и металла, с башенками в форме куполов православного храма. На центральном куполе вместо креста красовался двуглавый орел, символ монархических домов Габсбургов и Романовых.
В XIX веке Вена безоговорочно считалась танцевальной столицей Европы. Основу этой славы, сопровождающей австрийскую столицу до сих пор, положило проведение в 1814–1815 годах Венского конгресса. Конференция под председательством габсбургского министра иностранных дел Клеменса Меттерниха, созванная после окончания Наполеоновских войн для выработки новых европейских политических условий, затянулась на восемь месяцев. “Шесть высочайших особ, семьсот дипломатов со своими секретариатами, прислугой, двором – всего пять тысяч иностранцев, живших в Вене в период конгресса, внесли изрядный беспорядок в ее повседневную жизнь, – пишет французский историк Марсель Брион. – С официальными гостями смешалось немало авантюристов, жуликов, профессиональных игроков, а полусвет делегировал в Вену массу хорошеньких девиц для соблазнения высочайших особ”. В Вену съехались представители практически всех европейских государств, от великих империй до карликовых княжеств, члены королевских домов и аристократических фамилий.
Ни блестящие монархи, ни заштатные князьки не отказывали себе в разнообразных удовольствиях, которые предоставляла столица Габс-бургов. Роскошные балы, обильные трапезы, званые вечера, галантные визиты к красавицам составили содержание Венского конгресса едва ли не в большей степени, чем дипломатический шпионаж и политические интриги. Танцевали охотнее всего и преимущественно вальс, польку и галоп, заменившие главные танцы XVIII века – менуэт и котильон. Именно во время конгресса получил международное распространение венский вальс. Популярностью пользовался оркестр капельмейстера Михаэля Памера, в котором пятилетием позже заиграл молодой скрипач Иоганн Штраус-отец. В Придворном театре изредка давал концерты серьезный Людвиг ван Бетховен, но не он считался главной венской музыкальной знаменитостью. “Во время конгресса много развлекались, много вальсировали, много занимались любовью, но могло ли быть иначе? – задает риторический вопрос Марсель Брион. – У этого общества была потребность развлекаться, и если ему нравились фривольные развлечения, если оно охотнее слушало скрипку, чем Бетховена, то не потому ли, что в этих сумерках монархий люди тщетно пытались сохранить легкомысленное общество, все еще охваченное беспечностью, блистающее изяществом, очарованием, роскошью и красотой?” Если французский историк прав, то можно констатировать: Вена продлила сумерки старого мира, сохранив свой имперский танцевальный характер (названный кем-то из писателей “веселой духовностью”) еще на целое столетие.
После окончания конгресса в Вене не погасли гирлянды танцевальных залов. “Композиторы XIX века писали вальсы с таким же рвением, с каким их предшественники столетием раньше сочиняли менуэты, – замечает в биографии семьи Штраусов немецкий писатель-музыковед Генрих Эдуард Якоб. – Вальс, создававшийся для танца, постепенно стал и симфонической формой, которую можно слушать в концертном исполнении и которую хочется больше слушать, чем танцевать, как, например, “Императорский вальс”[44]. Музыковеды считают вальс революционной танцевальной формой: кружение вокруг своей оси есть элемент участия в коллективном вращении, в отличие от статичного менуэта, символа старой эпохи. Жители Вены быстро осознали потребности нового общества. Широкая публика – мелкие чиновники, служащие, приказчики – желали и себя окружить роскошью, сравнимой с богатством дворянских салонов. Танцевальные залы были залиты светом хрустальных люстр, отражавшихся в громадных зеркалах; сверкающий паркет натирали воском; устроители вечеринок не жалели средств на изысканную мебель, дорогую посуду, пышные букеты.
В середине XIX века, подсчитали историки, в Вене ежевечерне танцевали пятьдесят тысяч человек. Между собой соперничали танцевальные залы Прамера, Вольфсона, Шперля, Швенде, Доммайера – зал “София”, зал “Флора”, “Виноградная гроздь”, “Лунный свет”. На открытии зала “Аполлон” собралось пять тысяч человек; зал “Одеон” вмещал десять тысяч пар. Вот как совреенник описал одну венскую волшебную ночь: “Оркестра в танцевальном зале не видно, здесь, словно с неба, льется музыка, и яростные звуки скрипок придают ей совершенно дьявольскую окраску”. Воспоминание об этом бальном великолепии в сегодняшней Вене – танцевальный зал Курхаус, рампа которого плавным полукружием выводит к пруду Городского парка и памятнику Иоганну Штраусу-сыну: золотой маэстро самозабвенно играет на скрипке.
Венский хороший музыкальный тон распространился по всей империи. На Славянском острове в Праге и сейчас красуется танцевальный павильон Жофин, получивший имя в честь матери императора, эрцгерцогини Софии. Здесь, как и во всех приличных городах габсбургского государства, сезон балов начинался – и до сих пор начинается – в феврале. Танцевальные вечера проводят и городские власти, и профессиональные гильдии, от архитекторов и пожарных до врачей и полицейских. В Венгрии, Чехии, Хорватии, Польше сохраняются традиции школьных и гимназических выпускных балов (балов в настоящем смысле этого слова), где помимо вальсов исполняют народные танцы. Традиция неумолима: школьники, кружась на балах, отмечают событие, которое еще не произошло, ибо экзамены предстоят только весной. Иногда это находит шутливое отражение в надписях на “шерпах” – лентах через плечо, которые вручаются каждому выпускнику. Сын наших знакомых, пражский гимназист, вернулся с такого бала с лентой, украшенной надписью: “Выпускник этого года… В крайнем случае следующего”.
Вена по-прежнему задает музыкальный лад, вывеска Tanzschule (“школа танцев”) для этого города и сегодня совершенно обычна. При этом сомнительно, чтобы главным предметом преподавания здесь были самба или ча-ча-ча. Частью развлекательной программы габсбургской Вены стали так называемые национальные балы; они проводились в богатых домах обосновавшихся в столице империи польских, венгерских, итальянских, чешских, хорватских аристократов. В организации таких вечеров присутствовал и политический компонент: гости, включая членов императорской фамилии, непременно облачались в костюмы, соответствующие национальности хозяев.
ПОДДАННЫЕ ИМПЕРИИ
ИОГАНН ШТРАУС-СЫН,
маэстро
Иоганн Штраус-младший родился в Вене в 1825 году в семье композитора Иоганна Штрауса. Еще два его младших брата стали известными музыкантами. Отец препятствовал занятиям мальчика музыкой, настаивая, чтобы Иоганн стал банкиром. После завершения музыкального образования, при немалом сопротивлении отца, Штраус выступал с небольшим оркестром в венских танцевальных залах и казино. В отличие от отца, убежденного монархиста, Штраус-младший симпатизировал революции 1848 года и попал под арест за публичное исполнение “Марсельезы”, хотя после восшествия Франца Иосифа на престол написал в честь императора два вальса. Конфликт с отцом продолжался до смерти Штрауса-старшего в 1849 году; сын посвятил его памяти вальс “Эолова арфа”. В 1852 году, после двух неудачных попыток, композитор получил придворную должность и стал дирижировать оркестром на балах в Хофбурге. Неоднократно с успехом концертировал в России; одиннадцать сезонов, с 1855 по 1865 год, гастролировал в Павловске под Петербургом. Расцвет творчества Штрауса относят к 1860–1870-м годам: в этот период написаны знаменитые вальсы “На прекрасном голубом Дунае” и “Сказки Венского леса”, оперетты “Летучая мышь” и “Калиостро в Вене”. Штраус трижды вступал в брак, но своих детей у него не было. В 1887 году, из-за отказа католической церкви признать его очередной развод, композитор перешел в протестантизм и принял подданство германского княжества Сакс-Кобург-Гота. Штраус скончался в Вене в 1899 году от пневмонии. Он сочинил 168 вальсов, 117 полек, 73 кадрили, 43 марша, 31 мазурку, 15 оперетт. После прихода к власти Гитлера нацисты скрывали неарийское происхождение Штрауса (его дед был крещеным венгерским евреем).
Символом величия австрийской легкой музыки XIX века остается новогодний концерт оркестра Венской филармонии. Эта габсбургская по духу традиция возникла через два десятилетия после крушения монархии. Репертуар новогоднего концерта в Большом зале здания Венского музыкального общества составляют вальсы, польки и мазурки семейства Штраусов (всех четверых), что-нибудь из Йозефа Ланнера и Франца Шуберта, немного Моцарта и Франца фон Зуппе. При исполнении на бис последнего номера программы, “Марша Радецкого” Штрауса-отца, публика аплодисментами отбивает такт, а дирижер управляет этими аплодисментами. Всемирную телевизионную аудиторию утреннего концерта, важного события венской светской жизни, оценивают примерно в миллиард человек.
Как любой исчезнувший мир, Австро-Венгрия после своего крушения вызывала и вызывает ностальгические вздохи и переживания. Миф о Вене как городе вечного праздника особенно красочно описал Стефан Цвейг: “Было потрясающе жить в этом городе, который гостеприимно принимал все чужое и с радостью отдавал себя. Вена была городом наслаждений, где очень заботились о кулинарии, хорошем вине и терпком свежем пиве, а также о выпечке и сладком. Но в этом городе были взыскательны и к утонченным удовольствиям – музыке, танцам, театру, ведению беседы. Умение вести себя любезно и со вкусом рассматривалось здесь как особое искусство”. С долей восторженного идеализма воспринимал Вену немецкий историк и литературовед Герман Бауман: “Двенадцать голосов шепчутся в дунайской крови расположившегося здесь народа, и кто является истинным австрийцем, у того двенадцать и более душ”.
Венский праздничный миф неотделим от культуры венского кофе, сладкой выпечки, кисловатого молодого вина и других, более “тяжелых” составляющих венской кухни: пивного и мясного меню. Первое кафе в столице и в стране Габсбургов вообще открылось в 1683 году. Венские кофейные залы времен Франца Иосифа отличались (помимо стульев мастера Тонета) столиками с покрытой лаком цветной шкалой. Разные цвета отображали до двух десятков оттенков кофе, заказы и жалобы поступали кельнерам в следующей форме: “Мне, пожалуйста, номер двенадцать” или “Я просил номер восемь, а вы принесли номер тринадцать”. Помимо обычных “эспрессо” и “по-турецки” в меню присутствовали “меланш”, “капуцин”, “коричневый” – обозначения напитка, в разных пропорциях смешанного с молоком и сливками. “Мария Терезия”, “блондль”, “фиакер”, “Моцарт” предполагали фруктово-алкогольные добавки.
Венское кафе Griesteidl. Фото 1897 года.
В любой стране мира кофе с шоколадом и взбитыми сливками называют “кофе по-венски”. Уже 330 лет кофе в Вене (как, впрочем, и в других городах былой Австро-Венгрии) подают на серебряного цвета подносах, со стаканом холодной воды. Уже более двух столетий в венских, будапештских, пражских кафе читают газеты. Уже 250 лет в венской моде концертные кафе. Уже полтора века вход в венские кафе – свободный и для женщин без всякого сопровождения. Лет пятнадцать назад одному из нас доводилось встречаться в Мариборе (бывшем Марбурге) с чемпионом Олимпиад 1920–1930-х годов по гимнастике словенцем Леоном Штукелем, получавшим свои золотые и серебряные медали из рук барона Пьера де Кубертена, основателя современного олимпийского движения. Столетний Штукель так вспоминал свою габсбургскую юность: “Вы и представить себе не можете, какой “капуцинер” можно было выпить в любом кафе Марбурга!”
На рубеже XIX и XX столетий система из шестисот венских кафе превратилась в простой и верный социальный индикатор для молодого класса служащих, буржуазии и новой аристократии: кто куда, кто с кем, кто в чем. Кофейная культура и пара-тройка кулинарных рецептов и сейчас остаются скрепами центральноевропейской цивилизации. В кафе напротив оперного театра в любой уважающей прошлое центральноевропейской столице – блинчики-palatschinken, вишневый и яблочный штрудели, торт Sacher (известный в Москве как “Прага”), разбавленное водой “пятьдесят на пятьдесят” или “десять на девяносто” легкое белое вино.
Излюбленной дворянской забавой имперской эпохи считалась охота, наряду с фехтованием и скачками веками остававшаяся основным мужским развлечением. Собственно, один из главных смыслов регулярных поездок императора в Бад-Ишль состоял именно в том, чтобы побродить с ружьем по окрестным лощинам и лесам. Пристрастия Франца Иосифа, унаследованные им от предков, разделяли другие Габсбурги. Наследник престола Рудольф часто отправлялся пострелять дичь в недалекое поместье Майерлинг на берегу речки Швехат; последняя поездка в Венский лес, напомним, окончилась для принца трагически. Другой престолонаследник, Франц Фердинанд, обладавший прямо-таки необузданным охотничьим азартом (утверждают, что он перестрелял около ста тысяч, а по другим данным, до трехсот тысяч животных и птиц), в 1887 году приобрел под Прагой замок Конопиште, вокруг которого раскинулись обширные заповедные леса и луга. В покоях замка до сих пор размещается малая часть охотничьих трофеев эрцгерцога, в том числе почти две тысячи пар рогов несчастных оленей, козлов и серн. Здесь же можно полюбоваться на выцветшие фотографии: Франц Фердинанд во время поездок в Африку и Индию позирует на фоне застреленных им тигров и слонов.
ПОДДАННЫЕ ИМПЕРИИ
КАРОЙ ГУНДЕЛЬ,
ресторатор
Открытый в 1894 году в Городском парке будапештский ресторан Wampetics считался первым венгерским заведением высокой кухни. В 1910 году этот подрастерявший популярность и клиентуру ресторан сменил вывеску и владельца: им стал повар Карой (Карл) Гундель (1883–1956), сын переселенца из баварского города Ансбах Иоганна Гунделя, обосновавшегося в 1860-е годы в Верхней Венгрии (ныне Словакия). Со временем Гундель-старший купил в курортном местечке Татраломниц (теперь Татранска Ломница) отель “Эрцгерцог Стефан”, где начинал работать мальчиком его сын. В Будапеште Гундель (в семейном предприятии которого позже участвовали и некоторые из его 13 детей) повел ресторанный бизнес с размахом, наняв для ежевечерних выступлений симфонический оркестр и оперную труппу. В межвоенный период “Гундель” слыл лучшим рестораном Будапешта, а его хозяин, автор нескольких кулинарных книг, стал ведущим теоретиком национальной кухни, в рецепты которой привнес французский акцент. Гундель закрепил как венгерскую традицию региональных блюд – паприкаша, лечо, гуляша, слоеного рулета рэтеш (для Вены и других областей Австро-Венгрии – штрудель). Здесь подавали лучшие сорта токайского, а также известное и за пределами Венгрии вино “Бычья кровь Эгера”. Легенда гласит: в 1552 году при осаде огромной армией турецкого султана Сулеймана Великолепного крепости Эгер две тысячи ее защитников для храбрости добавляли в вино бычью кровь, потому и выстояли. Главная визитная карточка ресторана Гунделя – блинчики, начиненные смесью из земляных орехов, изюма, лимонной цедры, корицы и рома. После Второй мировой войны ресторан был национализирован и выкуплен только в 1991 году американскими бизнесменами, возродившими славу Гунделя. Сейчас это одно из самых “пафосных” заведений Будапешта, поддерживающее традиционные меню и стиль.
Симпатий к эрцгерцогу, любящему мужу, заботливому отцу и небесталанному политику, это его увлечение не прибавляет.
По мере демократизации общественной жизни императорские и королевские охотничьи угодья, расположенные близ дворцов и резиденций, переходили в ведение больших городов. 1 мая 1873 года в венском парке Пратер, где некогда хозяйничали охотники с дворянскими титулами и егеря его величества, император принял участие в торжественном открытии Всемирной выставки. Первое мероприятие такого размаха состоялось в 1851 году в Лондоне (“Великая выставка промышленных работ всех народов”), а венская, пятая, очередь пришла только через два с лишним десятилетия. В мире набрала силу промышленная революция, великие державы соперничали не только на полях сражений, но и в заводских цехах и лабораториях, в мастерских художников, в умении веселиться и праздновать, заодно демонстрируя своим гражданам или подданным достижения науки, искусства, техники. В отличие от прежних веков ценились не только богатство и роскошь, вошли в моду практицизм и прагматизм.
Парадные ворота Всемирной выставки в Вене. Парк Пратер. Фото 1873 года.