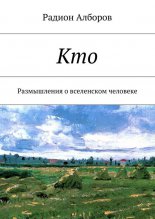Упрямое время Вереснев Игорь

– Что, выпить не с кем?
– Дык! Не с кем. Душа, понимаешь, просит, – постучал он себя гулко по грудаку, точь-в-точь, как в прошлый раз, – а не с кем. А я же не алкаш, чтобы в одиночку пить.
Я тоже не алкаш. Но сейчас только и остаётся, что напиться. Чтобы больше ни о чём не думать.
– Ну давай выпьем.
Мужик сразу расцвёл.
– Вот и добренько! Я счас сбегаю, пузырь возьму. Ты не думай, деньги у меня есть, потом посчитаемся. Ты какую уважаешь?
– Без разницы. По своему вкусу бери.
– Добренько, добренько! Я мигом. И пойдём, посидим где-нить на лавочке.
– У меня и посидим. Я в этом доме живу.
– Дык и я в этом. Что я тебя раньше не видел?
– Я недавно квартиру снял.
– А, вон оно как. Ты один живёшь, что ли?
– Один.
– А я семейный. Супружница у меня, детки. Так что не приглашаю к себе, извини.
– Да беги ты уже!
– Дык, мигом я, мигом…
Минут через двадцать мы расположились на кухне. Из закуски у меня наличествовали только застывший омлет да четвертинка хлеба. Ну, не закусывать собрались, выпивать.
На правах хозяина я разлил по первой. Мужик тут же подхватил свой стакан.
– За знакомство, что ли? Меня Миша зовут.
– Гена.
– Вот и добренько.
Водочку он опрокинул в себя смачно, только булькнуло. Видно, опыт употребления у Мишани немалый имелся. Отломил кусочек ржаного, занюхал, морщась. Зажевал вдогонку.
– А что, Гена, ты смурной такой? Случилось чего у тебя?
Я усмехнулся криво.
– Давай по второй примем, а потом уж по душам калякать начнём.
– Правильно. Как моя супружница говорит, «между первой и второй перерывчик небольшой».
– Что же ты с супружницей пузырёк не давишь?
– Дык, сам сказал – по душам поговорить охота. А с супружницей разве по душам получится? Баба есть баба, у неё другое на уме. А ты чего один? В разводе или волю любишь?
– И в разводе, и волю люблю.
Вторая тоже пошла хорошо. И как-то легче стало внутри, спокойнее. Будто осаждаться начала вся та муть, что мозги мне загадила.
– А «смурной» я, Миша, потому что дочку у меня сегодня убили.
– Да ты что?! – у мужика даже рожа вытянулась. Чуть омлет не уронил. – Как?!
– Мент машиной сбил на переходе. Ненавижу козлов!
– Аааа… – мужик вздохнул. Взял бутылку, разлил по третьей. – Тогда давай не чокаясь. Помянём. Как звали-то дочку?
– Ксюша. Оксана.
– Царство небесное рабе божьей Оксане.
Эту Миша выпил неторопливо, с чувством. И закусывать не стал, лишь кулаком занюхал.
– Сколько лет дочке было?
– Двенадцать.
– Дитё невинное. Крепись, Гена. Говорят, невинные души прямиком в царство небесное возносятся, так что дочка твоя в раю. А тебе крепиться нужно и терпеть. И Бога не забывать. Чтобы сподобил увидеться с ней в загробной жизни.
– Ты что, Мишаня, крепко верующий?
– Крепко или нет, не знаю. Тут сейчас эти ходят… «Свидетели». Вот они крепко верующие. Библию читают, песни всякие поют, про конец света рассказывают. А я думаю – баловство это. Деды-прадеды наши православными были, и мы от веры их отступать не должны. Здесь неподалёку храм имеется, небольшой, но приятный. Заходишь вовнутрь, там иконы, свечи горят. Батюшка, опять же. Душевно. Не часто туда наведываюсь, но если праздник какой религиозный – обязательно. А ты что, в Бога не веруешь? Без веры нельзя, Гена. Кто кроме Бога поддержит и утешит нас в страданиях наших?
– Что ты знаешь о страданиях?
Миша опять вздохнул, разлил по четвёртой.
– А ведь у меня тоже дочку, можно сказать, убили. Давно, ещё во младенчестве. В роддоме прямо. Сестра недоглядела, когда купала. Может, выпимши была, или ещё как. Сунула в кипяток и сварила.
– Как сварила?! И что?
– Что-что? Младенчику много надо? Померла дочка. Давай и её помянем.
Помянули. Ни омлета, ни хлеба у нас уже не осталось. И выпивки – на донышке. Когда успели?
– А медсестра? – снова начал я. – С ней что сделали?
– Что с ней сделаешь? Халатность, сказали. Отстранили от младенчиков. На полгода.
– Отстранили?! И всё? Да её пожизненно посадить, и то мало!
– Эк хватил! Посадить… Тогда всю нашу медицину в тюрьму сажать надо. Думаешь, мента твоего посадят?
– Поса… – я осёкся. Не посадили его. Уволили, кажется, из органов, и на том дело закрыли.
– То-то. Нет, Гена, справедливость в земной жизни искать бесполезно. Да и что это такое – справедливость? Деток всё равно не вернёшь.
– Так что ты предлагаешь, терпеть? И ты терпел? И жена твоя, когда у неё ребёнка убили?
– А куда деваться нам было? Горевали и Богу молились. И он помог, дал ещё двух деток. Испытание это для нас было, Гена. И для тебя вот теперь испытание. Давай уж добьём, чтобы глаза не мозолила.
Я послушно опрокинул стакан, не почувствовав даже горечи. Зацепили меня слова Мишани. Испытание, стало быть? А ведь правильно. Не болезнь это никакая, не амнезия, не шизофрения – испытание. Тот, на небесах который, испытывать меня продолжает. Он ведь Всеведающий и Всемогущий. Всё что угодно сделать способен. И я давно это понял, раскусил его замысел. Ещё когда майора жёг, раскусил. И правильно вроде всё сделал? Он же Всеблагой, Бог-то наш? Так же в Библии написано? Прощать всех учит, «возлюби ближнего», мол. Я всех и «возлюбил», простил. А где награда? За что он меня так сурово? Я же не железный. Не святой! Не этот, как его… не Иов! Зачем со мной так?!
– А?!
Я врезал кулаком по столешнице так, что стаканы подпрыгнули, а Мишаня чуть с табурета не свалился.
– Ты чего, Гена?
– Я тебя спрашиваю, зачем он меня так?!
– Дык, не можем мы судить о делах Господа. Потому что неисповедимы пути…
– Не можем?! А он может Ксюшу четыре раза подряд убивать? Первый раз я не видел, так он повторил. С разных сторон мне показал, чтобы не сомневался уж… Смотри! – я оттянул тенниску на груди. – Видишь? Это кровь её!
Миша сполз с табурета. Постоял, глядя на меня. И вдруг предложил:
– Гена, я за вторым пузырём сбегаю, а то мало нам, вижу. Только деньги ты давай. У меня нету больше.
Предложение его было таким неожиданным, что я с мысли сбился. Несколько секунд таращился тупо, потом кивнул, вытащил деньги из кармана, протянул.
– На, иди. Только водки не надо больше. И не приходи! Мне подумать нужно. О нём, – ткнул указательным пальцем вверх.
Миша постоял, раздумывая. Кивнул, направился к двери.
– Постой! – окликнул я его. – Вот если ты такой верующий, скажи – сколько он меня испытывать будет?
– Пока ты, Гена, самое главное испытание не пройдёшь. Пока терпению и смирению не научишься…
Он ещё что-то пытался мне рассказывать, но я уже не слушал. Остальное всё ерунда была. Одно правильно Мишаня сказал – главного испытания не прошёл я пока. А какое самое главное испытание быть должно? Да ежу понятно, какое!
Светка, бандюк, шалашовка, майор – это цветочки. Всё, что они мне сделали, ПОТОМ было, после самого главного, самого страшного. И если бы не это страшное, мне бы их и прощать не пришлось. Не за что прощать было бы! Главное, оно сегодня случилось. И с этим главным Господь Бог меня не свёл почему-то с глазу на глаз. Значит, я сам понять должен? Сам всё сделать?
А я непонятливый! То-то он мне Мишаню этого подослал. Спасибо, боженька, и за такую подсказку.
Пора было вновь крутить стрелки назад. Начинать этот проклятый день заново.
Глава 15. 1 июля 2001
Адрес лейтенантика я помнил отлично. И показания его помнил: где он был в тот день, что делал. Я даже не сомневался, что застану его дома. Не для того мне Бог подсказку давал, чтобы теперь в догонялки играть.
«Опель» стоял возле подъезда шестнадцатиэтажки, ждал хозяина. Через несколько минут тот появится, сядет в машину, выедет со двора. По дороге захватит свою лахудру и помчит катать по городу, с ветерком… С кровью на колёсах! Так что мне подождать его нужно, и все дела.
Дворик был красивый, ухоженный. Клумбы цветочные, лавочки, детская площадка. Никаких тебе бурьянов и гор мусора, как у нас в микрорайоне. Центр, что ты хочешь! На площадке гасали трое пацанов, взрослых никого не видно. Удачно – никто не помешает разговору. Я подумал, а не буцнуть ли «опель», чтобы сигналка сработала, поторопить хозяина? Нет, не нужно. А то многим интересно станет, что там за шум. Подожду, наберусь терпения.
Кодовый замок на двери подъезда заурчал, щёлкнул. Лейтенант Ковалевский вышел из дому, и я тут же заступил ему дорогу. Поговорим!
– Добрый день.
– Здравствуйте.
Он улыбнулся, посмотрел на меня вопросительно. Именно таким я его и помнил. Молодой, белобрысый, с добродушным открытым лицом, в кроссовках, джинсах, тенниске. Тенниска почти как на мне, только бурого пятна на кармане нет. И не скажешь, что мент. Обычный хороший парнишка…
Через час этот хороший парнишка убьёт Ксюшу. Уже убил. Четыре раза убил, на моих глазах. Просто он пока не знает об этом. Да мне-то что от его незнания?!
Кулаки сжались сами собой. И разжались. Да, это было самое тяжкое испытание. Все остальные знали, что имею я полное право им отплатить. А с этим как?!
Передо мной стоял убийца моей дочери. Не существует вины страшнее. Но я могу его остановить – сейчас, – и Ксюша жива останется. И это будет правильно по любым законам, и по понятиям, и по совести. Потому как дочь спасти – святое. А за него я уже отсидел. Пускай по другой статье – нет разницы, каким именем ад называют. Имел я право сделать с этим «хорошим парнишкой» всё, что угодно. По людским законам.
А по божьим? Неужели и этому простить? Отпустить его, чтобы он Ксюшу шёл убивать?! Да он даже не поймёт, что я его прощаю! Даже если рассказать попытаюсь, не поверит, потому что его дорога с Ксюшиной пока не пересеклась. Подумает, что сумасшедший или пьяный. Сбежит.
И убьёт.
Так по каким же законам мне сейчас действовать, по божеским или по человеческим? Будь проклят Радик вместе с браслетом своим, который прошлое и будущее перемешал! Поманил надеждой исправить то, что произошло уже, а исправить, остановить не получается…
– Вы что-то хотели? – поторопил меня Ковалевский.
Он продолжал улыбаться, не ждал подвоха. Никакой опасности для себя не чувствовал. У него было отличное настроение. Ещё бы! Впереди – выходной день, свидание с девушкой. Убийство.
А почему, собственно, не получается остановить? Остановлю. Ещё и как остановлю!
– Слушай, друг, у тебя монтировки в багажнике случайно нет?
Теперь он смотрел на меня удивлённо.
– Есть.
– Займи на пару минут.
Ковалевский досадливо повёл плечом.
– Знаешь, я вообще-то спешу.
– На пару минут всего!
Он вздохнул. Полез в машину, открыл багажник. Ты смотри, молодец! Другой послал бы подальше.
Ковалевский порылся в багажнике, протянул мне монтировку. Хорошая штука, увесистая. Шваркнуть его по темечку, и все проблемы решатся. Некому будет мою Ксюшу давить.
– Только быстрее, хорошо?
– Да не беспокойся, я мигом!
Я обошёл вокруг машины, и с размаху – хрясь по лобовому стеклу! Качественное, сволочь! С первого удара только трещинки пошли. Ничего, я и ещё ударю. И ещё!
Ковалевский застыл, что твой истукан. Рот раззявил, глаза на лоб полезли.
– Ты… ты что творишь?! – другой на его месте драться кинулся бы, а у этого слёзы в глазах. – Она же новая, я кредит не выплатил…
Я даже плюнул с досады.
– Да не ной ты! На эстэо новое стекло поставят. А денег нет – у друга своего попроси, у майора Мазура. У него много! Шалавы ему исправно отстёгивают.
– Какие шалавы?
Обалдел совсем или, вправду, о майорском «бизнесе» не знает? Да мне какое дело? Плюнул я ещё раз, бросил монтировку ему под ноги, развернулся и пошёл. И абсолютно не боялся, что схватит пацан железяку и вдогонку кинется. Не тот человек. Он и когда Ксюшу сбил, также себя вёл – стоял и сопли пускал, пока дружбаны-менты не приехали. А теперь над машиной пусть поплачет!
Вот так я сделал. И по божеским законам правильно, и по человеческим. Пальцем не тронул, грубым словом не обидел. А кататься с ветерком сегодня у него не получится. Пока на СТО поедет, пока стекло поменяют – мои успеют в цирк сходить и вернуться. Первое июля больше не будет чёрным днём, Ксюша проживёт долгую счастливую жизнь. И я, я-другой, проживу.
К цирку я всё же поехал – взглянуть на дочь последний разок. Что буду делать дальше, я не знал. Не думал об этом.
Они вышли из автобуса радостные, будто чувствовали, что ничего страшного в их жизни не случится. Оксана вытребовала деньги, побежала к переходу. Прилежно стояла, ждала, когда загорится зелёный. И ни одна дрянь не неслась по проспекту, уповая проскочить раньше всех, пока она переходила дорогу. И назад шла также спокойно, разворачивая на ходу эскимо. И все машины пропускали её, замерев на стоп-полосе…
…Откуда он взялся? Я не заметил даже. Стоял где-то у обочины, незаметный, невзрачный, поджидал своего часа.
Зелёная, видавшая виды «пятёрка» с криво присобаченной блямбой «такси» над кабиной резко вывернула на проспект. Да что у него, в мозгах переклинило?! Почему пешеходов не пропустил? Оксана слишком увлеклась мороженым, не заметила этого дурака. Вздрогнула, лишь когда тормоза рядом взвизгнули. Отскочить попыталась, споткнулась, упала. Исчезла под колёсами. Идиот за рулём испугался, ударил по газам, рванул с места. Да ведь нечего страшного не случилось, скорости-то не было у него никакой! Ну, толкнул девочку, ну, упала. Несколько ссадин, ребро треснуло – в самом худшем случае. А так…
Под задним колесом страшно хрустнуло. «Пятёрка» умчалась, а Ксюша осталась лежать, растянувшись поперёк «зебры». И вокруг изуродованной, страшно расплющенной головы её расплывалось алое пятно… За что?!
– Мужчина, вам плохо?
Церковь, о которой рассказывал Мишаня, я нашёл быстро. «Свято-Георгиевский Храм» – сообщала бронзовая табличка рядом с кованой ажурной калиткой. Белые стены с высокими окнами, крест на золочённом куполе, просторный двор, выложенный серой фигурной плиткой с квадратными проплешинами клумб. Слева, за добротными хозяйственными постройками, расположились огороды и виноградники, а в самом дальнем углу двора высовывал из гаража бело-синее рыло «зилок». Видать, крепко стояли на земле божьи служители.
Церковный двор был пуст, но калитка открыта, будто приглашала войти всех жаждущих утешения. Я и вошёл. Пересёк двор, поднялся по ступеням к массивным двустворчатым дверям. Прежде непременно перекрестился бы перед тем, как войти. Не из потребности душевной, а потому что – положено. Обычай, не мною заведённый, не мне его нарушать. Но сегодня у меня были слишком серьёзные счёты к Господу, чтобы обычаи соблюдать.
Внутри церкви тоже оказалось малолюдно. Пара-тройка не то женщин, не то бабок в тёмном. Совершенно незаметные, прячутся по углам. Я прошёл в центр, под самый купол, поднял глаза к небу. Я должен был сказать Ему всё, что я о Нём думаю.
Десятки, а то и сотни ликов смотрели на меня со всех сторон. Смотрели равнодушно, презрительно, осуждающе. Смотрели сквозь меня, словно сквозь пустое место. Будто спрашивали друг у друга: «А это что за мошка? Чего он сюда явился? Разве его кто-то звал?» От их взглядов сохло во рту, тяжесть наваливалась на плечи. Явственное ощущение наваливалось – мне здесь не место, я чужой в этой давильне человеческой воли. Так вот ты каков, Бог?
Я облизнул губы. Хотел спросить громко и чётко, но из горла вырвался шёпот едва слышный:
– Что же ты творишь, а? Разве так можно? Ты же хуже урки, хуже шулера последнего! У тебя же не пять – десять тузов в рукаве! Шельма ты после этого, понял? Шельма, а не бог!
Меня резко дёрнули за рукав. Чёрные женщины уже обступили, смотрели возмущённо, сердито.
– Ты что мелешь, а? Грех-то какой! Пьяный в Храм Божий явился, что ли? Постыдился бы!
– Мне – стыдиться? Мне – грех?! А то, что он творит, не грех?! Ему можно?! Ему не стыдно жульничать?
– А ну убирайся отсюда, хамлюга! Проспись пойди, алкаш чёртов, – прости Господи! Храм Божий языком своим дурным поганишь!
Они взашей меня готовы были вытолкать, глаза выцарапать. Но я и сам ушёл. И дверью хлопнул бы, но не хлопнешь – тяжёлая, стерва, железом окованная.
Выскочил я за калитку, остановился. Кулаки чешутся – так бы и дал в морду. Только кому, непонятно. И непонятно, за что. С Богом пришёл потолковать, как мужик с мужиком? Ох и дурак! Да плевал он на меня со своей высокой колокольни. Если и занимается кто моей проблемой, так самый мелкий ангелок из его канцелярии, шалопай какой-нибудь. И не достучишься ведь, не докажешь. Хуже, чем в исполкоме справедливости искать. Хуже, чем в ментуре даже. Всевидящие, блин, всеблагие… Тьфу на вас!
Мишаня ждал на привычном месте, возле ступенек «Ням-няма». Едва заметил меня, поспешил навстречу.
– Добрый день, уважаемый!
Точь-в-точь как в прошлый раз, и как в позапрошлый. Те же штаны, рубаха, нос сизый.
– Что, выпить не с кем? – спросил я, скрипнув зубами.
– Дык! Не с кем. Душа, понимаешь, просит, а не с кем. А я же не алкаш, чтобы в одиночку пить.
И в грудь себя кулаком стучит. Это меня окончательно добило. Тут мир лепят, что твой пластилин, я Ксюшу спасти не могу, потому как менты эти небесные мне каждый раз новую свинью подкладывают, а ему хоть бы хны! Душа у него, видите ли, просит!
Сгрёб я Мишаню в охапку и спиной – об стенку тёплую.
– Ты кто, блин, такой, а?! Ты что ко мне в душу всё время лезешь? Тебя специально подослали, поиздеваться, да?!
У мужика глаза на лоб выкатились. Залопотал:
– Ты чего?.. Да я тебя первый раз вижу… Да я спросил только…
– Спросил?! Вот и я у тебя спрашиваю – за что бог твой надо мной издевается? Где справедливость, а? Что на земле её нет, я давно знаю. Но там-то, там! Я же всё по заповедям его делал! «Не убий»? Не убивал! «Не укради»? Не крал! Не прелюбодействовал, не лжесвидетельствовал, не завидовал! Простил и возлюбил! И что взамен?! Посмеялись надо мной, поиздевались. Лучше бы я на зоне сдох!
– Да я тут при чём? Я тебе что плохого сделал?
– А кто мне о смирении рассказывал? Кто говорил – молись и терпи? Мол, испытание всё это, а? Враньё это, а не испытание, понял?! Нет ни справедливости, ни воздаяния за дела наши!
Мужик готов был штаны обмочить. И прохожие начинали останавливаться. Ждали, когда драка начнётся? Бесплатное же представление!
Я разжал пальцы, выпустил ворот Мишани, отступил. Он помедлил секунду, а потом – бочком, бочком… Не верил ещё, что без мордобоя обошлось. А мне полегчало – выговорился таки. Теперь думать следовало, что дальше предпринять. Для начала, понятно, время опять назад откатить, потому как сегодня ничего не исправишь. Мне снова во вчера нужно…
Глава 16. 30 июня 2001
За богохульство отмщено мне было сразу же, незамедлительно. Это за хорошим чем, за справедливостью у них на небесах очередь длиннющая, на много веков, небось, расписанная. Но если роптать кто вздумает, то они тут как тут. Вот уж точно, всевидящие, не усомнишься.
Вынырнул я, как привык уже – тридцатого июня. На этот раз вечером, довольно поздно – за окном фонари зажгли. Отдышался, потому как начали мне «прыжки» тяжеловато даваться – голова колоколом гудит, пятна цветные перед глазами плавают, во рту вкус дурной. Видно, в этом деле усталость тоже накапливается, как при тренировках чрезмерных.
Отдышался, гляжу – а квартира-то не моя! Нет, квартира осталась та самая, и сижу я на кухне, где сидел. Стол, клеёнкой застеленный, два табурета, плита с засаленными конфорками, мойка с эмалью облупившейся. Даже занавески на окне те самые, что перед «прыжком» висели. А ощущение – изменилось что-то. Вроде нежилой квартира стала.
Поднялся я с табурета, в комнату пошёл. Та же петрушка – койка застелена аккуратно, не по-моему, стул не на месте. Вернее, на месте, а не там, куда я его задвинул. И часы мои, бесполезными оказавшиеся, с тумбочки исчезли. Открыл шкаф – одни пустые плечики болтаются. Ни костюма с рубашкой, ни башмаков, ни сумки, у майора экспроприированной.
Тут я и сел. И в прямом смысле, и в переносном.
Как-то привык я, что квартира с двадцать девятого числа – моя. И тридцатого всё в ней неизменно оставаться должно, что бы там первого не творилось. Эдакий надёжный плацдарм. Не получилось чёрный день исправить – отступил, успокоился, передохнул, к новой попытке приготовился. Но если разобраться трезво, то чем, собственно, тридцатое от первого отличается? Если там всё пластилиновое, то с чего я решил, что здесь мир железобетонный? В который раз вспомнил и купюры «ненастоящие», лотерейные номера «верняковые», и многое другое, на что внимания сразу не обратил. Ведь если логично подумать – когда я в квартиру съёмную раз за разом возвращался, кого я там встретить должен был? Правильно, себя самого, вчерашнего. Да нас тут целая компания собраться должна! И завтра – первого, то есть – на остановке не протолкнуться бы от Ген Карташовых. А было такое? Нет.
Предположим, первого числа я в единственном экземпляре присутствовал, потому как обманку мне подсовывали вместо настоящего. Но тридцатого? Вещи мои всегда на месте оказывались, после каждого «возвращения». Неувязка выходит!
Как ни старался я найти объяснение, толку от этого получалось чуть. Единственное, чего добился, – голова разболелась. В затылке заныло, будто опять кто-то трубой приложился. И от этой тупой, изматывающей боли я вконец перестал соображать, что мне дальше делать.
Разумеется, не костюм я жалел и не часы. Даже деньги – чёрт с ними! Паршиво, что паспорт лежал в кармане пиджака. Надо же так опростоволоситься! Таскал-таскал его за собой всю дорогу, а тут оплошал. Больно уж уверовал, что при каждом возвращении во вчера начинаться всё будет одинаково – снова, снова и снова. Как в фильме том американском, «День сурка». А здесь не то кино крутили. Совсем не кино…
Не знаю, долго бы я так сидел, затылок пятернёй тёр, но меня поторопили. В двери заскреблось – ключ в замочную скважину вставляют, поворачивают… В первый миг я не испугался, удивился только. С чего бы хозяйке дверь своим ключом отпирать, а не звоночком воспользоваться для приличия? Уверена, что постояльца на месте нет, и решила проконтролировать, что за бедлам он развёл? А потом стукнуло – конечно уверена! Если нет моих вещей в квартире, то и мне здесь быть не положено. Не снимал я её!
Вскочил, соображая, что теперь делать. Спрятаться где-нибудь? А поздно. Дверь, скрипнув, растворилась.
– Заходи, заходи. Посмотри, как тут у меня чистенько всё, прибрано, – донёсся из коридора знакомый голос. Хозяйка вела свою рекламную кампанию. Не для меня ли, часом?! – По такой цене лучше не найдёшь.
Не знаю, откуда взялась эта мысль, – что в коридоре стою я-другой. Мгновенно холодный пот прошиб. Что же это будет сейчас? Мне хреново становилось, едва себя-тогдашнего издалека видел. А если с нынешним, да нос к носу?
На миг захотелось выскочить на балкон и сигануть оттуда. Был бы второй этаж, так и поступил бы. Но с четвёртого – опасно, без ног останешься.
– Там кухня у меня. Эти двери – санузел, раздельный. А тут комната. Проходи, посмотри.
Первое, что я увидел – светлое коротенькое платье, оставляющее открытыми загорелые коленки. Я перевёл дыхание, и лишь после взглянул на вошедшую в комнату девушку. Круглое личико, волосы каштановые, сумочка на ремешке через плечо.
Девушка тоже меня рассматривала. Улыбнулась неуверенно:
– Здравствуйте.
– С кем ты там здороваешься? – поинтересовалась застрявшая где-то в коридоре хозяйка.
– А здесь у вас кто-то есть.
– Кто у меня там?
Хозяйка выглянула из-за спины девушки. И застыла, уставившись на меня. И всё, что она думала, на лице её нарисовалось.
– Здравствуйте, – я тоже улыбнулся, кивнул. Улыбка у меня получилась заискивающая, – Валентина Андреевна.
Имя-отчество хозяйки я добавил по какому-то наитию. По взгляду её видел – не узнаёт она меня, так хоть показать, что я её знаю.
– Здравствуйте. А вы кто такой?
– Я Гена. Я вчера у вас эту квартиру снял.
Ой, зря я так сказал! Должно быть, соврать следовало? Но голова раскалывается, не придумаешь ничего.
Девушка с недоумением оглянулась на хозяйку. А та нахмурилась.
– Что вы мне сказки рассказываете? Я вас в первый раз вижу. Как вы в квартиру попали?
Раз начал, то отступать поздно, буду жать до конца. Вдруг хозяйка поверит, что у неё амнезия кратковременная?
– Я же говорю – у вас квартиру снимаю. И ключ вы мне сами дали.
– Да? И где он?
Оба-на! Ключик-то я из кармана выложил. На тумбочку, рядом с часами. Ясное дело, провалился он туда же, куда и всё остальное. Неудачно получилось. Будь ключ у меня, может, и дожал бы хозяйку. Увидела бы, узнала, да и в самом деле усомнилась бы в своей памяти?
Я развёл руками.
– Кажется, потерял.
– Так-так, – хозяйка кивнула хмуро. И потянула девушку за локоток. – Мы пошли тогда.
Она не сомневалась, как и зачем я попал в её квартиру. И теперь лихорадочно соображала, как вывернуться с минимальными для себя потерями. Мужик-то я не хилый, сразу видно, и рожа зверской выглядит из-за шрама и зубов выбитых. С таким связываться – себе дороже. Сейчас она выйдет из квартиры, и сразу к соседям – милицию вызывать. Тогда уж мне убегать придётся далеко, через браслет. И фиг его знает, какие ещё пакости у небесной канцелярии наготове. Значит, надо это как-то предотвратить.
– Валентина Андреевна, я не домушник. Мне просто переночевать негде было. Я уже ухожу, я ничего у вас не взял.
Хозяйка вновь провела по мне взглядом, словно рентгеном просветила. Особенно на карманах остановилась.
– Не взял, потому что брать нечего, квартира пустая. Откуда знаешь, как меня зовут?
Она чуть успокоилась. Бомж это тебе не грабитель, чего его бояться?
– Я, вправду, снимал у вас квартиру. Давно. Вы забыли, наверное. Так я пойду?
– Давно, ишь ты! Да я второй год только сдаю. Я бы тебя запомнила.
Моему заявлению она не поверила, но в сторону отошла, освобождая проход. И девчонку, ошалевшую от происходящего, оттащила. Никто не остановил меня и не окликнул пока выходил, пока по лестнице спускался. Милицию хозяйка вызывать не станет: кражи не было. Ну, вскрыл кто-то замок, переночевал – делов? Менты и заявление у неё не примут, посоветуют замок надёжный поставить. Значит, бежать мне из этого времени необязательно. Впереди ночь, успею обдумать, что дальше делать. Потому как завтра – ещё одно первое июля.
Шляться до утра по улицам настроения у меня не было никакого. Искать другую квартиру для ночёвки – ни денег, ни документов. Единственный вариант оставался – лавочка в парке. Хочешь – сиди, думай, хочешь – лежи, дремай.
Лавочку я нашёл быстро. Не поломанная, достаточно чистая и стоит в месте укромном, отгороженном от аллеи стеной высокого кустарника и деревьями – видно, молодёжь перетащила подальше от фонарей и любопытных глаз. Хорошая лавочка. Единственный недостаток – у той же самой молодёжи популярная. Пока я сидел, раза три парочки наведывались, но узрев мою образину, планы меняли, ретировались. Вот и «добренько», как Мишаня говаривал.
Перво-наперво я взялся думать. Но хоть голова болеть и перестала, сочинить план действий на завтра у меня всё равно не получилось. Когда задницу отсидел окончательно, плюнул я на это дело и растянулся вдоль лавки. Локоть под ухо, глаза закрыл – и не в таких условиях кемарить приходилось. С тем, что опять кошмар увижу, смирился заранее. Как говорится, ничего не попишешь.
Но сон не шёл. То ли из-за луны – прямо в глаза светит, стерва, – то ли по какой другой причине не засыпалось, хоть тресни. Я и с закрытыми глазами лежал, и с открытыми – без разницы. А когда силишься заснуть и не можешь, обязательно раздражаться начинаешь. Буквально каждая мелочь мешает. Например, мусор, вокруг лавки набросанный. Казалось бы, какое мне до него дело, не я здесь дворником работаю! Ан нет, лежу, разглядываю. Вон пустая пачка сигаретная. Обёртка из-под мороженого. Даже две. Окурков – вообще не счесть. Это у нас как положено, это везде, в любом месте. Свиньи, а не народ. Мало того, что всякую дрянь в рот тянут, так мусорят вдобавок.
А ещё днём на лавочке кто-то ел вишню. Косточек наплевали и рассыпали полкулька. В лунном свете ягоды казались круглыми блестящими камешками. Я смотрел на них, и думал, что сто лет не пробовал склянки, даже вкус её забывать начал. Кисло-сладкий, доводящий до оскомины… Вкус детства. На миг захотелось протянуть руку, поднять парочку ягод, обтереть, сунуть в рот. Даже слюна выступила от предвкушения. Еле сдержал себя – не хватало с земли подбирать.
Заснуть по-настоящему у меня так и не получилось. Полудрёма-полувоспоминание. Или всё-таки заснул и сам не понял? Провалился далеко-далеко…
Склянки в том году уродило немеряно. Покрытые алой, глянцево-блестящей кожицей ягоды словно светились изнутри. Если аккуратно снять тонкую кожицу, увидишь золотисто-жёлтую, сотканную из меленьких жилок мякоть, исходящую соком. Вся мякоть – один сплошной сок. Придави покрепче губами, и выпьешь вишенку досуха. Гроздья ягод облепили ветви деревьев так густо, что издали те казались не зелёными, а бурыми. Ветви не выдерживали созревшей на них тяжести, клонились к земле. Некоторые, самые старые и хрупкие, обламывались.
Рвать склянку – это было моей работой. И малину, смородину, чёрную и красную, крыжовник, яблоки, груши, сливы, абрикосы – всё, что росло в бабушкином саду. А также полоть грядки, таскать вёдрами воду, рвать на пустыре за домами траву для кур. Большой двор на краю посёлка – наполовину сад, наполовину огород, – это было и моё «море», и мой «пионерлагерь» на всё лето. Дедушка умер весной, перед самыми майскими праздниками и бабушка осталась одна. А двор требовал мужских рук, и кто же поможет, если не родной внук, взрослый почти? У родителей отпуск в августе, а до августа о-го-го сколько сделать всего нужно!
Примерно так я себе объяснял ситуацию. Родители сказали попросту: «Гена, ты бабушке помогай. Ты уже большой». «Большой» и «взрослый» – не синонимы. И когда тебе тринадцать, «взрослый» нравится гораздо больше. Считать себя взрослым мужиком было приятно, и я помогал бабушке изо всех сил. Даже когда она пыталась остановить меня, не поддавался.
– Геня, да ты уморился совсем! – так меня называла только бабушка. Мама – Гена, Геночка, отец – Генка, Геннадий. И только у бабушки получалось мягко и ласково. А я стеснялся этого «Гени». Что за имя для мужика?! – Книжку возьми почитай.
– Ой, ба, на книжки зимы хватит.
– Тогда на ставок иди, скупайся.