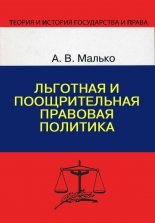И сколько раз бывали холода (сборник) Свичкарь Татьяна

И ветер, и листва зелёная, весенняя, и весь мир – навстречу. И уже не кресло несёт, а ты сама летишь, и это не удивительно, потому что в пятнадцать лет – ты всё можешь.
На «Лодочках» я всегда прошу Митю:
– Только не сильно раскачивай, чтобы не перевернуться… А то больше не пойду с тобой никогда…
– Когда я тебя переворачивал? – весело удивляется он. – В которую пойдём? Вон в ту, голубую?
Тётка двинула на себя блестящий рычаг с чёрной рукоятью, из-под лодочки ушла опора, и она закачалась.
И вот тут надо следить за Митькой, потому что, вроде несильно и размеренно приседая, откидываясь назад, с невинном такой улыбочкой, он в минуту разгоняет лодку так, что летишь вниз – у-ух, и ноги отрываются от железного дна, и тётка уже кричит:
– Хулиган, сломаешь щас всё! Прекрати щас же!
– Митька, урод, чтоб я ещё когда-нибудь с тобой!..
– А мы вот ещё повыше!
– Козёл, убью!
– Ни фига себе дама ругается! – хохочет Митька и приседает в очередной раз.
Я уже готова завизжать от страха или вцепиться в него, но нельзя, ни за что нельзя отпускать эти железки, за которые держишься. Или я вылечу… куда вылечу? Куда меня отбросит та сила, что сейчас отрывает от земли?
…Мы вылезаем из лодочки, я колочу Митьку ладонью по спине, приговаривая: «Чтобы ещё раз с тобой, уродом…» А он церемонно подаёт мне руку, помогая перебраться через бортик, как даме помогают выйти из кареты.
– И больше не смей приходить! – визжит аттракционная тётка. – Милицию вызову…
Но Митька уже играет другую роль – джентльмена.
– А не пойти ли нам всем за мороженым? – любезно предлагает он. – Я плачу, господа!
Летом Митьку обязательно увозят: август они с мамой проводят в Пятигорске, у родных. Вернутся перед самой школой.
Этот месяц мы с Валькой живём тихо. Удивительно, как много мы молчим, когда остаёмся вдвоём. С Валькой можно молчать, как наедине с собой, и думать о своём, и забывать, что он рядом.
Мы проводим дни у него или у меня. Он так же охотно помогает мне в делах повседневных, как я ему. Мы собираем яблоки в нашем саду. А потом вместе с бабушкой сидим и в три ножика тоненько их нарезаем. Раньше дедушка расстилал газеты на крыше сарая, забирался, раскладывал яблочные дольки – сушить на солнце. После бабушка ссыпала их, коричневые, невесомые, в наволочки – на зимние компоты.
Валька не даёт дедушке лезть на сарай:
– Пётр Иванович, я сам…
…Вечерами мы сидим в саду на скамье. Я читаю вслух очередную книжку, цапнутую в библиотеке. «Землю Санникова», или «Королеву Марго», или «Тайну двух океанов».
Валька рисует.
Один раз, всего лишь раз, он нарисовал меня.
Я стояла на качелях, на тех самых «лодочках». Закинув голову и смеясь – небу… И всё было – в водопаде тех ярких бликов, без которых невозможно представить Валькины рисунки. Всё летело – и моё белое платье, и руки, и волосы, и лодочка, и небо – навстречу. Красный, зелёный, синий, золотой – ликующий водопад, фейерверк цветов… Но я была одна на тех качелях. Без Мити. Я – и небо…
Валька положил сырой ещё альбомный листок поверх страниц, рассказывающих как граф Монте-Кристо испытывал на себе яды.
– На…
И я снова, как всегда, когда видела Валькины картины, испытала короткое, щемящее чувство тоски, что живу в этом, а не в том, его, мире. Я хочу на эти качели, под этот водопад ярких и чистых цветов. Валька, нельзя быть волшебником наполовину! Забери меня туда…
Осень разделяла нас. Мы учились в разных школах. И если ранняя осень – это почти лето, целые рощи разноцветных астр в саду, сахаристые на разрезе арбузы и жёлтые зёрна кукурузы – мы натираем початки маслом и солью и упиваемся ими, ещё дымящимися, то приходит время, когда город всё глубже и глубже погружается, увязает в непогоде. В холодном дожде, в сетке обнажившихся ветвей. И листва под ногами – уже не золотым, невесомым, шуршащим ковром – ржавая, тёмная, начинает гнить…
А потом какой-нибудь один день – тёплый, последний. И город – как одна большая комната. Кажется, что горы защищают его от идущего холода, от зимы. Зима рядом, может быть, в нескольких часах пути, но пока мы бродим по улицам, как по тёплой комнате, где ни ветерка нет.
В такой день – будто случайно, но год за годом так выходит – мы собираемся вечером в кафе. Кофе слабый, почти прозрачный, но такой горячий, опаляет пальцы. Пирожные – розовые цветы, зелёные листья – и вся зима впереди.
Валька чертит пальцем на салфетке – ему тоже тосклив грядущий ноябрь, нелюбимый наш месяц: нет уже красоты осени, нет ещё радости первого снега.
– Ну что? – спрашивает Митя, оглядывая загрустившее своё войско (так вышло, что мы всегда считали его полководцем). – Идём сегодня на «Зорро»?
Или – на «Вокруг света за восемьдесят дней», или на «Юного Робин Гуда»…
– Да там же мальчишки, толпа у кассы, не пробиться…
Но мы пробиваемся. Хоть какой-нибудь фильм, но посмотрим. В городе два кинотеатра. И в одном из них – два зала. Синий и розовый. Медленно, волшебно меркнет там свет.
Но «Зорро» идёт во Дворце культуры, и действительно мальчишек – тьма. Давятся в очереди к маленькому окошку кассы, и мест нам может не хватить.
Но невозможно не попасть – всего один сеанс, один день! И так страстно наше желание, что высшие силы слышат его, Митя возвращается с билетами.
…Плывут перед глазами рыжие степи далёкой страны. Грациозно несёт конь героя в чёрном плаще и маске.
- Вновь издалека
- Конь принёс седока…
- И вот он тут,
- И новые подвиги его шпагу ждут…
Звучит песня, мелькают фамилии артистов, а мы уже дрожим от восторга, предвкушая.
На глазах у испанца Диего убивают его друга, который должен стать губернатором небольшого городка. Диего, лучший фехтовальщик Старого Света, будет мстить. Но друг перед смертью молит его о мире…
Хорошо! Диего сыграет роль новоиспечённого губернатора-дурачка, но в нужную минуту превратится в неуловимого Зорро. И берегись жестокий полковник Уэрта, покончивший с его другом!
И будет прекрасная Ортензия, и отчаянные минуты, и бои на шпагах сразу со множеством противников, и смех героя. Потому что по жизни только так и можно идти – смеясь в трудную минуту. Несмотря ни на что.
Выходить на улицу – больно. Ведь мы ещё там, рядом с Зорро…
Возвращаемся почти ночью – мальчишки провожают меня до дома. В шесть ног ворошим листья, и первые в жизни стихи приходят ко мне:
- Снова осень, и поздний костёр —
- Так высок, ненадёжен и ярок,
- Тишины и души разговор,
- Утоляющий сердце подарок.
- Ночь завесы пути убрала,
- Ветер волен – от края до края,
- И сырая парижская мгла
- Нам огни зажигает, играя…
- Все признания пьяных кафе,
- Перебранка и нежность бульваров,
- Кринолинов и лат не новей
- Очертанья домов и кварталов,
- Дальше, дальше… Арктических гор
- Ледяные отроги и шпили,
- И сияния чистый топор
- Поднимается в искристой пыли…
- Но дороги свернула петля
- Нашей тихой стоянке навстречу —
- Преют листья, наги тополя,
- И готовы всё выдержать плечи.
Наступала вторая половина осени – предзимье. Но ещё случались дни с холодным муторным дождём, тёмные дни, когда с утра до вечера в домах не гас свет и дождь вместе с порывами ветра бил в стёкла.
Появлялся Валька, весь мокрый. Видел, что я мучаюсь со стенгазетой, и садился помогать. Получалось дело уютное, как вязание. Когда за стенами дождь, а у нас неспешно проходит вечер. Я переписываю тексты красивым почерком на альбомные листы, чтобы потом наклеить их на ватман. Вывожу каждую букву.
Под Валькиной рукою плывут по бумаге корабли, горят костры, рассыпаются фейерверки. Что хотел, то и творил он – кисточкой. И всё – молча. Он очень любил тишину, прислушивался к ней, как к музыке, и всё в ней слышал: и ветер, в доме еле слышный, но там, на улице, клонивший ветви деревьев, и каждую каплю дождя, стекавшую по стеклу, оставляя за собою расплывчатую дорожку.
Его музыка была неслышной, а Митиной восхищались все.
Бабушка Митю обожала. Он приходил и, едва сбросив куртку, садился к старенькому нашему пианино «Красный Октябрь», пробегал пальцами по клавишам…
Это началось случайно, когда бабушка попробовала напеть нам – надтреснутым, дрожащим, но верным ещё голосом – один из любимых романсов Вертинского:
- Где Вы теперь? Кто Вам целует пальцы?
- Куда ушёл Ваш китайчонок Ли?
- Вы, кажется, потом любили португальца,
- А может быть, с малайцем Вы ушли…
Митя тогда немедленно поднялся, подошёл к инструменту и заиграл. Я видела, что он немного утрирует, может быть – стесняясь нас: закидывает голову, томно прикрывает глаза, слишком высоко взлетают его пальцы над клавишами…
Но бабушка пела, а Митька делал роскошную аранжировку, нанизывал звуки, плёл из них кружева. Получалась – роскошь.
- Последний раз я видел Вас так близко.
- В пролёты улиц Вас умчал авто.
- Мне снилось, что в притонах Сан-Франциско
- Лиловый негр Вам подаёт манто.
Митька закончил шикарным проигрышем, уронил руки вдоль тела, а подбородок на грудь.
– Митенька, – бабушка зааплодировала, – ещё, пожалуйста, ещё!
– Только если будете петь, – галантно сказал Митька, но смотрел он на меня, и я будто впервые увидела, как темны его брови и изящен их излом и как дерзок взгляд его… Он играл не бабушке, он играл – мне.
И мы пели. Хотя я совершенно не музыкальный человек. О таких говорят: медведь на ухо наступил. Но разве в этом дело?
– Все вместе, и… – начинал Митя.
- Господа офицеры,
- Голубые князья…
- Я, конечно, не первый,
- И последний не я…
– Митя, – растроганно говорила бабушка, – ты сам как благородный офицер. Юнкер.
Бабушка моя родилась перед Первой мировой войной, и белых офицеров ей видеть не пришлось. Она была совсем маленькой, когда за её родной город сражались зелёные и красные. К слову, зелёные чуть не убили бабушку и её сестру. Всадники встретили девочек на дороге – они шли в больницу навестить мать. Чёрные косы навели на мысль о еврейках.
– Жидовки? Хотите жить, читайте «Отче наш»!
Старшая сложила младшей руки на груди, и девочки начали молитву, которую читали каждое утро и каждый вечер.
– Ни, цэ наши дивчыны, – сказал один из всадников, и отряд поехал дальше.
А дальше были только красные, красные, красные… И короткое счастье с дедушкой, его арест по доносу ложному, лагеря, почти безнадёжное ожидание… И этот город, куда дедушка фактически был сослан после заключения. Крохотный городок, где дедушка, инженер-электрик, был нужен позарез. Но и отсюда ему время от времени приказывали уехать «в двадцать четыре часа». Начальник ходил заступаться, уверял, что без такого специалиста совсем невозможно. И только в последние десятилетия жизнь наконец стала мирной, без этого дамоклова меча над головой.
Зима. Я разгребаю варежкой снег на пруду. Получается тёмная «секретка» льда. Под нею застывшая ряска, водоросли, хрусталь воды…
– Будьте осторожнее, – предупреждала бабушка. – Я помню случай, когда пьяный шофёр проломил ограду парка и съехал в воду. Сам выплыл, а женщина с ребёнком, что были с ним в машине, утонули. Даже зимою тут лёд ненадёжный – родники.
Позже, в пору нашей юности, пруд обмелеет – одни камыши останутся да лужицы воды. И мы увидим, что дно совсем рядом.
– Какая машина? – вспомнит Митя бабушкины слова. – Да тут и котёнка нельзя утопить…
Но мне это место и сегодня кажется каким-то мистическим, вроде зыбучих песков, и я стану предупреждать свою дочку:
– Не подходи близко. Там родники…
Выпускной вечер. Пустые полки магазинов. Почти отчаяние – что надеть? Но в город завозят итальянский шёлк. Светло-голубой, синий, фиолетовый, алый… У всех девчонок – платья из этого шёлка в разных вариантах.
Мне шьёт бабушкина подруга, тётя Рая. Она тоже не ас в шитье, как и женщины нашей семьи. «Но хоть иголку держать умеет», – говорит бабушка. Платье выходит очень простое, без рукавов, бледно-голубое, почти серебристое. Из обрезков материала Валька мастерит розу, которую я прикалываю у ворота. В первый раз уделяю я своему наряду такое пристальное внимание, и оттого – трепет. Долго стою перед зеркалом. Оно висит неудачно: коридор, полутьма. Решаю – хороша ли?
И тут мне не Митя нужен, мне Валька нужен, который вглядывается остро и прикрывает глаза успокаивающе – хороша.
Позади муторная пора экзаменов, до сих пор тошнота у горла от этих полубессонных ночей и не-разбери-пойми-каши из формул, законов, дат…
Но уже стоят вдоль школьной лестницы первоклассники, трогательные такие, серьёзные, ответственные. С цветочками в руках. Живой коридор – провожают нас в большую жизнь.
Мы не будем тосковать о школе. Я ненавижу нашу учительницу литературы Аннушку, начавшую знакомство с нами с фразы:
– Что вы на меня так смотрите, будто на кулачный бой со мной выходить собрались?
А мы тогда просто разглядывали новую учительницу. Невысокая, темноволосая, с выражением лица подчёркнуто строгим. Точно она много лет работала над тем, чтобы не осталось в нём ни тени мягкого, человечного – полуулыбки, взгляда.
Нельзя говорить о литературе с таким лицом. И верным оказалось то первое впечатление.
Вместе с Аннушкой можно было возненавидеть и все произведения школьной программы – если воспринимать их через неё.
Только гениальный дед Щукарь, случайно зачерпнувший в пруду воду вместе с лягушкой и пытавшийся выдать её работникам полевым за разварившуюся в каше курицу, только он примирил меня с «Поднятой целиной». После того как Аннушка долго, испытывая наслаждение от процесса, отчитывала меня перед всем классом – что не знаю я упомянутой в романе статьи Сталина «Головокружение от успехов».
А теперь она занудно вещает об ожидающем нас прекрасном жизненном пути, хотя, если будут рядом люди, подобные ей, лучше заранее удавиться.
Танцевали мы в спортзале. Как всегда во время медленных танцев, мальчишки выходили покурить, а девчонки подпирали стены, делая вид, что отдыхают от танцев быстрых.
У нас было условлено, что в первом часу ночи собираемся мы у ворот моей школы: если уж принято непременно встречать рассвет, то лучше это делать втроём. Однако у Митьки не хватило терпения ждать, и, отстояв торжественную часть в своей школе, он тут же вместе с Валькой сбежал в нашу.
Только начали играть «Школьный вальс», как Митька возник передо мной с подленькой улыбочкой:
– Мадемуазель, пошлите отчебучим…
– Вальс… ты сошёл с ума… я же не умею…
– Хватит придуриваться… Мама тебя учила, всё ты умеешь…
– Митька, ты точно сошёл с ума…
– Только ни о чём не думай…
Я положила руки ему на плечи. Почему, почему это было так похоже на бег по морскому песку, когда сорвался с места и летишь – и не можешь никак напиться движением, оторваться от той силы, что несёт тебя?..
Он кружил меня быстро и сильно. А у меня глаза были закрыты, и я только удивлялась – откуда берётся эта пустота, этот большой зал, это пространство… как в квартире Мастера и Маргариты. А оказывается, мы танцевали одни. Весь зал был наш, и весь вальс был наш.
А потом мы сразу ушли, чтобы не видеть реакции моих одноклассников. И так теперь до конца жизни на встречах выпускников будут вспоминать: «А как тогда на выпускном, Ирка…»
Ушли на наши холмы, что у Берёзовой рощи. Сейчас бы сказали, сумасшедшие. Ведь ночью в лесу маньяки, убийцы, алкаши… А мы сидели на склоне холма: мы с Валькой – привалившись спина к спине, и Митька чуть поодаль, обхватив руками колени.
Внизу лежал город. Была глубокая ночь, и город тёмен, почти без огней… Зато как здесь много неба! Нигде нет столько неба, как на краю Берёзовой рощи. Если ляжешь лаже страшно. Кажется, что ты лежишь не просто на земле, а на Земле, что с неё можно сорваться и унестись в это бесконечное небо, и не удержит тогда тебя сухая трава, за которую схватишься.
– Мить, что можно увидеть в хороший телескоп? – спросил Валька.
– Кратеры Луны – подробно, пояса Юпитера, спутники Сатурна, полярные шапки Марса, самые яркие туманности и галактики.
– Целый мир, – вздохнул Валька. – И мы – это такая фигня… Читали Азимова про звёзды? Как люди на одной планете всю жизнь видели только несколько ближайших звёзд. А потом происходило какое-то явление, вроде затмения, и тогда становились видимыми миллионы звёзд. И все сходили с ума, понимая вдруг, как огромен мир. И горели от рук безумнцев города, и гибла цивилизация, и всё начиналось снова.
– Мы – это не фигня, – возразил Митя.
Он хотел сам взять быка за рога. Вести корабли, погружаться в глубины. Он хотел стать океанологом. Вместо того чтобы подчинять воду, как его отец, он хотел слиться с могуществом океана. Он был бессмертен и всё мог – это не странно в семнадцать лет.
– Когда уезжаешь? – спросил Валька. – Ничего ведь не изменилось – в Ленинград?
Митя ответил не сразу, тихо:
– Через две недели.
У него не было выхода. Если он рвался в огромный этот мир, ему надо было выходить из гавани, это неизбежно. Все мы разлетимся скоро, но он улетит дальше всех.
– Мы теперь будем жить в Ленинграде. Отца перевели туда, – рассказывал Митя. – Но дом не продадим. Тут будет жить тётя Шура, мама станет приезжать. Мама говорит – нельзя продавать родные стены. Очень больно в старости, если нельзя вернуться в родные места. А я-то вырос тут.
Мне было трудно. С одной стороны, я страстно хотела вырваться из маленького городка – душно тут было, знакомо всё, до лица, до дерева… С другой стороны, не хватало мне ещё внутренней смелости – рубануть сплеча, начать всё заново – в другом городе или даже в другой стране.
Но что бы там ни было, родные не дадут мне уехать далеко. А Митя будет жить почти в столице, и я стану для него провинциалкой. Начнётся проверка временем, и время скажет своё слово – быть ли нам вместе когда-нибудь.
– Валька, а ты так и не пойдёшь в художники? – спросил Митя.
– Не трави душу, – коротко сказал Валька. – Куда мне ехать? Матери сейчас малых поднимать…
– Ну на заочный куда-нибудь…
Валька безнадёжно махнул рукой, и мне показалось, что он сейчас заплачет. Особые у нас с ним были отношения, ещё с тех пор, с больницы. При мне он мог заплакать, а при Митьке – нет.
– Неужели всё-таки ПТУ? – в этом вопросе уже было Митино отношение к выбранному Валькой пути.
Никому не пожелаю тех первых месяцев, какие были у меня в Куйбышеве. Холодно, голодно и тоскливо. Надо было радоваться, что я поступила на филфак, но ей же богу, мне тогда было всё равно – на кого учиться. На инженера, циркача, алхимика. У Вальки с его ПТУ был долг перед семьёй. А у меня в голове – только один вопрос: какого чёрта меня сюда занесло, в чужой город? Но теперь родные не позволили бы мне бросить институт: им было ясно, что я не технарь, а ближайшие гуманитарные вузы были только в Куйбышеве. Поступить трудно, бросить нельзя…
Помню свою абсолютно скулёжную фразу – дедушке, когда я просила забрать меня, говоря, что готова хоть общественные туалеты мыть, лишь бы не уезжать далеко от дома:
– А там… в общежитии… там меня никто не любит.
Я попала, как кур в ощип («в ощип» или «во щи»?). Очень домашняя девочка, книжная, любящая тишину и одиночество. А тут общежитие, да ещё скверное. Лифт не работает, воды то и дело нет, окна разбиты, конфорки единственной на кухне плиты еле греют.
Было голодно: мы старались жить на стипендию, не брать денег у родителей. Пили по утрам чай с хлебом, днём на контрабандной плитке варили в комнате суп – абы из чего, хлёбово – лишь бы погорячей и погуще. Вечером – снова чай, с дешёвой ливерной колбасой, если её удавалось раздобыть.
Было холодно. Наши уехали в колхоз – убирать картошку. Меня по здоровью не взяли. На ночь я стаскивала одеяла со всех пяти коек. Одеяла были тонкие, байковые, зелёные в красную полоску. Я мёрзла под всеми пятью. Говорили, что батареи затопят только в ноябре. Холод не давал спать. Я клацала зубами так, что в коридоре слышно было.
А потом вернулись девочки, и полубессон-ница стала привычной – раньше двух-трёх ночи никто не ложился. Приходили ребята из других комнат: разговаривали, пели, курили, готовились к семинарам.
Литературы приходилось просматривать огромное количество. Большинство книг можно было достать только в читальном зале областной библиотеки. Тогда она располагалась в театре оперы и балета. Прежде на этом месте был собор. После революции его взорвали и воздвигли театр – огромное тёмно-серое здание. Библиотека размещалась в его левом крыле. Всё монументальное, величественное: лестницы, залы…
Читальный зал был на третьем этаже. В числе других книги выдавала девушка поразительной красоты. Такою можно представить себе Терезу Батисту из романа Жоржи Амаду. Высокая, напоминающая мулатку, с гладкой смуглой кожей, пышными кудрявыми тёмными волосами. У неё были огромные глаза и пухлые, очень красивого изгиба губы. Радостно было просто смотреть на неё. Бескорыстно любоваться. Звали её Ирина. На втором этаже располагалось книгохранилище. Здесь люди работали за огромными массивными столами – по десять-двенадцать человек. Какое наслаждение было расположиться за таким столом, вольготно разложить тяжёлые тома.
Пару раз доводилось ходить в ОРК – отдел редкой книги. Туда ещё надо было добраться – какими-то переходами, лестницами… Маленькая комната под самой крышей. Окно – аркой. На подоконнике голуби. Книги выдаёт женщина в пуховом платке на плечах. Книгам больше сотни лет.
Я мечтала когда-нибудь так работать. Подниматься с утра по бесконечным лесенкам, высоко-высоко, сидеть в маленькой комнате, среди этой древности – там даже мебель была старинная…
Ближе к восьми вечера библиотека начинала пустеть. В правом крыле в окнах горел свет, и видно было, как репетируют балерины. И, когда по лестнице спускаешься – по гулкой широкой лестнице с чугунными перилами – на первый этаж, вспоминаешь мемуары Татьяны Вечесловой. И перед глазами – эти девочки-танцорки, которые тоже живут в общаге и сбегают по лестнице своими точёными ножками – совсем неслышно, потому что и они лёгкие, и тапочки мягкие. И у них тоже пуховые платки на плечах: на лестнице всегда сквозняки, а им нельзя болеть – в выходные спектакль. И они шепчутся между собой, и они скучают по дому – совсем как я…
Но мне в крайнем случае можно уйти, бросить университет, а им – невозможно, потому что это их судьба. Искусство вообще невозможно бросить…
В десятом часу открываешь тяжёлую дверь, выходишь на площадь – снег крупными хлопьями летит в лицо. Позади – серая громада театра. И надо спешить на трамвай, а в голове путаются века, имена… И гаснет свет в танцевальном зале.
Митя приехал в последнюю неделю перед Новым годом. Я была в комнате одна. Наступила пора зачётов, и соседки мои разъехались по домам, чтобы готовиться спокойно, а потом приехать и сдать. А я жила слишком далеко, мне уезжать не с руки, По метельной зимней дороге в день испытания к нужному часу можно и не добраться. Уже не раз бывало, что в такую погоду, как нынче, автобусы подолгу стояли на трассе.
Я сидела на постели, время от времени взглядывая в окно. С нашего девятого этажа вид был на частный сектор – как с башни на бескрайнее тёмное море. Освещением частный сектор никогда не был избалован. Только белые вихри бурана. Девочки мне на словах даже завидовали, что в такую пору они – в дорогу, а я остаюсь в каком-никаком, но уюте общаги.
Короткий стук в дверь – это было непривычно. У нас никто не стучался. Даже когда мальчишки по вечерам заходили, изображая «полицию нравов», а на самом деле узнать, не покормят ли их здесь.
Я ещё не успела встать, когда дверь открылась. На пороге стоял Митя. В первый миг я онемела и даже не могла осознать, до какой степени я рада, и только ошалело его рассматривала. Незнакомая куртка, меховая, дорогая, и такая же роскошная шапка на голове, в искорках тающего снега. В руках какой-то большой свёрток.
– Это Валька тебе прислал одеяло, сказал – ты тут мёрзнешь. – Митя положил свёрток мне в ноги.
Впервые в жизни я бросилась ему на шею. Мы обнялись и стояли долго-долго…
– Ирочка, – повторял Митя и гладил мои волосы, – Ирочка…
А я прикусывала губы, чтобы не плакать, потому что это была истерика какая-то: я была рада ему до того, что – слёзы на глазах.
– У нас один вечер, – повторял он. – Завтра мне нужно уезжать…
– Где ты?.. Как ты?.. Что ты?.. Рассказывай…
– Это всё неважно… – шептал он. – Иришка, что ты так похудела? Плохо тебе здесь?
Не сказано было, не услышала я этих слов: «Забрать тебя?» Это я потом уже думала. А тогда – только б не отрывали меня от его груди, от теплоты его свитера, куда я вжалась лицом и замерла…
…Я ещё играла в хозяйку: «Ты, наверное, очень замёрз? У меня есть суп – я сейчас разогрею на плитке… И кофе есть, это здесь страшный дефицит, но Верочка привезла целую банку… Погоди, я наберу воды, поставлю чайник…»
Он ещё рассказывал: «Ничего не вышло, как я мечтал. Отец сказал – инженером будешь, только инженером. Поступил, учусь, тягомотина… Но там красиво, в Ленинграде, сказочно… Ты же приедешь ко мне?»
Мы ещё распаковали Валькино одеяло. Атласное, красное, пуховое, оно вздымалось под руками и пахло нежностью – если у нежности может быть запах…
Он ляжет на Вериной постели. Но ему будет холодно – под тем тонким, байковым… А если укрыться Валькиным одеялом – вдвоём? В комнате темно. И в первый раз мне тут тепло. Жарко. Он склоняется надо мной и целует… так легко… и так долго… А я подставляю лицо его поцелуям, и это – как капли райского дождя. И его руки, и это блаженство…
…Он уезжал с первым автобусом, в шесть утра. Какой тогда был холод! На моей памяти не было больше такого холода. Всё яркое, будто на другой планете. Воздух можно расколоть, как лёд. Не вздохнёшь – так обжигает мороз. У меня была тёплой только рука, которую держал Митя.
Автовокзал. Объятие – шуба в шубу… а если бы – тело в тело… Всхлип. И его уже не видно за стёклами автобуса, заросшими толстым слоем инея.
Но он повторяет, и я понимаю – что:
– Я приеду, я приеду очень скоро… Мы поженимся……
Я плачу навзрыд.
– Я приеду, я приеду…
И я вижу, вижу, что его лицо блестит тоже – мокрое от слёз – при свете фонарей.
Я стала заходить в салон для новобрачных. Присматривалась к платьям, туфлям, открывая для себя этот восхитительный мир воздушных полупрозрачных и кружевных тканей. Звучали слова: гипюр, атлас, сетка, шифон, стразы… Я вспоминала, что в детстве оценивала красоту невесты по длине фаты. Если до полу фата – настоящая невеста, сказочная. Если короткая – то просто дура: как можно было выбрать такое убожество? Я не могла отойти от платьев: трогала, перебирала в пальцах ткань. Белоснежное, шифоновое, с розами у плеча, сливочное – на нём столько блёсток, что корсаж весь переливается, бледно-голубое на кринолине, как у дам в старину…
Теперь, когда я оглядываюсь назад, вижу один короткий период, когда я жила всем этим девичьим – платьями, духами… И тотчас в пальцах – ощущение тяжести флакончика. На улице ясный-ясный, прозрачный мороз, аж дыхание перехватывает, ледяной узор сказочных разбойничьих лесов горит на витрине магазина, а моя ладонь уже пахнет Индией, сандаловыми деревьями, белыми тропическими цветами.
Апрель. Я еду на выходные домой. Солнце – летнее, в автобусе открывают не только форточки, но и люк, тот, что на крыше. А зелень на полях такая нежная…
Я ещё не знаю, что это – страшный день. Что сегодня случилась авария на Чернобыльской АЭС. И тысячи людей умрут в ближайшие годы, хватанув смертельную дозу. Среди них будут и мои знакомые. Радиация протянет свои щупальца и в наш маленький городок. О тех, кто будет участвовать в ликвидации аварии и, вернувшись, начнёт болеть – безнадёжно, заговорят как о диковинных зверьках, чей быстрый конец неизбежен:
– Ну, это ж дядя Петя, он чернобылец.
На мне брюки цвета хаки и синий свитер. Жарко, и свитер хочется снять. А через день пойдёт снег и я попрошу у бабушки её тёплое пальто, чтобы было в чём уехать обратно. В отчем доме у меня не осталось тёплых вещей.
Первым делом близкие тащат меня в сад. Это предмет гордости – столько тюльпанов просунуло свои зелёно-фиолетовые носы сквозь пожухшую листву! Уже зацветают нарциссы, с их тонким запахом. А крокусы даже отцветают. Первые сборчатые листья распустились на смородине…
– Мы можем сегодня жечь костёр, смотри, какую кучу листвы я нагребла, – упоённо говорит мама. Садовые работы – её страсть. – А потом в золе будем печь картошку.
– Заходила тётя Нина, дала мне луковицы синих гладиолусов – представляешь? – это бабушка. – Сорт называется «Океан».
– Какая тётя Нина? Митина мама?
Значит – приехала. А может – приехали? Но нет, Митька бы уже объявился у моих. И всё равно побежать к его дому – это как подарок. В любом случае я узнаю о нём.
У тёти Нины то же тонкое лицо – не изменилось, не постарело. Красно-золотой платок повязан чалмой, длинные серьги в ушах и Митькины глаза.
Она ведёт меня в комнату, где тоже всё по-прежнему. Блеск овального стола под низкой люстрой. Так же плотно стоят за стеклом полок книги, которых никогда не трогали, перед ними ряды скульптурок – из фарфора, бронзы, хрусталя…
Те же фотографии на стенах – и Митька, совсем мальчишка, лохматый такой…
Сейчас тётя Нина сварит кофе и посадит за стол, и будет та самая еда, из детства…
Кофе густ и горек. Тонкий фарфор чашки. Миндальное печенье, которое тётя Нина печёт сама…
– Тётя Нина, дорогая, когда Митя приедет?
Она смотрит на меня так, словно у меня горе.
– Не знаю, деточка. У него очень много дел, – покачивает головой тётя Нина. – Экзамены…
– А вы надолго здесь? Когда поедете назад? Может быть, я с вами?
Тётя Нина подпирает голову тонкой красивой рукой, и тихо позванивают её серьги. Словно вызванивают: «Н-нет… н-нет…»
Нет, она не поедет.
И больше ничего о Мите. Она будто не слышит моих вопросов. И голос мой тонет в этой глухоте, как в вате…
Валька заканчивает первый курс училища. Будет слесарем. Мать довольна, что он получает стипендию, бесплатное питание и проездной билет на автобус.
Куда нам пойти с Вадькой? Мы уже выросли и под лодкой просто не поместимся. Мы медленно идём по дорожке Берёзовой рощи. Меж деревьев видны остатки каменной танцплощадки. Когда-то здесь танцевала моя мама. На мне пальто с чужого плеча… На зелёную траву крупными хлопьями летит снег.
– Он женился, Ир…
– Что?!
Позже, много позже я узнаю, что Валька, получив Митино письмо, сорвался к нему. Письмо было смятенное, с просьбой не говорить мне.
И такой же смятенной была их встреча. Валька, в первый и последний раз попав в этот сумасшедшей красоты город, просто его не заметил. Они стояли над Фонтанкой, неподалёку от Митиного дома, и, опершись о парапет, говорили, говорили… Тем же вечером Валька уезжал. Митя снова слёзно просил его ничего не говорить мне.
– Я исчезну, просто исчезну – так ей будет легче.
– Адиёт, – хмуро сказал Валька. И взгляд у него был тяжёлым.
И вот он идёт рядом со мной. Есть люди, которые тебя просто любят и в такие горестные минуты ставят тебя под водопад своего тепла. Льют на тебя свою душу, поток слов и ты отогреваешься, отогреваешься…
Валька пытался понять, что произошло. И объяснить это мне.
– Понимаешь, Новый год, компания… Этот дурак напился. Ну и девочки. Ну и как дважды два… У неё… у неё… скоро кто-то родится… А тогда – он называл её твоим именем. Он думал, что это ты.
Валька держал мою руку. Я не ощущала его прикосновения, а потом почувствовала. Валька всегда умел унимать боль.
– Погоди, тебе нельзя домой с такой мордой лица, – сказал Валька. – Идём ко мне, посидим.
У Вальки дома тоже ничего не изменилось. Те же ободранные полы, та же кровать, под которой когда-то стояла коробка с чёрным котёнком. Но хорошо, что я сижу у него: дома испугались бы, увидев, что я начала задыхаться. А Валька метнулся, принёс бутылку дешёвого вина. И вот он обнимает меня, стискивает, чтобы руки были прижаты, и подносит стакан ко рту.
– Пей!
Меня трясёт, мне нечем дышать…
– Пей быстрее…
Валька – специалист по выживанию. Он с детства это умеет.
И дрожь отпускает. Я никогда так не плакала. У Вальки вся рубашка на груди уже мокрая. Он слегка покачивает меня, как мать ребёнка.
– Валька, – икаю я, – разве так можно? Валька, как так можно…
Я трясу головой и развожу руками, объясняя без слов. Что-то у меня было в руках, оно упало и – вдребезги.
Валька сидит, закусив губу, и лицо у него нехорошее.
Мне кажется, будь здесь сейчас Митя и будь у Вальки ружьё, он бы его просто пристрелил.
Третий час ночи. А метель всё кружит… Аська уже спит…
Зачем я тогда так быстро вышла замуж? Когда ко мне стали возвращаться силы, я сделалась злой. И всех воспринимала как предателей. Дедушку – за то, что именно он настаивал на учёбе, не разрешал вернуться домой из города, где мне было так плохо. Митя… его я ненавидела первого. И даже Вальку – за то, что тот пытался Митю понять. Я не хотела их больше видеть. Я хотела покончить со своей прежней жизнью. Оборвать все нити.
А Боря оказался настойчивым, немолодым уже человеком, которому надо было жениться. Близкие надеялись, что жена отобьёт его у бутылки. Я с алкоголиками дела никогда не имела и западни не распознала.
Было ли что-то хорошее в этом замужестве? Крым, Евпатория. В свадебном путешествии я второй раз в жизни увидела море. Сейчас чувство, что я была там одна. Мой муж каждое утро покупал четыре бутылки марочного крымского вина и в течение дня выпивал их. Это было для него как общий наркоз. Почти всё остальное время он спал.
Заручившись его равнодушием, я ездила на экскурсии. В пансионате нашем их предлагали много.