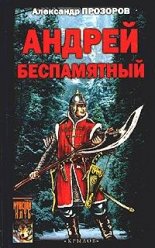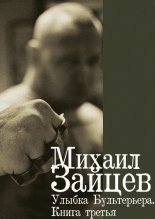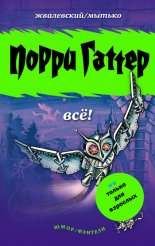Скованный ночью Кунц Дин
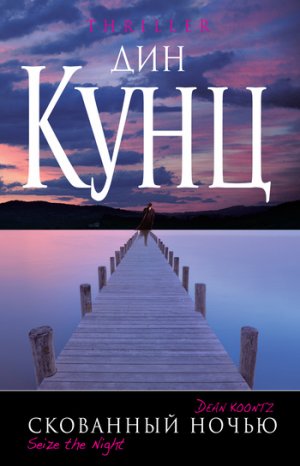
Меня зовут Кристофер Сноу. Данный отчет является частью моего личного дневника. Когда вы прочтете его, возможно, я буду мертв. Если же я остался жив, то благодаря этому репортажу стал — или скоро стану — одним из самых знаменитых людей на планете. Но если никто не прочел этого — значит, мир, каким мы его знали, перестал существовать и человеческая цивилизация исчезла навсегда. Я тщеславен не более, чем любой средний человек, и вместо вселенского признания предпочел бы вести тихое и мирное анонимное существование. И все же, если придется выбирать между Армагеддоном и славой, я согласен на славу.
Часть I
Пропавшие дети
Глава 1
На другие места ночь спускается, но к Мунлайт-Бею она подкрадывается на цыпочках, производя столько же шума, сколько его производит лижущий берег нежный темно-сапфировый прибой. Когда на рассвете ночь отступает через Тихий океан к далекой Азии, она делает это неохотно, оставляя на подъездных аллеях, под припаркованными машинами, в дренажных канавах и под кронами старинных дубов черные озерца.
Тибетская легенда гласит, что священные Гималаи — это дом всех ветров, где рождаются и легкий бриз, и яростная буря. Если у ночи тоже есть свой дом, то им, без сомнения, является наш городок.
Одиннадцатого апреля, минуя Мунлайт-Бей по пути на запад, ночь забрала с собой пятилетнего мальчика по имени Джимми Уинг.
Около полуночи я ехал на велосипеде, колеся по улочкам у подножия холмов неподалеку от колледжа Эшдон, в котором когда-то преподавали мои родители. До того я был на берегу: стоял почти полный штиль, и прибой не стоил доброго слова, так что не имело смысла раздеваться и спускать на воду серф. Орсон, метис черного лабрадора, трусил со мной рядом.
Мы с мохнатой образиной не искали приключений, просто дышали свежим воздухом и удовлетворяли общую для обоих потребность в движении. Почти каждую ночь мы с ним ощущали смутное беспокойство и томление духа.
Нет, в живописном Мунлайт-Бее, который был одним из самых тихих и в то же время самых опасных мест на планете, искать приключений стал бы только дурак или сумасшедший. Тут было достаточно несколько минут постоять на месте, чтобы приключения нашли тебя сами.
Лилли Уинг живет на тенистой улице, заросшей душистыми пиниями. Фонарей здесь не было; стволы и изогнутые ветви казались черными как уголь; лишь кое-где лунный свет освещал перистые кроны и серебрил грубую кору.
Я заметил ее, потому что между стволами пиний сновал взад и вперед луч фонарика. Полоска света упала передо мной на мостовую, и тени деревьев словно подпрыгнули. Лилли звала сына. Она пыталась кричать, но ее голос заглушили одышка и страх, отчего имя Джимми превратилось в неразборчивое шестисложное слово.
Поскольку на дороге было пустынно, мы с Орсоном двигались посреди мостовой, чувствуя себя королями дороги. Мы свернули к тротуару.
Когда Лилли пробежала между двумя пиниями и очутилась на улице, я спросил:
— Барсук, что случилось?
Я прозвал ее Барсуком двенадцать лет назад, когда нам было по шестнадцать. Тогда ее звали Лилли Трейвис, мы любили друг друга и верили, что нам на роду написано быть вместе. Среди длинного списка наших общих увлечений была книга Кеннета Грэма «Ветер в ивах», в которой мудрый и смелый Барсук мужественно защищал всех добрых зверей в Пустоши.
«— В этом месте любой мой друг ходит там, где ему нравится, — говорил Барсук своей подружке Моул, — а если нет, я выясняю почему!»
Вот так и Лилли. Те, кто сторонился меня из-за моего редкого недуга, кто называл меня «вампиром» из-за моей врожденной непереносимости даже самого слабого света, подростки-психопаты, которые сговаривались мучить меня, колотили и светили в глаза фонариком, которые говорили обо мне гадости за спиной, как будто я нарочно родился с пигментозным экзодермитом, — все они держали ответ перед Лилли, лицо которой начинало пылать, а сердце колотиться от безудержного гнева при любом проявлении нетерпимости. Как всякому мальчишке, мне волей-неволей пришлось научиться драться. К тому времени, когда я встретил Лилли, я был уверен в своей способности постоять за себя; тем не менее она настаивала на своем и приходила ко мне на помощь так же отчаянно, как это делал Барсук, сражавшийся за свою Моул дубиной и когтями.
Она была худенькая, но сильная. Хотя в Лилли не было и метра шестидесяти, она нависала над любым врагом как башня. Она была такой же грозной, бесстрашной и яростной, как доброй и изящной.
Однако в ту ночь обычное изящество покинуло Лилли; ее тело, двигавшееся рывками, корежил страх. Услышав мой голос, она обернулась. В джинсах и фланелевой рубашке навыпуск, она казалась таинственно ожившим ощетинившимся пугалом, смущенным и испуганным тем, что оно рассталось со своим шестом.
Луч света омыл мое лицо, но стоило Лилли понять, кто я, как она немедленно опустила фонарик.
— Крис… О господи!
— Что случилось? — снова спросил я, слезая с велосипеда.
— Джимми пропал!
— Убежал?
— Нет. — Она отвернулась и заторопилась к дому. — Вот, посмотри сам!
Участок Лилли был огорожен белым штакетником, поставленным ею самой. Но столбами калитке служили две бугенвиллеи, подрезанные кроны которых образовывали арку. Ее скромное бунгало типа «Кейп-Код» находилось в конце затейливо петлявшей кирпичной дорожки, которую Лилли выложила сама, освоив специальность каменщика по книгам.
Входная дверь была открыта настежь. За ней находились ярко (а для меня смертельно ярко) освещенные комнаты.
Но Лилли не повела нас с Орсоном внутрь, а быстро свернула с кирпичной дорожки и пошла по газону. Стояла ночь, и в тишине стук спиц, задевавших о низко подстриженную траву, казался громким. Мы шли к северной стороне дома.
Окно спальни было распахнуто. Внутри горел ночник; стены освещали полоски янтарного света и медово-коричневые тени от плетеного абажура. На книжной полке слева от кровати стояли фигурки из «Звездных войн». Холодный ветер выстуживал дом; одна из двух светлых штор лежала на подоконнике и трепетала, как призрак, не желающий покидать этот мир и уходить к себе.
— Я думала, что окно закрыто, но, должно быть, ошиблась! — отчаянно воскликнула Лилли. — Какой-то сукин сын открыл его и утащил Джимми!
— Подожди. Может быть, все не так плохо.
— Подлый ублюдок! — не унималась она.
Пытаясь справиться с дрожью, сотрясавшей ее руку, Лилли направила пляшущий луч фонарика на клумбу под окном спальни.
— У меня нет денег, — сказала она.
— Денег?
— Чтобы заплатить выкуп. Я небогата. Поэтому никто не будет красть Джимми из-за выкупа. Тут дело хуже.
Нарушитель оставил после себя что-то вроде печати Соломона, покрытую лепестками белых цветов, сверкавшими, как лед. Следы глубоко впечатались в палую листву и влажную рыхлую землю. Они ничем не напоминали отпечатки ног бегущего ребенка. Судя по дерзкой цепочке глубоких следов, оставленных кроссовками, похититель был человеком взрослым и крупным. Скорее всего, то был мужчина.
Я увидел, что Лилли босиком.
— Я не могла уснуть и смотрела по телевизору какое-то дурацкое шоу, — сказала она с ноткой самобичевания, словно должна была ждать этого похищения и стоять у постели Джимми на страже.
Орсон протиснулся между нами и понюхал отпечатки.
— Я ничего не слышала, — сказала Лилли. — Джимми даже не вскрикнул, но у меня было такое чувство…
Ее обычно красивое лицо, ясное и светлое, как отражение вечности, сейчас было искажено ужасом и изборождено болезненными морщинами. Она держала себя в руках только благодаря отчаянной надежде. Даже в тусклом свете обращенного вниз фонарика зрелище было душераздирающее.
— Все будет в порядке, — сказал я, стыдясь этой бессовестной лжи.
— Я позвонила в полицию, — сказала она. — Они должны быть здесь с минуты на минуту. Где же они?
Я по собственному опыту знал, что полиции Мунлайт-Бея доверять нельзя. Она продажна. Но продажность полиции была вызвана не аморальностью, алчностью или стремлением к власти; корни ее были куда более глубокими и страшными.
Сирен слышно не было, да я и не надеялся их услышать. В нашем странном городке полиция реагировала на звонки исключительно по своему усмотрению и передвигалась не только без сирен, но и без мигалок, потому что чаще стремилась скрыть преступление и заткнуть рот жалобщикам, чем схватить преступника и предать его суду.
— Ему пять лет, всего пять, — с несчастным видом промолвила Лилли. — Крис, а вдруг это тот парень из новостей?
— Из новостей?
— Серийный убийца. Тот самый, который… сжигает малышей.
— Это не здесь.
— По всей стране. Каждые несколько месяцев. Сжигает заживо нескольких ребятишек. Почему не здесь?
— Потому что тут не то, — ответил я. — Тут совсем другое.
Она отвернулась от окна и обвела двор лучом фонарика, как будто надеялась увидеть своего взлохмаченного сынишку в пижаме среди палой листвы и скрученных полосок белой коры, пятнавших траву под сенью высоких эвкалиптов.
Уловив тревожный запах, Орсон издал низкое рычание и попятился с клумбы. Он посмотрел на подоконник, втянул в себя воздух, снова сунул нос в землю и осторожно пошел к задней части дома.
— Он что-то обнаружил, — сказал я.
Лилли обернулась.
— Что?
— След.
Добравшись до заднего двора, Орсон перешел на рысь.
— Барсук, — сказал я, — не говори им, что мы с Орсоном были здесь.
Страх заставил ее ответить шепотом:
— Кому не говорить?
— Полиции.
— Почему?
— Я вернусь и все объясню. Клянусь, что найду Джимми. Клянусь.
Два первых обещания я мог выполнить. Третье же было всего лишь выражением желания и было дано только для того, чтобы поддержать в Лилли хотя бы тень надежды.
Честно говоря, торопясь вслед за моим необычным псом и толкая вперед велосипед, я знал, что Джимми Уинг пропал навсегда. Самое большее, что я ожидал найти там, где закончится след, — это мертвого мальчика, а если повезет — человека, который убил его.
Глава 2
Добравшись до задней части дома Лилли, я не увидел Орсона. Пес был черным как уголь, и даже света полной луны было недостаточно, чтобы заметить его.
Тут справа донеслось тихое «уф-ф», за ним второе, и я откликнулся на зов.
На дальнем конце двора находился гараж, в который можно было заехать только с улицы. Кирпичная дорожка вела от гаража к деревянной калитке. Орсон стоял возле нее на задних лапах, положив передние на задвижку.
Честно говоря, этот пес неизмеримо умнее прочих четвероногих. Иногда я подозреваю, что он намного умнее меня.
Если бы у меня не было рук, то из стоящей на полу миски ел бы я. А Орсон в это время сидел бы в удобном кресле и нажимал на кнопки телевизионного пульта.
Демонстрируя свое единственное преимущество, я отодвинул засов и открыл скрипнувшую калитку.
С задней стороны аллеи стоят только гаражи, сараи и заборы. На дальнем конце выщербленный и потрескавшийся асфальт переходит в пыльный проулок, который, в свою очередь, ведет к старой эвкалиптовой роще и деревянной изгороди, за которой начинается овраг.
Дом Лилли стоит на краю города. Дальше — пустошь, в которой люди не живут. Полевые травы и разбросанные по пологим склонам дубы служат домом ястребам, койотам, кроликам, белкам, полевым мышам и змеям.
Своим поразительным носом Орсон пытливо изучал сорняки, росшие на краю оврага. Он сунулся сначала на север, а потом на юг, тихонько поскуливая и рыча.
Я стоял между двумя деревьями и смотрел в темноту, которую не могла рассеять даже полная луна. Внизу не было ни огонька. Если Джимми утащили туда, похититель должен был обладать незаурядным ночным зрением.
Орсон коротко тявкнул, резко прервал поиски и вернулся на середину проулка. Он двигался по кругу, словно хотел поймать себя за хвост. Но голова Орсона была поднята; пес разнюхивал след.
Для него воздух был смесью разнообразных ароматов. Каждая собака обладает чутьем, которое в тысячи раз тоньше нашего с вами обоняния.
Единственным запахом, который мог различить я, был едкий лекарственный запах эвкалиптов. Орсон, влекомый другим, намного более подозрительным запахом (так кусочек железа неотвратимо влечет к магниту), рысью помчался на север.
Может быть, Джимми Уинг еще жив.
Моей натуре свойственна вера в чудеса. Почему бы не поверить в еще одно?
Я оседлал велосипед и поехал вслед за собакой. Орсон двигался быстро, уверенно, и мне пришлось поднажать.
Позади оставались квартал за кварталом, лишь изредка освещенные тусклыми лампочками, которые горели над задними дверями домов местных обитателей. По привычке я держался подальше от этих сверкающих пятен, двигаясь темной стороной проулка, хотя мог бы проехать освещенный пятачок за секунду-другую без серьезного ущерба для здоровья.
Пигментозный экзодермит — по-латыни Xeroderma pigmentosum, или XP для тех, кто не хочет сломать язык, — это унаследованная генетическая болезнь. Я разделяю ее с членами закрытого клуба, в который входит тысяча человек со всех концов Америки. Один на 250 000 граждан, ХР делает меня чрезвычайно уязвимым к раку кожи и глаз, развивающемуся под влиянием любого ультрафиолетового излучения. Солнечный свет. Лампочки накаливания или люминесцентные трубки. Потная идиотская физиономия на телеэкране.
Если бы я посмел провести полчаса на летнем солнце, то сильно обгорел бы, но одного ожога не хватило бы, чтобы убить меня. Весь ужас ХР заключается в том, что даже недолгое ультрафиолетовое излучение укорачивает мою жизнь, потому что его действие накапливается. Через несколько лет микроскопические повреждения превращаются в повреждения, видимые невооруженным глазом, и злокачественные опухоли. Шестьсот минут экспозиции, растянутые на год, приведут к тому же сокрушительному результату, что и десять часов непрерывного пребывания на знойном июльском пляже. Конечно, свет уличного фонаря менее вреден, чем яростное сияние солнца, но он тоже небезопасен.
Ничто не безопасно.
Ваши прекрасно функционирующие гены могут легко восстановить повреждения кожи и глаз, которым вы подвергаетесь каждый день, сами того не сознавая. Ваше тело в отличие от моего постоянно производит энзимы, которые сдирают с клеток организма поврежденные сегменты и заменяют их обновленной ДНК.
Я должен жить в тени, в то время как вы наслаждаетесь роскошным голубым небом, но я не испытываю к вам ненависти. Я не осуждаю вас за то, что досталось вам даром… хотя и завидую.
Я не сержусь, потому что вы тоже живые существа и, следовательно, несовершенны. Может, вы некрасивы, может, соображаете слишком туго или слишком быстро, чтобы это шло вам на пользу, может, вы глухой, немой или слепой, обреченный природой на отчаяние и ненависть к себе, или испытываете необычный страх перед Смертью. Каждый из нас несет свое бремя. Но, с другой стороны, если вы красивее и умнее меня, награждены пятью острыми чувствами, еще более оптимистичны, чем я сам, высоко цените себя и тем не менее разделяете мой отказ унизиться перед Жницей… что ж, я мог бы возненавидеть вас, если бы не знал, что вы, как и все обитатели этого несовершенного мира, обладаете робкой душой и разумом, угнетенным скорбью, потерями и тоской.
Вместо того чтобы сердиться на ХР, я считаю его благословением. Мой жизненный путь уникален.
Я коротко знаком с ночью. Знаю мир между закатом и рассветом лучше любого другого, потому что я брат совы, летучей мыши и барсука. В темноте я как дома. Это куда большее преимущество, чем вам кажется.
Конечно, никакие преимущества не могут компенсировать того, что любого больного ХР ждет преждевременная смерть. Мало кто из нас доживает до совершеннолетия и при этом не испытывает таких прогрессирующих психических расстройств, как дрожание рук и головы, потеря слуха, заикание и даже слабоумие.
До сих пор я дергал Смерть за усы безнаказанно. Недуги, о которых предупреждали врачи, пока что обходили меня стороной.
Мне было уже двадцать восемь лет.
Сказать, что я жил взаймы, было бы не банальностью, а просто подтверждением факта. Вся моя жизнь была сплошной закладной.
Впрочем, так же, как и ваша. Рано или поздно платить по счетам придется каждому. Скорее всего, я получу уведомление раньше вас, но и ваш счет тоже придет по почте. Пока же почтальон не постучал в дверь, радуйтесь. Ничего другого вам не остается. Отчаяние — глупая трата драгоценного времени.
Итак, в эту холодную весеннюю ночь, в глухой час, когда до рассвета еще было далеко, я спешил за своим хвостатым Шерлоком Холмсом, веря в чудесное спасение Джимми Уинга. Мы промчались по пустым аллеям и безлюдным бульварам, миновали парк, где Орсон не остановился, чтобы задрать лапу у одинокого дерева, миновали здание школы и начали спускаться на нижние улицы. Пес вел меня к реке Санта-Розите, которая разделяла наш город надвое, спускаясь с гор и впадая в бухту.
В этой части Калифорнии, где среднегодовой уровень осадков составляет всего тридцать семь сантиметров, реки и ручьи большую часть года стоят сухими. Последний сезон дождей был не более обильным, чем обычно, и русло реки полностью обнажилось: то было широкое пространство, заполненное высохшим илом и тускло серебрившееся в свете луны, гладкое, как простыня, если не считать разбросанных там и сям темных пятен плавника, напоминавших спящих бродяг, руки и ноги которых скрючены ночными кошмарами.
Честно говоря, Санта-Розита, несмотря на свои двадцать метров в ширину, больше похожа не на реку, а на искусственный канал. В соответствии с федеральным проектом обеспечения безопасности со стороны водных потоков, которые во время сезона дождей могли обрушиться на Мунлайт-Бей с тыла, ее берега были подняты и укреплены широкими бетонными дамбами, тянувшимися через весь город.
Орсон свернул с улицы и потрусил к узкой полоске суши вдоль дамбы.
Следуя за ним, я проехал между двумя парными знаками, расставленными вдоль всего русла. Первый из них гласил, что купаться в реке запрещено и что к нарушителям будут приняты самые суровые меры. Второй, адресованный тем, кто на законы плевать хотел, растолковывал, что течение во время половодья бывает необыкновенно бурным и запросто смоет каждого посмевшего сунуться в воду.
Однако, несмотря на все предупреждения и знание коварного характера реки, история повторялась: каждые несколько лет в Санта-Розите тонул очередной искатель приключений на самодельном каяке, плоту, а то и водном велосипеде. А однажды весной утонуло сразу трое. Это было уже на нашей памяти.
Человеческие существа всегда пылко отстаивают дарованное им господом право на глупость.
Орсон стоял на дамбе, подняв лохматую голову и глядя на восток, в направлении шоссе Пасифик-Кост и вздымавшихся за ним холмов. Он замер от напряжения и тихонько заскулил.
Этой ночью в залитом лунным светом пересохшем канале не было и намека на движение. Ветерок с Тихого океана был недостаточно сильным, чтобы над илом поднялся пыльный призрак.
Я глянул на светящийся циферблат наручных часов. Каждая минута могла стать для Джимми Уинга последней — конечно, при условии, что он еще жив.
— Ну, что там? — поторопил я Орсона.
Пес не удостоил меня ответом. Навострив уши, он с видом гурмана втягивал в себя ароматный воздух и едва не задыхался от запаха некоей жертвы, доносившегося со стороны пустынной реки.
Как обычно, я понимал настроение Орсона. Хотя я обладал самым примитивным обонянием и ничем не отличался от простого человека (если не считать роскошного гардероба и солидного счета в банке), однако улавливал те же самые запахи.
Мы с Орсоном не просто человек и собака. Я ему не хозяин. Он мой друг, мой брат.
Когда я говорил, что считаю братьями сову, летучую мышь и барсука, это было фигуральное выражение. Но когда речь идет об Орсоне, меня следует понимать буквально.
Я посмотрел на петляющее русло, которое поднималось в холмы, и спросил:
— Тебя что-то пугает?
Орсон поднял взгляд. В его эбеновых глазах отражалась луна. Сначала я по ошибке принял ее за отражение своего лица, но мое лицо не было ни таким круглым, ни таким таинственным.
Ни таким бледным. Я не альбинос. Кожа у меня пигментированная, и я скорее смуглый, хотя редко бываю на солнце.
Орсон фыркнул. Не требовалось знать собачий язык, чтобы понять смысл этого выражения. Эта дворняга была оскорблена моим предположением, что ее так легко напугать.
В самом деле, Орсон намного храбрее большинства представителей своего вида. За те два с половиной года, что я его знаю — от щенячьего возраста до сегодняшнего дня, — я видел его испуганным только однажды. Когда мы столкнулись с обезьянами.
— Обезьяны? — спросил я.
Он снова фыркнул. На сей раз это означало «нет».
Значит, не обезьяны.
Вернее, пока не обезьяны.
Орсон зарысил к широкому бетонному пандусу, который спускался к берегу Санта-Розиты. В июне — июле по нему ездили грузовики и экскаваторы ремонтников, очищавших сухое русло от накопившегося мусора и в целях безопасности углублявших его перед очередным сезоном дождей.
Я пошел за псом. На испещренном темными пятнами склоне его черная фигура казалась такой же материальной, как тень. Однако на фоне слабо мерцающего ила он стал похожим на камень, хотя по-прежнему стремился на восток, словно влекомый домом призрак, пересекающий безводный Стикс.
Поскольку последний сезон дождей кончился три недели назад, дно реки было совершенно сухим. Кроме того, ил уплотнился до такой степени, что по нему можно было ехать на велосипеде.
Насколько я различал при жемчужном лунном свете, велосипедные шины оставляли на слежавшемся иле заметный след. Но след, оставленный недавно проехавшим здесь более тяжелым транспортным средством, был куда заметнее. Судя по ширине, то был след микроавтобуса, легкого трактора или спортивного автомобиля.
Окруженный с двух сторон шестиметровым валом, я был полностью закрыт от ближайших городских зданий и видел лишь слабые очертания домов на холмах, скрывавшихся под сенью деревьев и лишь частично освещенных уличными фонарями. А когда мы спустились на дно, городской пейзаж полностью исчез из виду, как будто ночь была сильнейшим растворителем, в котором без следа рассосались дома и жители Мунлайт-Бея.
Через неправильные промежутки в бетонных стенах попадались дренажные отверстия. Некоторые имели диаметр от полуметра до метра, в то время как сквозь другие мог бы спокойно проехать трактор. Следы шин проходили мимо этих отверстий и тянулись в холмы плавно, как строчки, написанные на листе бумаги, — за исключением тех мест, где они огибали знаки препинания, расставленные плавником.
Хотя Орсон стремился только вперед, я косился на эти отверстия с подозрением. Во время грозы из них лились потоки воды с улиц и желобов, проложенных в возвышавшихся над городом травянистых восточных холмах. Сейчас, в хорошую погоду, эти стоки казались подземными переулками тайного мира, в котором можно было столкнуться с чрезвычайно странными путешественниками. Казалось, из любого отверстия вот-вот кто-нибудь выскочит и бросится на нас.
Надо признаться, у меня слишком богатое воображение, чтобы судить о вещах здраво. Иногда оно доставляло мне сложности, но куда чаще спасало жизнь.
Кроме того, бродя по этим дренажным трубам, вполне достаточным, чтобы вместить человека моего роста, я уже видел несколько странных вещей. Странных и загадочных. Таких, которые могли бы напугать и человека, начисто лишенного воображения.
Так как солнце неизбежно поднимается каждый день, моя жизнь должна была проходить в границах города, чтобы к рассвету я мог оказаться в надежно затененных комнатах своего дома. Учитывая, что местное население составляло двенадцать тысяч человек плюс три тысячи студентов колледжа Эшдон, наш городок был вполне достаточным полем для игры жизни; никто не назвал бы его стоячим болотом. Тем не менее к шестнадцати годам я знал каждый дюйм Мунлайт-Бея лучше, чем собственное лицо. В конце концов, стремясь избавиться от скуки, я нашел отдушину в том замкнутом кусочке мира, который оставил мне ХР; меня на какое-то время увлекли подземные ходы. Я излазил все дренажные трубы, представляя себя Призраком, крадущимся по царствам, раскинувшимся под прижским Гранд-опера[1]. Правда, у меня не было его накидки, шляпы клошара, шрамов и безумия.
Но в последнее время я предпочитал оставаться на поверхности. Как каждому родившемуся на свет, мне предстоит довольно скоро отправиться под землю на постоянное место жительства.
Когда мы миновали очередное отверстие, Орсон внезапно прибавил шагу. След был свежим.
Устье, уходившее на восток, постепенно сужалось. В том месте, где Санта-Розита проходила под шоссе, ее ширина составляла всего двенадцать метров. Тоннель насчитывал более тридцати метров в длину, и хотя в его дальнем конце виднелся мерцающий лунный свет, вокруг царила кромешная тьма.
Видимо, чуткий нос Орсона не улавливал запаха опасности. Пес не рычал.
Но и не лез наобум. Он стоял у входа, опустив хвост, навострив уши, и напряженно вслушивался в темноту.
Я долгие годы бродил по ночам, беря с собой лишь кошелек с мелочью для нечастых покупок, маленький фонарик (на тот редкий случай, когда темнота была скорее врагом, чем другом) и сотовый телефон, подвешенный к поясу. В последнее время я добавил к этому джентльменскому набору еще кое-что: 9-миллиметровый пистолет «глок».
«Глок» висел под курткой в наплечной кобуре. Мне не нужно было прикасаться к пистолету, чтобы помнить про него; его вес давил на мои ребра, как опухоль. Тем не менее я сунул руку под куртку и сжал рукоятку жестом суеверного человека, дотронувшегося до своего талисмана.
Черную кожаную куртку дополняли черные кроссовки «Рокпорт», черные носки, черные джинсы и черный свитер с длинными рукавами. Я носил все черное не потому, что маскировался под вампира, священника, убийцу-ниндзя или голливудскую знаменитость. В этом городе по ночам имело смысл не только носить с собой оружие, но и держаться в тени, оставаясь как можно менее заметным.
Оставив «глок» в кобуре и не слезая с велосипеда, но поставив ноги на землю, я отстегнул от руля фонарик. У моего велосипеда не было фары. Я столько лет прожил в ночи и в комнатах, освещенных одними свечами, что моим привыкшим к темноте глазам редко требовалась помощь.
Луч проник в бетонный тоннель метров на девять. Проход имел прямые стены и потолок в виде арки. В его первой части не было ничего угрожающего.
Орсон вошел внутрь.
Прежде чем последовать за собакой, я поднял голову и посмотрел на машины, с ревом мчавшиеся на север и юг по шоссе № 1. Этот рев всегда казался мне одновременно возбуждающим и полным меланхолии.
Я никогда не водил машину и, вероятнее всего, никогда не буду ее водить. Во-первых, даже если бы я защитил руки перчатками, а лицо маской, ничто не спасло бы мои глаза от света фар встречных автомобилей. Во-вторых, я не смог бы проехать далеко на север или юг побережья, потому что не успел бы вернуться до рассвета.
С удовольствием прислушиваясь к этому шуму, я обвел взглядом широкие бетонные опоры по обе стороны тоннеля. Вершину длинного склона венчало металлическое ограждение; фары то и дело освещали его, но самих машин я не видел.
И тут краешком глаза я не то заметил, не то мне почудилась какая-то притаившаяся на вершине южной опоры фигура, не такая черная, как окружающая ее ночь, слегка освещенная фарами проносившихся по шоссе машин. Она была по эту сторону ограждения, едва видимая, однако распространявшая ауру угрозы, как химера, стоящая на парапете кафедрального собора.
Но стоило повернуть голову и присмотреться, как тени от огней автомобилей заплясали у меня перед глазами, словно стая воронов, взмывшая в воздух в разгар грозы. Более плотная фигура, окруженная пляшущими призраками, устремилась по диагонали вниз, удаляясь от меня и от опоры на юг, вдоль травянистой насыпи.
Не успел я моргнуть глазом, как она оказалась вне досягаемости мощных фар и затерялась в ночи, отделенная от меня шестиметровой стеной дамбы. При желании она могла вернуться и войти в тоннель вслед за мной.
Впрочем, вполне возможно, что ей не было до меня никакого дела. Думать, что галактики вращаются вокруг тебя, приятно, но центром Вселенной я себя все же не считал.
Честно говоря, таинственная фигура могла существовать только в моем воображении. Я видел ее долю секунды и не был абсолютно уверен, что она мне не почудилась.
Но все же я снова полез под куртку и притронулся к «глоку».
За это время Орсон углубился в тоннель под шоссе № 1 настолько, что луч фонарика не мог его обнаружить.
Оглянувшись и не заметив позади преследователя, я двинулся за собакой. На велосипед садиться не стал, а предпочел идти пешком и толкать его левой рукой.
Мне не хотелось, чтобы правая рука, держащая оружие, была занята фонариком. Кроме того, свет мог облегчить незнакомцу преследование и делал меня удобной мишенью.
Хотя русло пересохло, стенки тоннеля издавали влажный запах; холодный бетон пах известкой.
Шум машин, отделенных от меня несколькими слоями стали, бетона и земли, эхом отдавался в полукруглом своде. И все же он не сумел заглушить звук приближавшихся шагов того, кто крался следом. Я несколько раз оборачивался, но луч фонарика неизменно освещал лишь гладкие бетонные стены и пустынную реку.
Следы шин продолжались по другую сторону тоннеля и бороздили видимый отсюда участок Санта-Розиты. Тут я выключил фонарик, положившись на естественное освещение. За шоссе канал № 1 сворачивал направо, уходя от него на восток-юго-восток. Уклон русла становился заметно круче.
Хотя на окружающих холмах еще теснились дома, мы приближались к окраине города.
Я знал, куда мы идем. Знал уже давно, но не хотел верить. Если Орсон не ошибся и машину, оставившую взятый им след, действительно вел похититель Джимми Уинга, то он вез мальчика в Форт-Уиверн, заброшенную военную базу, которая была причиной большинства нынешних трудностей Мунлайт-Бея.
Уиверн, раскинувшийся на 70 тысячах гектаров и занимающий намного более обширную территорию, чем наш городок, обнесен высоким сетчатым забором. Забор поддерживается залитыми цементом стальными столбами и увенчан колючей проволокой. Он пересекает реку; обогнув поворот, я увидел припаркованный темный «Шевроле-Сабурбан». След, по которому мы шли, закончился.
Автомобиль стоял метрах в двадцати. Я был уверен, что там никого нет, но приближался к нему осторожно.
Низкое рычание Орсона говорило о том, что он тоже опасается машины.
Я обернулся и осмотрел только что проделанный отрезок пути, но не заметил и намека на крадущуюся химеру, увиденную мной на восточном склоне шоссе № 1. И тем не менее я не мог избавиться от ощущения, что за мной следят.
Положив велосипед рядом с кучей плавника, хищно вонзившего зубы в несколько сухих шаров перекати-поля, я сунул фонарик за пояс и вынул из кобуры «глок» — полностью безопасный пистолет со встроенным предохранителем; чтобы начать стрельбу, не требуется сначала нажать на какой-нибудь маленький рычажок.
Это оружие не однажды спасало мне жизнь. Оно добавляет уверенности, но нельзя сказать, что я управляюсь с ним без всякого труда. Едва ли мне это когда-нибудь удастся. Вес и конструкция тут ни при чем; пистолет великолепный. Когда мальчишкой я шатался по ночному городу, мне доводилось подвергаться не только словесным, но и физическим оскорблениям. Главным образом это были подростки, но попадались и взрослые, которым бы следовало быть умнее. Хотя благодаря их агрессивности я научился защищаться и не проходить мимо несправедливости, этот опыт заставил меня возненавидеть насилие как самый легкий способ решения проблемы. Я могу стрелять, чтобы защитить себя и тех, кого люблю, но радости мне это не доставляет.
Мы с Орсоном подошли к «Сабурбану». Внутри не было ни водителя, ни пассажира. Капот еще не успел остыть; машину припарковали лишь несколько минут назад.
От двери водителя к передней двери пассажира тянулась цепочка следов. Далее следы вели к забору. Они были похожи, вернее — полностью идентичны отпечаткам на клумбе под окнами спальни Джимми Уинга.
Серебряная монета луны медленно катилась к темному кошельку западного горизонта, но ее свет оставался достаточно ярким, чтобы я сумел рассмотреть и запомнить номер машины.
Я быстро обнаружил место, где дерзкие кусачки проделали проход в проволоке. Очевидно, это было сделано заранее, еще до последнего дождя, потому что вода успела разгладить ил, истоптанный тем, кто проделал работу.
Мунлайт-Бей все еще связывало с Форт-Уиверном несколько дренажных труб. Обычно во время обследования бывшей военной базы я пользовался одним из этих тайных проходов и собственными кусачками.
На приречном участке изгороди — впрочем, как и по всему ее периметру — красовались плакаты, красными и черными буквами предупреждавшие, что хотя база закрыта по решению ликвидационной комиссии в связи с окончанием «холодной войны», тем не менее нарушителям ее границ грозит суд и, возможно, тюремное заключение. Перечень федеральных законов был таким длинным, что занимал всю нижнюю треть объявления. Тон предупреждения был суровым и бескомпромиссным, но доверия не вызывал. Политики всегда обещают нам мир, вечное процветание, порядок и законность. Если бы они выполняли эти обещания, возможно, я с большим уважением относился бы к их угрозам.
Здесь, у забора, следы похитителя не были единственными. Темнота помешала мне разглядеть новые отпечатки.
Я рискнул включить фонарик, прикрыв его рукой. Хватило секунды, чтобы понять, что здесь произошло.
Брешь в изгороди была проделана заранее, еще в момент подготовки преступления, и у похитителя было время замаскировать ее. Он сделал незаметную калитку; достаточно было отодвинуть пролет забора, чтобы пройти внутрь. Чтобы освободить для этой цели обе руки, он был вынужден отпустить своего пленника, угрозами или побоями заставив Джимми отказаться от попытки к бегству.
Вторые отпечатки были намного меньше первых. То были следы босых ступней Джимми Уинга, выкраденного из собственной постели.
Перед моим мысленным взором предстало измученное лицо Лилли. Ее муж, Бенджамен Уинг, был электромонтером и погиб от удара током три года назад во время несчастного случая на работе. Это был высокий парень с веселыми глазами, наполовину индеец-чероки, настолько полный жизни, что казался бессмертным. Именно поэтому его гибель потрясла весь городок. Даже такая сильная женщина, как Лилли, не смогла бы выдержать вторую и еще более страшную потерю сразу же вслед за первой.
Хотя мы с Лилли давно перестали быть любовниками, я все еще любил ее как друга. Дай бог, чтобы я смог вернуть ей Джимми улыбающимся, целым и невредимым и увидеть, как страдание исчезает с ее лица.
Орсон нетерпеливо заскулил. Он весь дрожал, стремясь продолжить погоню.
Снова заткнув фонарик за пояс, я отодвинул плеть забора. Стальная проволока исполнила негромкую песню протеста.
— Смельчаку достанутся сосиски, — пообещал я, и Орсон пулей проскочил в брешь.
Глава 3
Когда я последовал за собакой, острый конец проволоки задел мою кепку-бейсболку и стащил ее с головы. Я подобрал ее, отряхнул о джинсы и надел снова.
Эта голубая поношенная бейсболка была у меня около восьми месяцев. Я нашел ее в странном цементном помещении, в трех этажах ниже уровня земли, в глубоких подземельях Форт-Уиверна.
Над козырьком было вышито красным: «ЗАГАДОЧНЫЙ ПОЕЗД». Я не имел представления, кому она принадлежала, и не знал значения этих рубиново-красных слов.
Этот простой головной убор не имел никакой ценности и в то же время был самым дорогим из моих приобретений. У меня не было доказательств, что он имел отношение к научной работе моей матери в Форт-Уиверне или каком-нибудь другом месте, но я был убежден, что это так. Хотя мне уже были известны кое-какие страшные тайны заброшенной военной базы, все же я верил, что разгадка значения вышитых слов раскрыла бы еще более удивительные вещи. Я очень верил в эту бейсболку. Когда я не надевал ее, то держал поблизости, потому что она напоминала мне о матери и, следовательно, успокаивала.
Если не считать расчищенного места сразу за брешью, у изгороди громоздились кучи плавника, шаров перекати-поля и всякого хлама. Со стороны Форт-Уиверна Санта-Розита была точно такой же, как и прежде.
Но тут был только один след — мужской. Здесь похититель решил вновь взять ребенка на руки.
Орсон потрусил вперед, и я побежал за ним. Вскоре мы оказались у другой тропы, которая поднималась по северной стене дамбы. Пес ступил на нее без всяких колебаний.
Когда мы добрались до верха, я запыхался куда сильнее Орсона, хотя по собачьему счету мохнатый следопыт был намного старше меня.
К счастью, я достаточно долго прожил на свете, чтобы осознавать не слишком заметную, но все же явную убыль своей жизненной энергии и юношеской прыти. К дьяволу тех поэтов, которые воспевают красоту и чистоту тех, кто умер молодыми, в расцвете сил! Несмотря на свой пигментозный экзодермит, я был бы рад дожить до блаженной слабости восьмидесяти лет и даже до старческого маразма человека, именинный торт которого украшен сотней готовых вот-вот погаснуть свеч. Острее всего мы ощущаем себя живыми и осознаем цену жизни тогда, когда бываем наиболее уязвимыми, когда опыт успевает научить нас смирению и излечивает от самонадеянности, которая, подобно некоей форме глухоты, мешает усваивать урок, преподаваемый нам окружающим миром.
Когда луна скрыла свой лик за облачным веером, я обвел взглядом северный берег Санта-Розиты. На Джимми и его похитителя не было и намека.
Как и на химеру. Никто не крался ни по дну, ни по обоим берегам пересохшего русла. Кем бы ни была фигура, замеченная мною на насыпи, я не представлял для нее интереса.
Орсон не колеблясь устремился к нескольким огромным складам, стоявшим в пятидесяти метрах от дамбы. Эти темные здания казались таинственными, несмотря на свое прозаическое предназначение и на то, что я уже был слегка знаком с ними.
Чудовищных размеров, эти склады были на базе далеко не единственными, занимая лишь незначительную часть территории, огороженной сетчатым забором. В годы расцвета штатное расписание Форт-Уиверна составляло 36 400 человек. Не считая тринадцати тысяч членов их семей и четырех с лишним тысяч гражданского обслуживающего персонала. Жилой фонд базы состоял из трех тысяч коттеджей и домиков на одну семью. Все они оставались на своих местах, хотя и требовали ремонта.
Через мгновение мы оказались у складов. Чутье Орсона быстро вело его через лабиринт дорожек к самому большому из них. Как и другие окружавшие его постройки, склад был прямоугольным и представлял собой девятиметровое здание из гофрированной жести, имевшее бетонное основание и изогнутую металлическую крышу. В одном из торцов имелись раздвижные ворота, достаточно большие, чтобы пропустить грузовик. Они были закрыты, но рядом красовалась раскрытая настежь дверь, предназначенная для прохода людей.
Подойдя к ней, Орсон, доселе не испытывавший никаких колебаний, замешкался. В помещении за порогом было намного темнее, чем на дорожке, освещенной лишь звездами. Казалось, пес не верил, что чутье может позволить ему оценить скрывающуюся на складе опасность. Как будто запах, по которому он шел, растворился во тьме, царившей внутри здания.
Держась спиной к стене, я медленно подобрался к двери и на мгновение остановился у косяка, держа в руке пистолет и обратив лицо к небу.