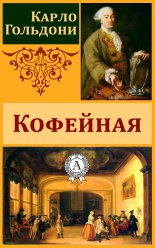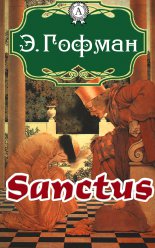Сонька Золотая Ручка. История любви и предательств королевы воров Мережко Виктор

— Сейчас.
Сонька поднялась.
— Передай мужикам, если понадобится, я сама попрошу.
Она направилась к дверям, арестант неожиданно придержал ее.
— Соня… — взял руку, неожиданно приник к ней лицом. — Ты наша гордость, Соня. Держись.
И Семен быстро двинулся прочь.
Когда Сонька вошла в барак, арестантки дружно пили чай.
Она протолкалась к своей постели, взяла наполненную горячей жидкостью кружку, молча стала пить.
— Кто это к тебе приходил? — подала голос Груня.
— Знакомый.
— И как он проник? Мужиков к нам ведь не пускают.
— Проник.
— Чего хотел?
— Тебя спрашивал.
Груня рассмеялась:
— Ой, только не парь! Небось чего-то уже удумала? Говори, мы тут все свои, одинаковые!
Вдруг Сонька сорвалась, резко ухватила арестантку за глотку:
— Всюду лезешь! Все хочешь знать! Но запомни: меньше знаешь — крепче спишь!
Наступил день, и снова — угольная пыль, разлетающийся во все стороны колотый уголь, нагруженные санки, полная чернота, неожиданно яркий свет, когда выбираешься на поверхность.
Сонька работала на автомате: уголь, лопата, санки, надзиратели, длинная черная яма.
Под утро дверь барака с треском открылась, и к спящим арестанткам ворвались три охранника.
— Лежать! — закричали. — Никому не двигаться! Оставаться на шконках!
Кто-то из арестанток выкрутил фитиль лампы посильнее, чтоб в бараке стало светло, и охранники начали свою работу. Первым делом они кинулись к Соньке:
— Встать! Мордой к стене!
Воровка послушно выполнила команду, заложила руки за голову. Охранники вывернули наизнанку всю одежду, переворошили матрац, распороли наволочку на подушке, перевернули тапчан, выпотрошили тумбочку. Один из охранников сказал старшему:
— Ничего нету.
— Веди к начальнику, — распорядился тот. — Мы других пошмонаем.
Младший охранник повернулся к воровке:
— Одевайся. Свожу на свидание.
Сонька не спеша стала одеваться, не сводя с Груни тяжелого взгляда.
— Чего смотришь? — взорвалась та. — Думаешь, опять я?! А я не знаю, чего они хотят! — И крикнула старшему охраннику прямо в лицо: — Чего здесь нужно? Чего всех подняли?
— Опосля узнаешь.
Прапорщик сидел за столом с мрачным, тяжелым лицом. Кроме него, в кабинете находился немолодой лысый господин явно иудейского происхождения. При появлении Соньки оба замолчали, повернули головы к воровке. Она остановилась возле двери, в ожидании посмотрела на мужчин.
— Господин Юровский, — обратился к гостю прапорщик, — вам знакома эта дама?
Юровский тронул плечами.
— Не имею чести знать.
— Это та самая Сонька Золотая Ручка.
— Да, я слышал это имя. А почему, господин прапорщик, если она такая знаменитая воровка, то проживает в поселке на положении вольного жителя?
— Таково предписание суда.
— Какого суда? — взорвался Юровский. — Почему я, честный лавочник, должен каждую ночь или день бояться, что эта дама заберется ко мне в дом и сворует все, что я заработал за все эти годы? А с чего вы взяли, что это не она украла мои деньги?
— По этой причине я ее сюда и вызвал.
— Так посадите ее! Учините допрос с пристрастием, и она выдаст всех своих сообщников!
Солодов посмотрел на Соньку.
— Господин Юровский уважаемый человек в нашем поселке. Он владеет здесь корчмой и двумя продуктовыми лавками. Ночью из его дома украли пятьдесят шесть тысяч рублей.
— Сумасшедшие деньги! Это все, что я заработал на этом проклятом острове! — закричал лавочник. — Моя жена Сима не находит себе места и даже желает повеситься!
— Хотите сказать, — спокойно произнесла Сонька, — что это я украла деньги?
— Нет, вы посмотрите, как она разговаривает! Вы — воровка! На вас клеймо! — Юровский все никак не мог остановиться. — И вы не можете спокойно жить, когда у кого-то имеются деньги!
Воровка выждала, пока он замолчит, прежним тоном сказала:
— Я имею здесь три точки — барак, прииски, теперь шахту. Больше я никуда не выхожу.
— Кто к тебе приходил ночью? — вступил в разговор прапорщик.
— Когда?
— Две ночи тому. Ты сидела с ним возле барака.
— Никого не было.
— Вот видите? — чуть ли не обрадовался Юровский. — Опять врет! Разве она скажет правду?!
— Ты имела ночью разговор с кем-то из арестантов. С кем?
— Не понимаю, о чем вы говорите, господин начальник.
— Значит, так, — поднялся лавочник. — Честные жители Александровского Поста выражают вам, господин начальник, свое неудовольствие и озабоченность таким положением. Мы будем добиваться, чтобы особы, подобные этой Золотой Ручке, пребывали не на свободе, а за толстыми тюремными стенами!
— Но, господин Юровский, — вежливо обратилась к нему Сонька, — с чего вы взяли, что это именно я украла ваши пятьдесят шесть тысяч?
— Видите, она даже запомнила сумму! — воскликнул тот и объяснил воровке: — Украли именно вы! Но даже если не вы, то все равно — вы!.. Потому что вы так живете! Я зарабатываю, вы — воруете! — И, уходя, лавочник плюнул в нее.
Уставшие женщины еле плелись домой, в барак. Дома предстояло сначала кое-как помыться, затем поужинать и сразу провалиться в сон.
В числе охранников шагал и Николай. Он с трудом определил в растянувшейся череде Соньку, пристроился рядом.
— В поселке говорят, что это ты украла у Юровского деньги, — сказал он тихо. — Целых пятьдесят тысяч.
— Пусть говорят, — усмехнулась воровка и шепотом попросила: — Нужна твоя помощь.
— Говори.
— Найди в мужской половине вора Ржавого Семена, попроси для меня денег.
— Сколько? — так же быстрым шепотом спросил конвоир.
— Сколько дадут. И еще. На эти деньги купи мне солдатское обмундирование.
— Зачем? Ты хочешь бежать?
Сонька вцепилась в его руку.
— Не задавай вопросов. Просто помоги.
— Сейчас зима. Дождись весны. Можно будет попробовать с пароходом. Я точно помогу.
— Не могу ждать. Или подохну, или добьют. Найди Ржавого Семена.
Посреди ночи дверь в барак распахнулась и бесцеремонно вошел Николай. Громко приказал:
— Сонька! Подъем! Вызывают на разговор!
Женщины заворчали, заворочались, воровка с недовольным видом встала, начала одеваться.
— Кто зовет-то? — подняла голову Груня.
— Господь Бог, — огрызнулся парень и прикрикнул на Соньку: — Живее!
Воровка под конвоем Николая вышла на улицу. Соньку, как и охранника, бил нервный озноб. Николай держал в руках большой сверток. Они свернули в противоположную сторону от виднеющейся тюрьмы, миновали несколько крайних бараков. За ними увязался сторожевой пес, Николай не стал его гнать, придержал при себе.
Вышли за поселок, и охранник передал воровке сверток:
— В карманах найдешь деньги. Все тебе…
— Куда лучше всего бежать?
— Туда, — показал рукой. — Там есть люди. Может, они схоронят тебя. А если нет, то по льду к материку.
Она благодарно его обняла:
— Спасибо. Я буду помнить тебя.
— А я тебя, Сонька, — улыбнулся охранник. — Без тебя в поселке будет плохо. — Николай повернулся, чтобы уйти, неожиданно пожелал: — Но лучше, чтоб ты больше сюда не возвращалась!
Сонька, переодетая в солдатскую форму, тяжело бежала по глубокому снегу. Задыхалась, ловила ртом холодный воздух, изредка останавливалась, чтобы перевести дыхание, и снова устремлялась вперед. Но впереди не было видно просвета, не было никакого намека на жилье, лишь непроходимая тайга и глубокий, до пояса, снег.
В какой-то момент воровка потеряла способность бежать, упала на снег и вдруг почувствовала, что пришел конец. Звезды стали вращаться над головой медленным хороводом, в ушах зазвучала нежная музыка, и женщина стала проваливаться в бездну. Сонька нашла в себе силы, с невероятным трудом поднялась и снова побежала.
Сонька уже не бежала, а шла медленно, с трудом пробиваясь сквозь деревья и снег. Неожиданно услышала далекий собачий лай, обрадовалась, ускорила шаг. Перешла на тяжелый, спотыкающийся бег, увидела впереди просвет в стене леса, поняла, что это ее спасение.
Она выбрела наконец на край тайги и от неожиданности замерла. Это был Александровский Пост, откуда она менее суток бежала. И вышла она из тайги совсем рядом с тюрьмой.
Воровка от отчаяния закричала, зажимая рот промерзшими пальцами, повернулась, чтобы бежать, но ноги подкосились, и она упала. Попробовала подняться, но сил никаких уже не было. Сонька беспомощно оглянулась, увидела, что ее заметили, — к ней уже бежали охранники, пустив впереди себя собак.
Ночь почти перешла в утро. Мороз стоял под сорок. На площадь согнали всех поселенцев Александровского Поста — и каторжан, и вольных. Было их много, не менее пяти сотен. Позади толпы плотным кольцом стояли надзиратели, держа на поводках беснующихся собак. Народ стоял притихший и напуганный, из ртов вырывались клубы пара.
В толпе, среди вольных поселенцев, находился пан Тобольский. Он был бледен, напряжен, не сводил глаз с помоста, установленного посередине площади.
На помосте стояли длинные крепкие лавки, а рядом с каждой находилось по две кадки с холодной водой. Возле них расхаживали в длинных рубищах два палача, оба из арестантов — Егор Комлев и Павел Артюшкин, известные своей безжалостностью и силой. В руках они держали палки, короткие, хлесткие. Здесь же, на помосте, сидел грамотный арестант, писарь, который должен был считать удары. Прапорщик Солодов находился внизу. Он задумчиво расхаживал вдоль помоста, ждал, когда выведут виновных.
Наконец из барака, в котором находился карцер, вывели Соньку и бывшего охранника Николая. Толпа замерла. Николай был раздет до пояса, смотрел на собравшихся удивленно и растерянно, при этом непонятно чему слегка улыбался.
Сонька, напротив, шагала неторопливо, осторожно, ни на кого не смотрела, голову держала гордо и прямо.
На помост поднялась сначала Сонька, за нею последовал Николай. Остановились плечом к плечу, держа перед собой закованные в кандалы руки. После них на помосте появился Солодов. Оглядел собравшихся, прокашлялся.
— Арестанты и вольнонаемные! — начал он. — Любое преступление должно быть наказано. Сейчас каждый из этих субъектов получит по пятьдесят ударов палками. Николай Угаров — за пособничество. Известная вам Сонька Золотая Ручка — за попытку побега и предельное неуважение к закону. Желаю всем арестантам вынести из этой экзекуции полезный, запоминающийся урок! Вольным поселенцам я желаю обрести уверенность в том, что закон Российской империи исправно действовал и будет действовать даже на такой отдаленной части территории, как остров Сахалин. — Повернулся к виновным: — Желает ли кто-нибудь из вас сказать слово?
Николай пожал плечами, улыбнулся:
— Я хотел помочь… Жаль, что не получилось.
Сонька не спеша осмотрела собравшихся, провела взглядом по женщинам из своего барака, увидела расширенные глаза Груни, вдруг замерла на одиноком пане Тобольском. Она узнала его. После паузы негромко сказала:
— Я, господа, бежала не от наказания. Мне хотелось повидать моих дорогих дочек.
Солодов спустился с помоста, дал отмашку.
Палач Комлев подошел к Соньке, силой уложил ее на лавку лицом вниз, разорвал сорочку на спине. Артюшкин проделал то же самое с Николаем, палачи переглянулись и вдруг ударили по спинам несчастных. От столь сильного неожиданного удара толпа вздрогнула и замерла. Ни Сонька, ни Николай не издали ни звука. Палачи ударили снова, писарь громко огласил:
— Два удара!
Комлев и Артюшкин били сильно и согласованно, арестант выкрикивал:
— Шесть ударов!
С каждым новым ударом лицо Соньки искажалось болезненной судорогой, но она изо всех сил сжимала рот, не давая звуку вырваться наружу. Николай, кажется, совсем не реагировал на удары, только каждый раз от палки тело его вздрагивало и тут же ослабевало.
— Десять ударов!
Палачи окатили разгоряченные спины виновных водой из бочек, отчего те не то зарычали, не то завыли. Комлев и Артюшкин снова принялись бичевать.
Присутствующие женщины плакали от боли и сострадания, мужики смотрели на происходящее мрачно и осуждающе.
Пан Тобольский был неподвижен. Казалось, он не слышал глухих ударов палками, не видел лиц истязаемых. Он смотрел поверх голов собравшихся и был по-прежнему бледен и спокоен.
— Пятнадцать ударов!
Палачи еще не устали, но опускали палки уже не с былым остервенением и силой. Солодов ходил вдоль помоста, глядя себе под ноги, загибая пальцы на руке в счет ударам.
— Двадцать ударов!
Снова вода из кадок, снова тихий стон изувеченных, снова слезы и бабий вой в толпе.
Сонька повела глазами, желая кого-нибудь увидеть, но пелена окутала всех находившихся вокруг, и женщина погрузилась в глубокое обморочное беспамятство.
— Пятьдесят ударов!
Палачи устало опустили палки в кадки, вытерли потные лбы и тяжело покинули помост. Толпа не расходилась, Груни среди женщин видно не было.
Тела Соньки и Николая лежали на лавках мягкими, бездыханными. По жесту Солодова на помост поднялись шестеро охранников, подхватили неподвижные тела на руки, стали медленно спускаться по ступенькам вниз. Солодов, проходя мимо писаря, подсчитывавшего удары, бросил:
— Пиши Груне Гудзенко вольнонаемное проживание.
Тот удивленно посмотрел на начальника:
— Она ж осуждена на десять лет за убийство!
— Делай, что велено. И немедля отселить из барака. Иначе товарки убьют ее… — Прапорщик зашагал по улице.
Пан Тобольский проследил за ним и двинулся следом.
Тобольский постучал в дверь кабинета, услышал недовольное:
— Кто там?
Прапорщик сидел за столом уставший, измученный прошедшей экзекуцией. Пан галантно снял шапку, поклонился.
— Позвольте представиться…
— Я помню вас, — ответил Солодов. — Вы интересовались дамой, которую только что экзекутировали.
— Да, это так. — Тобольский помолчал, неловко усмехнулся. — Знаете, я путешествую за этой дамой последние двенадцать лет. Я даже в этих краях оказался по ее милости.
— Она ограбила вас?
— Нет, она влюбила меня в себя.
— Как это? — нахмурился Солодов.
— Я однажды увидел Соню и потерял покой на всю жизнь.
— Но она воровка!
— Она женщина. Красивая, восхитительная женщина.
Прапорщик смотрел на пожилого господина, как на сумасшедшего.
— Вы из бывших?
— Да, я провел на каторге три года за попытку убийства. Теперь свободен и могу передвигаться по острову в любом направлении.
— Что вы от меня хотите?
— Соню отправили в тюрьму?
— Да, она проведет три года в одиночном карцере.
— В кандалах?
— В кандалах. Сонька — первая женщина здесь, которую будут содержать в кандалах.
— Она не выдержит.
— В таком виде три года в карцере никто не выдержит.
Пан Тобольский пристально посмотрел на Солодова:
— Я состоятельный господин. На воле у меня большие возможности. Будет правильно, если вы этим воспользуетесь.
— Подкуп?
— Да, подкуп.
Солодов усмехнулся, отрицательно повел головой.
— Меня многие пытались подкупить. Не получилось. Знаете почему? Не потому вовсе, что я не желаю денег. Хочу!.. Но беда в том, что я люблю это место, эту землю, этих несчастных людей, как вам ни покажется странным. Я без всего этого не смогу жить! Мне нравится, когда меня боятся. Мне нравится, когда передо мной унижаются. Мне нравится, когда кто-то на меня надеется. Мне все здесь нравится!.. И никакие деньги меня не выманят отсюда, господин хороший!
Пан Тобольский грустно улыбнулся:
— Хорошая позиция. Достойная! — Возле двери остановился. — Я тоже никуда не уеду отсюда, потому что здесь моя любовь. Моя единственная несчастная любовь. Я буду здесь, пока она не выйдет из тюрьмы, и тогда, может быть, мы куда-нибудь уедем!..
— Тоже хорошая позиция, — заметил Солодов. — И тоже достойная.
Сонька лежала на узких дощатых нарах в полной отрешенности и неподвижности. Единственное окошко карцера было затянуто густой решеткой, пол был холодный и прогнивший, стены промерзли насквозь. Укрытием от непроходящего холода служил драный овчинный тулуп.
Кандалы резали кисти рук, от них невозможно было освободиться, положить руки так, чтобы хотя бы чуточку унять боль. В камере было так тихо и спокойно, что тошнило. От абсолютного беззвучия больно звенело в ушах и еще больше кружилась голова.
Женщина попыталась подняться, даже сделала несколько шагов, но свалилась и потом с трудом доползла до нар.
Вот в железной двери открылось крохотное оконце, в него просунулась железная миска на цепи, и оконце снова захлопнулось. Сонька, с трудом волоча руки в кандалах, добралась до миски, понюхала еду и с силой ударила миску о стену. Вернулась на нары, попыталась лечь, но доски врезались в худую спину. Она поднялась, поставила пустую миску на полочку возле дверного оконца и принялась тяжело ходить из угла в угол.
Сонька сидела на нарах, выщипывала из тулупчика овчину, подсовывала шерстинки под кандалы, чтоб они не так ранили запястья. Кожа рук кровоточила, спина и плечи от постоянной нагрузки невыносимо болели, ноги не слушались и при каждом шаге предательски подкашивались.
Открылось дверное окошко, в него просунулась миска с едой. Сонька заспешила к двери.
— Эй, служивый!
— Чего тебе?
— Поговори с бабкой! А то ведь от молчанки рехнуться можно!
— Пошла ты…
— Хоть слово скажи, служивый!
С той стороны с силой захлопнули оконце. Воровка взяла миску и стала жадно хлебать из нее.
Сонька с трудом передвигалась из угла в угол, что-то бормоча. Слов разобрать было невозможно, Сонька будто беседовала с кем-то, будто спорила, размахивая руками и гримасничая.
Она пыталась на стене нацарапать какие-то отметки, чтобы считать дни, пробовала даже начертить звезду Давида, но инструмента у нее в руках никакого не было, а кандалами оставить какой-либо след не выходило. Волосы ее поредели, в них сильно пробилась седина, зубы почернели от цинги.
Пришла весна, тайга зазеленела, природа освободилась от льда и снега, казалось, все вокруг ожило.
К причалу Александровского Поста швартовался большой корабль «Гордый». Сначала на берег вышли редкие пассажиры — их тут же встретили жадные до денег извозчики. Чуть погодя вдоль трапа выстроились конвоиры, и на берег стали медленно сходить вновь прибывшие арестанты.
Градоначальник Александровска-на-Сахалине, дородный и улыбчивый господин, грузно ступил в повозку. Повозка была по местным меркам роскошной. В нее и уселся глава города, рядом с ним расположился гость, известный московский писатель Влас Дорошевич.
Градоначальник рассказывал:
— Мы, господин писатель, ждем весны, как манны небесной! Вот только представьте — девять месяцев из двенадцати мы варимся в собственной, извините, клоаке.
— Клоаке? — удивился Дорошевич.
— Так точно! А кто здесь проживает? В основном бывшие или настоящие каторжане. Ну и прочие мелкие людишки, желающие набить карманы золотом и деньгами.
— Сказывают, в вашей тюрьме находится знаменитая воровка Сонька Золотая Ручка. Или это домыслы?
— Почему же домыслы? — обиделся градоначальник. — Сидит как миленькая в одиночном карцере.
— Вы лично ее видали?
— Лично я — нет. Но кое-что о ней знаю.
— Например?
— Например, что она уже год как пребывает в одиночке, тем не менее жива и здорова.
— Здорова?
Градоначальник рассмеялся:
— Ну, относительно «здорова» не знаю, но что жива — это точно. Желаете поглядеть?
— Желаю.
— Это мы устроим. Но хочу заранее предупредить, господин писатель, зрелище может быть малоприятное. А скорее всего, совсем неприятное. Ну, представьте себе, пожилая дама в одиночке, в кандалах…
— В кандалах?
— Так точно! Она ведь пыталась бежать и получила за это пятьдесят ударов палкой.
— Разве отсюда возможно бежать?
— Невозможно!.. Но эта дама решила нарушить все законы и сделала попытку. Правда, ей в этом помогал молодой охранник, но все одно ничего не вышло. Поймали!
— У нее был роман с охранником?
— Ни в коем разе, он ей в сыновья годился… Просто так помогал, из сострадания. Его также определили в одиночку.
— Жив?
— Нет, помер. А вот Золотая Ручка жива. И, подозреваю, дождется через два года освобождения.
К выходу Соньки из карцера в тюремном дворе собралось почти все поселковое и тюремное начальство — от главы Александровска до начальника тюрьмы. Посередине двора поставили фотоаппарат на большой треноге, возле которого бестолково суетился фотограф, то ныряя под черную материю, то выползая оттуда.
Среди собравшихся находился также писатель Влас Дорошевич. Мужчины о чем-то беседовали, изредка смеясь какой-нибудь шутке, дамы держались особняком и с каким-то непонятным страхом ждали появления воровки.
Наконец ее вывели. К выходу Соньку одели в белую длинную блузу, поверх которой была зачем-то надета длинная черная роба. Шаги Соньки были слабыми и неуверенными, от яркого солнца она на мгновение ослепла и остановилась.
От прежней Соньки ничего не осталось. Перед собравшимися стояла старая, тяжелобольная женщина, руки которой оттягивали кандалы. Кожа лица была серая, рот ввалился, худоба давала себя знать настолько, что блуза смотрелась на ней как саван. И вообще в ее облике было что-то безумное.
Одна из дам шепнула подруге: