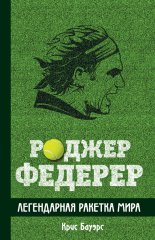Сонька. Конец легенды Мережко Виктор

Следователь привстал, назвался.
— А папенька еще спят, — вдруг сообщила девочка. — Наверно, надобно будить.
— Тебя за язык дернули? — возмутилась женщина. — Ступайте к себе и не высовывайтесь, пока не позовут!
— Но ведь папенька просили разбудить их не позднее обеда, — возразила дочка.
— Не твоего ума дело!.. Марш отсель!
Когда дети послушно гуськом покинули комнату, дама недовольно произнесла:
— Не дети, а чистое наказание.
— Может, разбудите? — неуверенно попросил Потапов.
Дама вздохнула, еще раз заглянула в конверт с деньгами, сунула его под кофту и вышла из кухни.
Следователь встал, прошелся из угла в угол комнаты, и в этот момент сюда снова вошла девочка.
— Меня зовут Дарья, — представилась. — А вас?
— Георгий Петрович.
— Вы, Георгий Петрович, папеньке денег не давайте, ежели принесли. Он всегда был выпивающим, а последнее время и вовсе стал больным.
Заслышав шаги, девочка мигом направилась к двери, едва не сбив заглядывающих сюда братьев.
На кухню вошла сначала хозяйка, затем нехотя, с хмурым видом там появился и сам Гришин.
Выглядел он крайне плохо — похудевший, сутулый, регулярно откашливающийся.
Остановился на пороге, с явным неудовольствием посмотрел на гостя, махнул жене:
— Ступай к себе.
— Господин ненадолго, — возразила та. — Ему на службу надобно.
— Я не тороплюсь. — Потапов подошел к бывшему следователю, протянул руку: — Здравствуй, Егор Никитич.
Гришин с некоторым замедлением протянул все-таки ладонь в ответ.
— Слушаю, Георгий Петрович. С чем явился?
— Просто повидаться, — пожал тот плечами. — Вон сколько лет не виделись.
— Вранье. Из Департамента полиции люди просто так не приходят. Непременно с пакостью. Или чего-то приперло. Зачем понадобился?
— Есть разговор, Егор Никитич.
— Ты видишь, в каком я состоянии?
— Вижу.
— И какой разговор может быть?
— Значит, в другой раз.
Потапов хотел было выйти, но Гришин придержал его:
— Погоди. — Внимательно посмотрел ему в лицо. — При деньгах?
— Есть маленько.
— Пойдем в кабак, там расскажешь.
— Так ведь выпьешь, и никакой разговор не получится.
— Получится!.. У меня мозги светлеют, когда опохмелюсь. — Гришина слегка повело, он схватился за стол, крикнул: — Дашка, собирайся, пойдешь с нами!
Кабак был полуподвальный, затхлый, с несколькими шумными клиентами, судя по всему завсегдатаями. Те уже были в подпитии, и не исключалась традиционная свара.
Гришин с видом завсегдатая выбрал удобный по расположению стол, рухнул на табуретку, кивнул дочке на соседний:
— Сиди там и не мешай.
Даша послушно уселась, принялась отрешенно водить глазами по засаленным деревянным стенам кабака.
Егор Никитич жестом позвал полового, тот подрулил к столу, вежливо изогнулся:
— Слушаюсь.
— Бутылку хреновухи, студень с горчичкой и хлебушка, — распорядился Егор Никитич половому, кивнул на дочку: — А мамзельке стакан узвору. Можно с пирожным.
— Будет сделано, господин.
Половой удалился. Гришин тяжело и надсадно закашлялся вновь, объяснил:
— Как застудился в зиму, с тех пор и мучает мокрота. — Закурил, с прищуром через табачный дым посмотрел на визитера. — Излагай, Георгий Петрович.
Потапов чуть поелозил на стуле, в упор посмотрел на бывшего следователя.
— Начальство, Егор Никитич, проявило к тебе неожиданный интерес. Едва ли не в спешном порядке.
— И кто ж начальство в жареное место клюнул?
— Нашелся один петушок.
— Неужто так серьезно клюнул?
— Суди сам, ежели на тебя, опального, розыск организовали. В департаменте ведь после самострела на тебе сразу крест поставили. А тут, гляди, понадобился.
— Все это не столько забавно, сколько глупо, — усмехнулся Гришин, взял принесенный половым графин, разлил по рюмкам. — Давай, Георгий Петрович, за встречу. Непонятную, хотя и с элементами интриги.
Чокнулись, выпили. Гришин, шумно сопя носом, намазал горчицу на кусок хлеба, стал закусывать, от удовольствия мотая головой и вытирая слезы. Налил по второй.
— Папенька, — подала голос Даша, аккуратно отщипывая ложечкой пирожное, — я все вижу, все замечаю. Не увлекайтесь, иначе до дома не дойдем.
— Не дойдем, так донесут, — отмахнулся тот и снова поднял рюмку. — Знаешь, за что, Георгий Петрович, давай выпьем?.. Никому не говорил, а тебе решусь.
— Неужели доверяешь?
— Не доверяю. Но больше не могу молчать. Важно хоть кому-то выразиться. Семь лет молчал, некому было сказать. Жена испугается, дети не поймут. А тут ты нарисовался — господин не до конца глупый и не до конца подлый.
— Благодарю за оценку, Егор Никитич.
— Не перебивай… Давай за тоску мою выпьем. Ежечасную. Все эти годы. Ежечасную и постыдную. Когда мордой в подушку, сопли в кулак. Воешь в перо… Чтоб никто не видел и не слышал. Потому что недостойно жил и так же недостойно пытался уйти из этой поганой жизни. Но даже и этого не смог сделать по-людски. Недострелился!.. Понимаешь, какой это стыд? Стыд, растерянность, никчемность. Давай за это.
— Давай.
Выпили.
— Небось сильно шибко пьянствовал все эти годы, Егор Никитич? — спросил Потапов с понимающим смешком.
— А тебе зачем знать? — вскинулся тот.
— Ну как же? Не виделись столько! Какими интересами жил?
Егор Никитич некоторое время смотрел на него. Затем с плохо скрываемым раздражением заметил:
— Ты или глупец, или выпил еще недостаточно. Мы за что только что пили?
— За тоску.
— Ну?
— Но имею я право узнать хотя бы некоторые детали твоей угарной жизни?
— Ты явился вести дознание или просто посидеть по-человечески?
— Конечно по-человечески.
— Вот и сиди.
Потапов взял графинчик, налил Гришину, себе.
— Также хочу произнести тост, — он подцепил студня на вилку, поднял рюмочку. — Судьба редко слепнет так, чтоб на оба глаза. Рано или поздно один глаз да и приоткроется. Вот он и приоткрылся. Ты, Егор Никитич, получаешь шанс, чтобы догнать то, что от тебя убежало. Лишь бы у тебя хватило силы, желания и злости.
— Злости?
— Именно злости. Вцепиться и больше не отпустить.
— Злости у меня теперь хватит. Накопил ее за эти годы.
Снова выпили. Гришин долгое время никак не мог отдышаться, тяжело закашлялся.
Даша поднялась, взяла бутылку, отнесла ее на соседний стол.
— Поставь на место! — потребовал отец.
— Будете пить — уйду.
— Еще одну, и амба. Обещаю.
Девочка вернула бутылку, села рядом на свободный стул и, похоже, отсаживаться не собиралась.
— Так о чем дело? — спросил Егор Никитич гостя.
— О налетах на банки.
— Грабят их, что ли?
— По-черному. С пугающей регулярностью.
— И правильно поступают. А чего их не грабить, ежели деньги они делают с воздуха? — Гришин начинал хмелеть. — Я бы вообще спалил все банки до единого.
— Я бы тоже, — неожиданно тихо произнесла девочка.
Потапов от удивления даже икнул, а девочка разъяснила:
— Они описали всё у нас, и мы стали вовсе нищими.
Гришин обнял голову дочки, прижал к себе.
Худенькое тельце ее вдруг стало мелко вздрагивать — она плакала. Гришин также вытер выступившие слезы, высморкался в большой и не очень свежий носовой платок.
— Вот только ради них. Ради сердечных и единственных готов вернуться в вашу мыловарню, — налил снова в рюмки, поднял свою. — Давай-ка за мою сердечную Дашеньку. Это ведь не ребенок — ангел, спустившийся с небес.
Выпили, закусили студнем и горчицей. Гришин поинтересовался:
— Супруге деньги давали?
— Да, вполне приличную сумму. От департамента в качестве вспомоществования…
— Напрасно. Она женщина замечательная, но крайне скаредна и скрытна.
Потапов достал из портмоне пару купюр по десять рублей, положил на стол.
— Могу предложить от себя лично. До первого вашего вознаграждения на службе.
— Благодарю, — Гришин сунул деньги в карман. — Непременно с отдачей. Честь имею!
Визитер остался сидеть в кабаке, чтобы рассчитаться за стол, и видел, как Егор Никитич направился к выходу, петляя между столами. Его надежно и осторожно поддерживала под руку тощая и верная Дашенька.
Изюмов при виде входящего в вестибюль театра господина Икрамова едва не лишился речи. Несмотря на то что полковник был в цивильной одежде — длинном изящном пальто, не узнать его было невозможно. Сопровождал его кавказец-телохранитель, высокий, статный, по-восточному надменный.
Бывший артист, ныне выполняющий функции швейцара, сделал пару шагов навстречу визитеру, галантно поклонился и почему-то по-военному поприветствовал:
— Здравия желаю, господин полковник. По какой надобности изволите?
Тот несколько удивленно взглянул на него, не сразу признал.
— Здравия желаю… Господин артист?
— Бывший. Судьба артиста подобна фейерверку — сначала пламя, потом пепел… К Гавриле Емельянычу?
— Да, он ждет меня.
— Сейчас доложу.
Изюмов заспешил наверх, полковник понаблюдал за беседующими на верхней лестнице артистами, послушал доносящиеся со сцены распевки, принялся бессмысленно изучать выставленную здесь афишу. Телохранитель почтительно стоял чуть поодаль, внимательно и ненавязчиво следил за хозяином.
Директор театра вышел навстречу гостю с традиционно протянутыми руками.
— Господи, князь… Ваше высокородие! Как я рад. Нет, не рад, счастлив. Столь высокий и желанный гость впервые в этом скромном кабинете, — забежал следом, помог усесться в кресло, бросил беглый взгляд на торчавшего в дверях Изюмова. — У вас, сударь, вопросы?
— Нет, всего лишь удовольствие, Гаврила Емельяныч.
— Вот и получайте свое удовольствие на полагающемся вам месте!
— Прошу прощения, — поклонился тот и исчез.
— Располагайтесь, осматривайтесь, обвыкайтесь, — продолжал суетиться вокруг гостя директор. — Чай, кофий, чего-нибудь покрепче?
— Вы ухаживаете за мной как за женщиной, — засмеялся полковник.
— Не-ет, уважаемый господин полковник! За женщиной ухаживают по-другому. Внешне расслабленно, внутренне крайне собранно! С оглядкой! Потому как женщина — создание хищное и способна в любой момент отхватить не только любую понравившуюся ей филейную часть, но и проглотить тебя целиком! За вами же ухаживаю с особым почтением, ибо восхищен вашим геройством и удивлен вашим загадочным визитом.
— Никакой загадочности. Изложу все просто и понятно, — засмеялся Икрамов.
— Буду весь во внимании и готовности. — Филимонов взял из буфета бутылку коньяку, два фужера, поставил все это на стол. — Не возражаете?
— Вообще-то я уже два года почти не пью.
— А кто из нас пьет? Пьющие либо лечатся, либо калечатся! Мы же только пригубим! — Директор разлил янтарную ароматную жидкость по фужерам, чокнулся с гостем. — Ваше здоровье, князь.
— Взаимно.
Пригубили. Гаврила Емельянович зажевал лимончиком, уселся напротив гостя.
— Вы теперь передвигаетесь по городу исключительно с охраной? — поинтересовался.
— Это не охрана. Скорее друг. Он плохо говорит по-русски, но верен и чист, как все люди, не тронутые цивилизацией.
— Абориген, так сказать?
— В его глазах аборигены скорее мы.
Директор громко расхохотался, удовлетворенно хлопнул в ладоши.
— Весьма остроумно, князь… Итак, я весь во внимании.
— Вы набрали такой темп, что я как-то даже не сразу готов.
— Никакого темпа! Просто наслышан о вашей пунктуальности и не желаю зря тратить ваше драгоценное время. К примеру, в этом вертепе время вообще никто не ценит!
— Вы не любите свой театр? — удивился Икрамов.
— Обожаю! Жить без него не могу! Но публика здесь работающая иного слова, кроме как содомской, не заслуживает! Артисты — не просто дети. Дети — понятие святое. Но мои дети, дети театра, — это сборище людоедов, удавов, ядовитых змей, садистов! Они способны, перед тем как самим окончательно сойти с ума, угробить по пути любое, даже самое ангельское, человеческое создание!
— Ангельское создание — это вы?
— Представьте!.. Хотя многие считают меня едва ли не чудовищем.
Полковник с улыбкой изучал Филимонова.
— Полагаю, вы сегодня пережили некий скандал.
— Вчера!.. Вчера молодая прима, которую я открыл, пестовал, воспитывал, любил… да, любил! Как отец, как единоутробный брат, как… Она вдруг вчера хлопнула дверью и укатила черт знает с кем черт знает куда. Нет, вы представляете эту смазливую и бездарную сволочь?
— Выход?
— Выход — либо повеситься, либо растить новую подобную дрянь! Боже, как я горюю… по сей день горюю о бывшей моей любимице мадемуазель Бессмертной! Хотя и она тоже была редкой дрянью! Тоже влюбилась в некоего прохвоста и в итоге погубила и себя, и едва ли не театр!.. Вы помните мою ярчайшую Таббу Бессмертную?
— Разумеется помню. Где она сейчас? Какова ее судьба?
— Бог ее знает. Одни сказывают, будто осталась приживалкой в доме княжны Брянской. Другие — будто покинула столицу и проживает в провинции. Третьи же… третьи вообще несут полную чушь. Будто бы мадемуазель решилась покончить с собой… Не знаю, не стану врать.
Икрамов, задумчиво поджав губы, постучал пальцами по столу, поинтересовался:
— А господин… который при входе в театр… Он ведь в прошлом артист?
— Артистишко. Бездарный, никчемный… Это ведь именно он пытался застрелить мадемуазель, за что был осужден на пять лет каторжных работ.
— Он желал застрелить госпожу Бессмертную? — изумился полковник. — По какой причине?
— По причине безответной любви. Среди артистов такое, к несчастью, случается, — развел руками директор.
— И вы взяли его снова в театр?
— Не в театр, а подле театра!.. Пусть гоняет чужих и пугает своих.
— Но ведь он преступник, — глаза полковника слегка налились кровью. — Разве можно ему доверять?
— Во-первых, преступник, отбывший наказание. Во-вторых, я ему ни в коем случае не доверяю. А в-третьих, холуй, до конца дней своих знающий свою вину, — лучший из холуев!
— А он может что-либо знать о госпоже Бессмертной?
— Пока ничего не знает. Но я могу его сориентировать. — Директор закурил ароматную сигару, прищурился от дыма. — Вы ведь пришли в театр именно по этому вопросу?
Гость кивнул.
— И желаете конфиденциальности?
— Мне безразлично.
— Неверно, господин полковник. Конфиденциальность здесь весьма важна. Не думаю, что вам следует в открытую марать свое честное и достойное имя. Вокруг госпожи Бессмертной уйма всевозможных домыслов, и в вашем положении их следовало бы избегать.
Икрамов поднялся.
— Хорошо, я последую вашему совету.
— Разумно. Я же, в свою очередь, обещаю сохранить наш разговор тет-а-тет в тайне и целенаправить господина бывшего артиста на обозначенное задание.
Икрамов откланялся и покинул кабинет.
Директор вернулся к столу, какое-то время осмысливал состоявшийся разговор, позвонил в колокольчик.
— Изюмова ко мне! — велел заглянувшей секретарше.
…Бывший артист прикатил к воротам дома Брянских на пролетке, рассчитался с извозчиком, направился к калитке, чтобы позвонить.
На звонок вышел привратник Илья, поинтересовался:
— Чего изволите, господин?
— Позови кого-нибудь из господ, любезный.
— Кого именно желаете?
— Кто у вас тут важнее всех, того и зови.
— Важнее всех княжна Анастасия, но они к воротам не выходят.
— Значит, кликни кто не такой важный. Есть у вас такой?
— Дворецкий Филипп, но он гневаться будет, что оторвал от дел.
Изюмов раздраженно дернул железную калитку, потребовал:
— Впусти, я сам разберусь, с кем мне побеседовать! Зови дворецкого!
— Никак не смогу. Оставлю ворота — меня накажут.
Возле ворот остановилась еще одна пролетка, из нее вышла мадам Гуральник, направилась к калитке. Увидела незнакомого господина, с удивлением спросила:
— Вы, сударь, кого-то желаете видеть?
— Они желают видеть княжну, а мы их к посторонним господам не приглашаем, — объяснил привратник.
— Мне необходимо навести справки об одной госпоже, — сказал Изюмов, — а этот чурбан ничего не понимает.
— О какой госпоже? — вскинула бровки учительница.
— О госпоже Бессмертной. Мы когда-то служили в одном театре. Я — артист Изюмов. Бывший, правда-с. По слухам, они проживают здесь.
— Я скажу дворецкому, — сказала мадам и заспешила к дому.
— Дурень ты, братец, — нервно бросил Изюмов Илье. — Знал бы, кому отказываешь в просьбе, всю подушку ночью сожрал бы. От стыда-с!
— Будете, барин, обижать, собак спущу, — пообещал тот. — Вот вам крест.
— Отойди, свинья!
Во дворе появился Филипп, не спеша и достойно направился к воротам.
— Вот господин желает без разрешения в дом войти, а я их не пущаю, — сообщил ему Илья.
— Ступай к себе в будку, — махнул ему дворецкий, самостоятельно отодвинул засов, позволил визитеру переступить порожек.
— Чего желаете, сударь? — поинтересовался.
— Вели сейчас же наказать этого хама, который увидел во мне злоумышленника и даже не отворил калитку! А потом пообещал спустить собак!
— Привратник прилежно несет свои обязанности, за что ему исправно платят жалованье, — объяснил Филипп и снова повторил вопрос: — Чего изволите, господин?
Изюмов не сразу нашелся, затем нервно объяснил:
— Мне важно разыскать некую госпожу Бессмертную… Бывшую артистку… Мадемуазель Таббу. Сказывают, она проживает в доме княжны Брянской.
— Сказывают? — с иронией удивился дворецкий. — Кто вам об этом «сказывал», господин?
— Людская молва! Публика!.. Поклонники! Она когда-то была знаменитой!
— Мне об этом неизвестно, господин, — склонил голову Филипп.
Во дворе показалась Катенька, увидела беседующих возле ворот, на короткое время задержалась и направилась дальше.
— Она была примой! — объяснял Николай. — Весь Петербург сходил по ней с ума! Табба Бессмертная! Не слыхал, что ли?