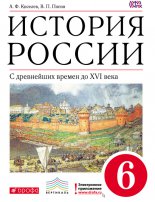Сбежавший жених Малиновская Елена
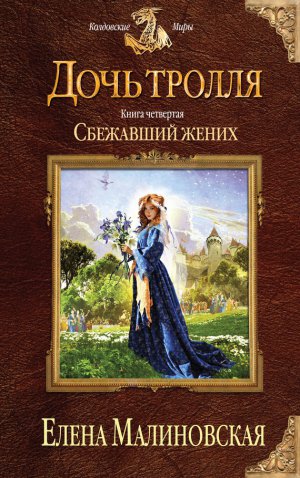
– Вы хотите сказать потому, что у вас есть «нервы»? – как ни в чем не бывало, произнес Гагенбах. – О, это пустяки, от этого я вас отучу, на то я врач.
– Мне очень жаль, что я не могу помочь вам в вашей практике. – Такой холодный ответ озадачил доктора.
– Не должен ли я понять это так, что вы оставили меня с носом? – протяжно спросил он.
– Если вам угодно так называть это, то действительно, таков мой ответ на ваш необычайно нежно и деликатно предложенный вопрос.
Лицо доктора вытянулось. Он не считал нужным соблюдать какие-то церемонии, делая предложение, он знал, что, несмотря на свои годы, представлял собой «партию» и что любая из его знакомых дам с готовностью разделила бы с ним его состояние и положение в обществе; и вдруг здесь, где его предложение, без сомнения, являлось большим счастьем, на которое эта лишенная средств девушка едва ли смела надеяться, оно было отвергнуто. Он думал, что ослышался.
– Так вы в самом деле отказываете мне?
– Мне очень жаль, но я вынуждена отказаться от предложенной мне чести.
Гагенбах смотрел то на Леони, то на портрет, висевший над столом, наконец досада прорвалась наружу.
– Почему? – повелительно спросил он.
– Это, надеюсь, мое дело.
– Извините, мое! Раз я остаюсь с носом, то хочу знать, по крайней мере, почему. Между нами что-то стоит – воспоминание, юношеская любовь, ну, словом, вот тот! – и он указал на портрет с траурной лентой.
Леони молчала, но по ее щекам вдруг заструились горячие слезы.
– Я так и думал! – сердито закричал доктор. – Но я не позволю так оттолкнуть себя! Кто был этот двоюродный брат? Где он жил! Как он попал в Африку? Хоть это я могу узнать?
– Если вам это кажется столь важным, – Леони попыталась сдержать слезы, – пусть будет по-вашему. Да, Энгельберт был моим женихом, и я вечно буду его оплакивать. Он был домашним учителем в семье, где я была гувернанткой, наши сердца встретились, и души слились воедино.
– Весьма трогательно! – буркнул доктор, но, к счастью, так тихо, что Леони не разобрала.
– Энгельберт уехал в Египет в качестве компаньона, там на него точно нашло откровение, и он решил посвятить остаток жизни миссионерству. Он великодушно вернул мне мое слово, но я не приняла его и объявила, что готова разделить с ним его тяжелую, полную самопожертвования жизнь. Этому не суждено было сбыться! Он еще раз написал мне перед отъездом в Африку, а потом… – голос Леони прервался рыданиями, – потом я уже ничего больше о нем не слышала.
Гагенбах испытывал чувство жгучего удовлетворения, убедившись, что упомянутый жених, просветитель язычников, в самом деле умер или пропал без вести. Объяснение смягчило его досаду и лишило полученный им отказ всякого обидного оттенка. Доктор успокоился.
– Мир праху его! – сказал он. – Но ведь когда-нибудь вы же перестанете оплакивать его, нельзя же всю жизнь грустить об одном человеке. В наше время невеста, пролив о почившем женихе приличное количество слез, обзаводится другим, если таковой подвернется. В данном случае он перед вами и снова повторяет свое предложение. Леони, вы хотите выйти за меня? Да или нет?
– Нет! Если бы я не знала, чем обладала в лице моего преданного, нежно любящего Энгельберта, то это показали мне вы. Может быть, к другой женщине вы не обратились бы так… так бесцеремонно, но ведь отцветшая, одинокая девушка, бедная, зависимая гувернантка, конечно, должна считать за счастье, что ей предлагают «хорошо обеспеченное положение»! К чему же тут еще церемонии? Я слишком высоко ставлю брак, чтобы смотреть на него только с такой точки зрения. Лучше я буду оставаться в бедности и зависимости, чем стану женой человека, который, даже явившись в качестве жениха, не счел нужным оказать мне элементарное уважение! Полагаю, нам нечего больше сказать друг другу!
Она поклонилась и вышла из комнаты. Гагенбах остался на прежнем месте и озадаченно смотрел ей вслед.
– Вот это называется распечь! – сказал он. – И я ничего, преспокойно вынес! Впрочем, в возбужденном состоянии, с раскрасневшимися щеками и блестящими глазами, она была очень недурна! Я даже не знал, что она такая хорошенькая. Да, уж эти проклятые холостяцкие привычки! Просто хоть пропадай с ними!
Он взял шляпу и собирался уже выйти, как вдруг его взгляд опять упал на портрет соперника, весь его гнев обратился против невинной фотографии.
– Нюня! Заморыш! Эн-гель-берт! – В этом имени выразилось все презрение, на какое он только был способен. – И из-за него она отталкивает такого человека, как я. Это глупо, сумасбродно! – Он стукнул по столу так сильно, что бедный Энгельберт дрогнул. – И все-таки мне это нравится, и я женюсь на ней все равно, хочет она этого или не хочет!
Глава 16
В Оденсберге развевались флаги, на возвышенностях грохотали мортиры, триумфальные ворота, зеленые гирлянды и цветы всюду приветствовали новобрачных, возвращавшихся из-под венца.
Обряд бракосочетания происходил в довольно отдаленной церкви. Свадебный поезд уже возвращался, впереди ехали новобрачные. На заводах тоже был праздник, по дороге к господскому дому рабочие образовали шеренги, а золотые солнечные лучи августовского дня усиливали впечатление веселья и праздничного настроения во всем Оденсберге.
Экипаж с новобрачными въехал в большую триумфальную арку и остановился перед террасой. Эрих высадил жену, ноги молодой женщины буквально тонули в цветах, которыми был устлан ее путь. Громадный зал превратился в благоухающий цветущий сад, и настежь открытые парадные покои дома, также благоухая цветами, приняли новую хозяйку. Под руку с сестрой за ней последовал Дернбург. На его лице отразилось глубокое волнение, когда он обнял сына и невестку, он принес большую жертву, согласившись на разлуку и продолжительную жизнь молодой четы на юге, но счастье, которым сияло лицо Эриха, до некоторой степени вознаградило за это. Его взгляд упал на Майю, подходившую под руку с Вильденроде, он окинул глазами высокую, гордую фигуру этого человека, казалось, созданного для того, чтобы когда-нибудь занять в Оденсберге место хозяина; он увидел, что милое личико его любимицы тоже сияет радостью и счастьем, и последняя тень на его челе исчезла; судьба посылала ему полную замену того, от чего он вынужден был отказаться.
Майя бросилась в объятия брата и с нежностью поцеловала его красавицу жену. Оскар тоже обнял молодых, но на Цецилию посмотрел мрачным, озабоченным и угрожающим взглядом, она почувствовала этот взгляд и поспешно высвободилась из его объятий.
Тем временем подъехали остальные экипажи. Гостей все прибавлялось. Новобрачных обступили со всех сторон с поздравлениями.
Среди этого великолепного общества не было лишь владельца майората, графа Экардштейна, отказавшегося от приглашения.
«Молодой» был на вершине блаженства. Казалось, этот счастливый для него день вернул ему здоровье, он хорошо выглядел и не горбился; с ярким румянцем на щеках от волнения, он, улыбаясь, принимал поздравления, почти не отрывая глаз от жены.
Цецилия была обворожительна в подвенечном уборе, только ее прекрасное лицо казалось чересчур бледным. Она тоже улыбалась в ответ на поздравления и произносила общепринятые слова благодарности, но в этой улыбке было что-то неподвижное, застывшее, а голос был совершенно беззвучен. К счастью, это никого не удивляло, так как невеста имела право быть и бледной, и серьезной.
Директор оденсбергских заводов и доктор Гагенбах стояли несколько в стороне у окна. Первый взял на себя обязанности распорядителя праздничными церемониями. Все удалось сверх ожидания: и триумфальная арка, и убранство дороги в церковь, и депутации, и поздравления в стихах и в прозе, но главное еще предстояло. Перед домом выстраивалась большая процессия рабочих. Директор находился в приятной ажитации, так как это был один из самых оригинальных его номеров; он тихо, но с жаром говорил что-то доктору, тот рассеянно слушал его, поглядывая на новобрачных, и наконец произнес:
– Эта процессия займет больше часа, и все это время новобрачные должны будут простоять на террасе. Это будет слишком утомительно для Эриха. Венчание, процессия, потом праздничный обед и, наконец, отъезд. Я вообще с самого начала был против этих длительных и шумных торжеств, но с моим мнением не посчитались, и даже господин Дернбург пожелал устроить все как можно более торжественно.
– Вполне естественно, что он хочет как следует отпраздновать свадьбу единственного сына, – заметил директор, – а рабочие тоже хотели поучаствовать в поздравлении. Я думаю, наша процессия удастся на славу. Впрочем, не стоит беспокоиться за молодого Дернбурга; я никогда не видел его таким веселым и цветущим, как сегодня.
– Именно потому-то я и боюсь. В его возбуждении есть что-то лихорадочное, а всякое волнение – яд для человека в его состоянии. Как бы я хотел, чтобы он уселся с женой в экипаж и уехал от всей этой суеты!
Разговор был прерван слугой, пришедшим с докладом, что приготовления к процессии окончены. Директор направился к новобрачным и от имени всех рабочих оденсбергских заводов просил принять выражение их преданности. Эрих улыбнулся и предложил руку жене, чтобы отвести ее на террасу, окружающие последовали за ними.
Все служащие заводов находились возле террасы; рабочие, стоявшие по всей дороге до самых заводов, вдруг пришли в движение. Бесконечной толпой с музыкой и знаменами мимо молодоженов шли тысячи оденсбергских рабочих, к которым примкнули рудокопы из горных рудников. Колонны перемежались группами детей, чем приятно нарушалось однообразие шествия; ученики школы, основанной Дернбургом, маршировали тут же, и светлая радость сияла на их лицах. Поравнявшись с новобрачными, они махали фуражками и букетами цветов и бесконечно кричали «ура».
Очень трудно было охранять дорогу, по которой проходила процессия, так как по обеим ее сторонам встали жены рабочих с детьми на руках, кроме того, сюда стеклось все население из окрестностей. Все глаза были обращены на белую фигуру невесты. Она была центром праздника и принимала знаки почтения и преданности, с дружеской улыбкой кивая головой, но в этом движении было что-то вынужденное, а ее темные глаза смотрели безучастно, словно не видели того, что было перед ними, а искали вдали что-то совсем другое.
Эрих принимал во всем живейшее участие. Он указывал жене на интересные подробности процессии, постоянно обращался к директору с выражениями благодарности и удовольствия и, казалось, совсем забыл о своей застенчивости и сдержанности. Прежде ему было тягостно быть центром внимания в подобных церемониях, сегодня же ради своей молодой жены он принимал их с радостной гордостью.
Дернбург стоял возле сына и с удовольствием смотрел на торжество. Можно ли было осудить его за то, что его грудь гордо вздымалась, а фигура выпрямлялась при виде этих тысяч людей, проходивших мимо? Это ведь были его рабочие, для которых он тридцать лет был хозяином и отцом, о благе которых заботился, как о своем собственном, теперь между ними хотели посеять рознь! Эти люди должны были отвернуться от него и последовать за другим, который ничего для них еще не сделал и начинал свою карьеру с того, что стал врагом человеку, который был для него большим благодетелем, чем для всех остальных! Презрительная улыбка заиграла на губах повелителя Оденсберга; земля, на которой он стоял, была незыблема, как скала, сегодня он чувствовал это больше чем когда-либо.
И еще один человек с гордо поднятой головой и блестящими глазами смотрел на движение людей. Это был Оскар фон Вильденроде, стоявший рядом с Майей. Как ни внушительны казались ему раньше пружины механизма, приводившего в движение оденсбергские заводы, всей мощи и значения Дернбурга он никогда еще не осознавал так ясно, как сейчас. И это место со временем займет он. Стать повелителем этого небольшого государства, управлять им одним словом, одним движением руки – такую цель он поставил перед собой с первого дня после приезда сюда.
Он посмотрел на Майю, и выражение гордого торжества в его лице сменилось счастливой улыбкой. Полукомическое, полуторжественное достоинство, с которым девушка носила непривычно длинный шлейф голубого шелкового платья, восхитительно шло ей, ее личико горело от радости и возбуждения, она по-детски увлеклась праздничным настроением и счастьем, переполнившим ее сердце, ведь она уже знала, что отец не станет больше противиться ее любви.
– Ну разве это не красиво?! – прошептала она барону. – А как счастлив Эрих!
Оскар улыбнулся и нагнулся к ней.
– О, я знаю одного человека, который будет еще счастливее Эриха, когда будет стоять так, на его месте, под руку с молодой женой.
– Тише, Оскар! – остановила его Майя, вспыхивая. – ты знаешь, папа не хочет разглашать этого сегодня.
– Нас никто не слышит, – успокоил ее Оскар, – да и папа вовсе не так строг, как кажется. Правда, он отказал мне в просьбе сегодня же объявить о нашей помолвке, и вообще трудно было добиться его согласия, но теперь ты здесь, и если ты, его любимица, станешь просить его, то, конечно, он не скажет «нет». Завтра я отважусь на новый приступ; ты поможешь мне, моя Майя?
Девушка не ответила, но ее глаза сказали ему, что в помощи отказа не будет. Барон схватил ее руку и с любовью пожал ее.
Последняя группа рабочих прошла мимо, и вся масса зрителей хлынула на освободившуюся дорогу. Директор еще раз выслушал благодарность Дернбурга и его сына и комплименты гостей по поводу удавшегося торжества, а потом новобрачные и гости вернулись в дом.
В большом зале вошедших встретили музыка и богато сервированный стол. Хотя Дернбург не любил хвастать своим богатством, но сегодня он выставил напоказ все сокровища своего дома. Обед прошел как обычно в подобных случаях, а затем начались танцы, которых очень ждали многие из приглашенных.
Новобрачные приняли участие лишь в первом туре, а затем удалились из зала.
– Почему Эрих и Цецилия уже уходят? – спросила Майя барона. – Они ведь должны уехать только через час.
– Это все Гагенбах; он боится, чтобы Эрих не переутомился. Совершенно безосновательное беспокойство, как мне кажется, потому что Эрих никогда не выглядел лучше, чем сегодня.
– Мне тоже кажется, но зато Цецилия ужасно бледна. Вообще она была так серьезна и молчалива, я совсем иначе представляла себе счастливую невесту.
– Она устала, тут нет ничего удивительного. Директор потребовал от нас слишком многого, заставив так долго смотреть эту бесконечную процессию.
Майя покачала головкой, она стала серьезной и задумчивой.
– Эрих говорит, что тут что-то другое и что когда-нибудь он узнает правду.
– Что хочет узнать Эрих? – спросил Вильденроде так быстро и резко, что девушка удивленно взглянула на него.
– О, может быть, он и ошибается, но он жаловался мне на перемену, происшедшую с Цецилией несколько недель тому назад. Он боялся, что ее тяготит что-то особенное, и надеялся, что она будет откровеннее со мной, я охотно исполнила его желание и спрашивала Цецилию, но ничего не добилась, она и мне не ответила. Эрих был страшно огорчен.
Оскар закусил губы, и Майя испугалась выражения, которое появилось на его лице, заметив ее вопросительный взгляд, он коротко рассмеялся и шутливо сказал:
– Я боюсь, что Эрих своей донельзя доведенной верностью испортит жизнь и себе, и жене. К счастью, Цецилия не расположена к сентиментальности, она, осмеёт его способность видеть то, чего нет.
Начавшийся вальс прервал их разговор, потому что к Майе подошел молодой офицер, которому она обещала этот танец. Девушка, впервые танцевавшая в большом обществе, полностью была во власти танца, но скоро ее глаза снова обратились туда, где стоял барон, или, скорее, должен был стоять, потому что его уже там не было, она напрасно искала его, очевидно, он ушел из зала…
Эрих проводил жену в ее комнату и отправился к себе, чтобы переменить костюм. Он усмехнулся при мысли о педантичной осторожности доктора, который продолжал считать его больным, между тем как он никогда не чувствовал себя лучше, чем сегодня; но с распоряжением доктора он был вполне согласен – он еще ни минуты не был наедине с женой. Надеть дорожный костюм было недолго, и Эриху оставалось еще с полчаса для задушевной беседы с женой.
Он поспешно вышел из своей комнаты, чтобы отправиться к жене, но в низу лестницы остановился. Расстилавшийся перед ним ландшафт тонул в блеске вечернего солнца; его золотые лучи заливали убранную цветами террасу и сверкающей полосой падали сквозь дверь в зал; со стороны заводов, где был устроен праздник для рабочих, доносились музыка и звуки веселья, а из открытых окон зала, где в эту минуту наступил перерыв, слышались веселая болтовня и смех гостей.
Эрих радостно перевел дух, день его свадьбы был чудесным.
Только теперь начиналась для него жизнь, теперь его манил широкий, вольный свет, солнечный юг; он освободился от тягостных обязанностей и мог наслаждаться волшебными мечтами счастья возле любимой женщины там, на берегу голубого моря.
«Молодой» быстро поднялся по лестнице и хотел войти в гостиную, отделявшую комнаты Цецилии от комнат ее брата, как вдруг заметил, что дверь заперта изнутри. В ответ на его легкий стук никто не открыл; он потерял терпение и пошел другим путем.
Комната Оскара имела особый выход – маленькую дверь, оклеенную обоями. Эрих открыл ее и прошел в соседнюю гостиную. Вдруг в комнате жены он услышал голос Вильденроде и остановился.
Вероятно, брат пришел к молодой женщине, чтобы еще раз побыть с ней наедине и проститься. Это было естественно, не следовало мешать и без того короткому прощанию брата с сестрой. Но что это? Голос барона звучал очень резко и угрожающе, и вдруг послышалось рыдание! Неужели это Цецилия? Не может быть, чтобы его жена плакала так отчаянно! Эрих побледнел, предчувствие беды вдруг ледяным холодом сдавило его грудь. Он не двигался с места. Через запертую дверь явственно доносилось каждое слово Вильденроде.
– Образумься, Цецилия! Неужели ты совсем разучилась владеть собой? Перед отъездом ты опять должна показаться гостям, да и Эрих может войти каждую минуту. Возьми себя в руки.
Ответа не было, слышался только безутешный, судорожный плач.
– Я боялся чего-нибудь подобного и потому пришел к тебе, но такой вспышки не ожидал… Цецилия, ты слышишь? Ты должна успокоиться!
– Я не могу! – произнес приглушенный голос Цецилии. – Оставь меня, Оскар! Я должна была улыбаться и лгать весь этот день и опять должна буду делать то же, когда сяду с Эрихом в экипаж. Я умру, если не выплачусь!
– Опять эта несчастная страстность, свойственная твоей натуре! – уже мягче заговорил барон. – Ты должна бы понимать, что именно в настоящее время меньше всего имеешь право поддаваться ей. Я сделал все, чтобы упрочить твое счастье, а ты…
– Мое счастье! К чему эта ложь, Оскар? Ты мог обманывать меня, пока я была несмышленым ребенком, но ты знаешь тот день, когда я прозрела. Ты просто хотел устроить собственное счастье, когда задумал обручить меня с Эрихом, ты хотел стать хозяином в Оденсберге, а потому пожертвовал моим счастьем.
– Если я и преследовал эту цель, то ради упрочения своего и твоего положения! Я уже говорил тебе, что для нас этот брак был вопросом существования. Ты считаешь себя жертвой? Тебе оказывали сегодня княжеские почести, а когда бесконечная вереница рабочих проходила мимо нас, тебе, конечно, стало ясно, что значит в свете имя, которое ты теперь носишь; жизни в Оденсберге, пугавшей тебя, ты избежишь – вы вернетесь в Италию, Эрих обожает тебя; он не откажет тебе ни в одном желании, сделает для тебя все, что в состоянии дать его богатство. Чего же ты требуешь еще от брака? Это счастье, и когда-нибудь ты еще поблагодаришь меня за него.
– Никогда! Никогда! – вне себя воскликнула Цецилия. – О, если бы я могла спастись от этого счастья! Но ты связал меня по рукам и ногам своей ужасной угрозой последовать примеру нашего отца! Ты не подозреваешь, какой мукой были для меня с тех пор доброта и нежность Эриха! Я никогда не любила его и никогда не полюблю, а теперь, когда уже невозможно разорвать цепь, я чувствую, что она задушит меня! Лучше смерть, чем его объятия! Но что это? Как будто кто-то вздохнул!
– Тебе померещилось! Мы одни – я позаботился о том, чтобы нас не могли подслушать. К чему этот взрыв отчаяния? Неужели только теперь, после свадьбы, тебе стало ясно, что ты любишь другого? Я подозревал это с того дня, когда ты встретилась с Эгбертом Рунеком на Альбенштейне. Ты чуть не сходила с ума от мысли, что этот человек презирает тебя и считает авантюристкой. Я не хотел говорить об этом, чтобы не пугать тебя, но теперь скажу. С тех пор как этот Эгберт занял место в твоей жизни…
– Нет! Нет! – с ужасом перебила его Цецилия.
– Да! Или ты думаешь, что сегодня утром, когда я вез тебя в церковь, я не видел, как ты внезапно побледнела, а твой взгляд не мог оторваться от одного места в лесу? Ты заметила его, а он пришел, по всей вероятности, для того, чтобы еще раз увидеть тебя. Он стоял довольно далеко за деревьями, на таком расстоянии узнают только смертельного врага или любимого человека, и мы оба узнали его.
«Молодая» не возражала и даже не отвечала, ее молчание сказало все. Теперь испугался Оскар. Он услышал какой-то шум, как будто слегка хлопнула дверь. Он быстро вышел в гостиную.
Напрасная тревога – гостиная была пуста, а дверь заперта на задвижку. Но взгляд на каминные часы убедил барона, что этот разговор давно пора кончить. Он возвратился к сестре и сказал, сдерживая голос:
– Я должен вернуться в зал, а тебе надо приготовиться к отъезду. Ты выплакалась, теперь подумай о своих обязанностях. Ты жена Эриха, и завтра между тобой и тем, другим, будут десятки миль, надо надеяться, ты никогда больше не увидишь его. Я позабочусь о том, чтобы он не мог вредить нам здесь, в Оденсберге, а ты забудешь о нем, потому что должна забыть.
Он открыл дверь и позвонил горничной. Заплаканные глаза молодой женщины могли быть легко объяснены разлукой с братом, но он все-таки не хотел ни на минуту оставлять ее одну и вышел из комнаты только тогда, когда вошла Наннон.
Внизу, в переднем зале, встретив лакея, который нес чемодан и дорожный плед Эриха, барон мимоходом спросил:
– Господин Дернбург, вероятно, еще в своей комнате?
– Нет, он наверху, у молодой барыни.
– Нет, я только что от сестры.
– Но я сам видел, как молодой барин шел вверх по лестнице. Это было почти полчаса тому назад. Он вошел через маленькую дверь.
Вильденроде побледнел как полотно – об этой двери он не подумал. Что, если Эрих действительно был в гостиной, если он слышал, что… Он не посмел закончить свою мысль и поспешил в комнаты зятя.
В первой комнате не было никого, но, открыв дверь спальни, барон невольно попятился. Эрих лежал распростертый на полу, по-видимому, без признаков жизни, с закрытыми глазами, голова была откинута назад, вся грудь, сюртук и ковер вокруг были залиты кровью, капли которой еще сочились с его губ.
Объяснения были не нужны. В самый разгар воображаемого счастья с глаз молодого мужа была сорвана повязка, ему пришлось из уст обожаемой жены услышать, что она никогда не любила его и предпочитает смерть его объятиям. Всякий другой вышел бы из себя, дал бы волю своему гневу и отчаянию, но у Эриха не было ни сил, ни мужества, нужных для этого, он молча принял смерть.
Несколько секунд Оскар стоял как окаменелый, потом рванул колокольчик, поднял с помощью прибежавшего лакея бесчувственного Эриха и велел по возможности незаметно позвать доктора Гагенбаха. Через несколько минут тот явился, молча выслушал рассказ Вильденроде, щупая в то же время пульс Эриха, потом послушал сердце и, выпрямляясь, тихо сказал:
– Позовите вашу сестру, барон, и подготовьте ее к худшему исходу. Я пошлю за господином Дернбургом и Майей.
– Неужели вы боитесь?..
– Здесь уже нет места ни опасениям, ни надежде. Позовите жену, может быть, он еще придет в себя.
Через четверть часа весь дом знал, что Эрих Дернбург умирает. Скрыть несчастье было невозможно, весть о нем с быстротой молнии облетела общество.
У постели умирающего на коленях стояла молодая женщина в белом подвенечном платье, она не плакала и была смертельно бледна, она подозревала о причине этого ужасного несчастья.
Возле нее стоял онемевший от горя Дернбург, он не сводил взора с сына, которого судьба отнимала у него. Майя всхлипывала на груди отца. Вильденроде не смел подойти ни к ней, ни к постели умирающего, он думал было, что проиграл все дело, а теперь оказывалось, что он все-таки его выиграл: бедняга, жизнь которого медленно угасала, уже не мог никого разоблачить, он уносил с собой в могилу то, что услышал и что было причиной его смерти.
Эрих лежал неподвижно, с закрытыми глазами, его дыхание становилось все медленнее и медленнее. Доктор, до сих пор считавший удары его пульса, опустил его руку; Цецилия увидела это движение и поняла, что оно значит.
– Эрих! – вскрикнула она.
Этот вопль отчаяния и безумного страха вернул умирающему сознание. Он медленно открыл глаза и уже затуманенным смертью взглядом искал любимое лицо, склонившееся над ним, но этот взгляд выражал такое безграничное горе, такую глубокую, немую мольбу, что Цецилия вздрогнула от ужаса.
То был последний минутный проблеск сознания; еще один глубокий вздох – и все было кончено.
– Умер! – тихо сказал доктор.
Майя с громкими рыданиями опустилась на пол. По щекам Дернбурга струились горькие слезы, он поцеловал холодеющий лоб сына, потом обернулся к невестке, помог подняться и прижал к себе.
– Теперь твое место здесь, Цецилия! – сказал он с глубоким волнением. – Ты вдова моего сына и моя дочь, я буду для тебя отцом!
Глава 17
В городе, служившем железнодорожной станцией для Оденсберга, находилась известная гостиница «Золотая овца». Непосредственная близость вокзала и непрерывная связь с оденсбергскими заводами приносили ей большие доходы – все, кто ехал в Оденсберг или оттуда, обычно останавливались в ней.
Первый владелец гостиницы давно умер, но его вдова нашла ему преемника в лице Панкрациуса Вильмана. Некогда он поселился в гостинице как обычный постоялец с намерением поискать себе в городе какую-нибудь работу, но потом предпочел приударить за богатой вдовой и разделить с ней ее уютное гнездышко; ему посчастливилось, и он прекрасно устроился, предоставив жене кухню и погреб, а на себя взял обязанность занимать посетителей и на собственном примере демонстрировать превосходные качества кухни своей гостиницы.
В пасмурное октябрьское утро перед гостиницей Вильмана стоял полузакрытый экипаж доктора Гагенбаха; сам доктор со своим племянником сидел в уютной хозяйской приемной на верхнем этаже, куда поселяли лишь избранных посетителей. Дагоберт собирался в путь, он должен был отправиться в Берлин для поступления в университет. По-видимому, жизнь в Оденсберге неплохо повлияла на молодого человека – он выглядел гораздо свежее и здоровее, чем весной.
Вильман тоскливо объявил доктору, что чувствует себя, бесспорно, лучше с тех пор, как стал строго придерживаться его советов, но едва не умирает с голоду. Гагенбах, к ужасу толстяка, велел продолжать тот же метод лечения.
– У вас сегодня большое оживление, – сказал он. – Внизу, в приемной, толкотня, как в пчелином улье. Я слышал, здесь устраивается большое собрание перед выборами и вообще у вас заседают социал-демократы со всего города. Во всяком случае, то, что эти господа выбрали «Овцу», – добрый знак: это свидетельствует, по крайней мере, об их мирных намерениях.
– Господин доктор! Не насмехайтесь надо мной! Я просто в отчаянии! В прошлом году я выстроил для завсегдатаев новый зал; это самый большой зал во всем городе, и вдруг теперь эти нигилисты, эти революционеры и анархисты устраивают там свои собрания! Какой ужас!
– Если эти нигилисты внушают вам такой ужас, то зачем же вы принимаете их в своем доме? – сухо спросил Гагенбах.
– А разве я могу воспротивиться? Они разорят мою гостиницу, чего доброго, подложат динамит! Я не посмел отказать, когда Ландсфельд потребовал у меня зал. Я дрожал перед этим человеком, да, право, дрожал! Но кем окажусь я теперь перед остальными моими посетителями? Ведь они мне этого не простят. И что скажет господин Дернбург!
– По всей вероятности, ему безразлично, собираются ли социалисты здесь или где-то в другом месте, а знакомства с ним вы через это не лишитесь, ведь он никогда еще не останавливался у вас.
– О, что вам пришло в голову? В моем-то скромном доме! Оденсбергские господа приезжают всегда прямо на вокзал, но все служащие останавливаются у меня, и вообще я живу главным образом благодаря сообщению между Оденсбергом и городом и никак не желал бы…
– Ссориться с какой-либо партией! Что ж, это разумно! Говорят, сегодня будет выступать Рунек? Значит, в вашем большом зале не останется ни одного свободного местечка и вы заработаете кругленькую сумму.
Вильман в ужасе поднял глаза и обе руки.
– Что мне заработок! Но не могу же я забросить свои дела в такие тяжелые времена! Я отец семейства, у меня шестеро детей.
– Ну, по вам не скажешь, что времена такие тяжелые, – насмешливо заметил доктор. – Кстати, в настоящую минуту вы поразительно напоминаете своего покойного двоюродного брата-пустынника, он точно так же горестно поднимал очи к небу. Пойдем, однако, Дагоберт, пора, иначе мы пропустим поезд.
Он допил пиво и встал. Толстый хозяин проводил его до самого крыльца и еще раз униженно попросил сообщить Дернбургу, что он всей душой ратует за порядок, но в связи с тем, что дела у него идут из рук вон плохо, он как отец семейства…
– Я скажу ему, что вы и в этом случае – жертва своей профессии, – прервал Гагенбах эту элегическую речь. – Можете спокойно продолжать дрожать и загребать денежки. У вас превосходное пиво, и, без сомнения, эти господа сумеют оценить его, оно настроит их на мирный лад и спасет вашу гостиницу, если вдруг дело дойдет до крайности.
Вильман укоризненно покачал головой в знак несогласия с таким мнением и с поклоном распрощался с гостями. Доктор и Дагоберт отправились на станцию, к которой уже подошел поезд. Шагая с племянником взад-вперед по платформе, Гагенбах напутствовал его:
– Очень прошу тебя об одном – учись в Берлине прилежно и не затевай таких глупостей, как, например, этот Рунек. До Берлина он был вполне разумным человеком, а в Берлине попал в общество нигилистов. Говорю тебе, мальчик, если ты позволишь себе что-либо подобное…
Он сделал такое сердитое лицо, что Дагоберт испугался и, приложив руку к сердцу, воскликнул с трогательной искренностью:
– Я не пойду к нигилистам, милый дядя, право, не пойду!
– Да ты для них и не особенная находка, но, к сожалению, падок на всевозможные глупости. Я надеюсь, однако, что то твое бессмысленное стихотворение «К Леони» было первым и последним! А вот и свисток! Багаж у тебя? Входи же! Счастливого пути! – и доктор, захлопнув дверцу вагона, отступил.
Дагоберт с облегчением вздохнул, потому что в его боковом кармане покоилось длинное, трогательное прощальное стихотворение «К Леони». После первой неудачной попытки поэт не посмел лично вручить обожаемой особе излияние своих чувств и решил послать его по почте из Берлина вместе с уверением, что его любовь будет вечной, даже если между ним и предметом его страсти станет суровый свет.
Между тем Гагенбах отыскал начальника станции и спросил, не опоздал ли берлинский курьерский поезд.
– Нет, поезд придет по расписанию ровно через десять минут, – ответил тот. – Вы кого-то ждете?
– Молодого графа Экардштейна. Он должен приехать сегодня.
– Граф Виктор приедет? Но ведь говорили, что между ним и братом произошел окончательный разрыв тогда, весной, когда он так внезапно уехал. Значит, в Экардштейне плохи дела?
– По крайней мере настолько, что пришлось известить графа Виктора, он единственный брат.
– Да, да… владелец майората не женат, – многозначительно проговорил начальник станции.
Гагенбах ожидал поезд не один; появился Ландсфельд с группой рабочих, которые, очевидно, хотели кого-то встретить и возбужденно рассуждали о предстоящих выборах. Наконец поезд прибыл, из него высыпало такое множество путешественников, что на платформе и в пассажирском зале началась суета.
Гагенбах шел вдоль поезда, высматривая графа, как вдруг увидел высокую фигуру Рунека, только что вышедшего из вагона. Оба остановились, и Рунек быстро сделал движение, как будто хотел подойти к доктору; но Ландсфельд уже заметил его и протиснулся к нему вместе с другими встречающими. Окружив со всех сторон, они шумно приветствовали его, а уходя с ним со станции, крикнули дружное «ура».
– Народный трибун плывет на всех парусах, – с досадой пробормотал доктор. – Милый сюрпризец преподнес он Дернбургу! Интересно узнать, какого мнения об этом наши оденсбергцы; они тоже тут и, как кажется, их немало.
Он ускорил шаги, потому что увидел графа Экардштейна, вышедшего из последнего вагона в сопровождении какого-то пожилого господина. Виктор тоже заметил доктора и поспешил ему навстречу.
– Надеюсь, ничего не случилось в Экардштейне? – торопливо спросил он.
– Нет, граф, состояние больного уже третий день без изменений, но так как я был на станции, то решил встретить и вас.
– Доктор Гагенбах, – обратился молодой граф к своему спутнику, – мой дядя, фон Штетен.
Гагенбах поклонился. Эта фамилия была ему знакома, он знал, что перед ним был брат графини Экардштейн. Штетен, протянув ему руку, спросил:
– Вы лечите моего племянника?
– Да, я был приглашен по настоятельному желанию домашнего врача, мой коллега не хотел брать всю ответственность на себя.
– Он совершенно прав. Известия, приходившие от него, были так тревожны, что я решил сопровождать Виктора. Дело серьезно?
– Воспаление легких всегда серьезно, – уклончиво ответил доктор. – Надо рассчитывать на сильный организм больного, но все-таки мы сочли своей обязанностью не скрывать от графа опасности, в которой находится его брат.
– Я вам очень благодарен за это, – сдавленным голосом сказал Виктор.
Он был бледен и взволнован, мысль о том, что, может быть, своего брата, с которым он расстался после ссоры, он увидит на смертном одре, очевидно, сильно мучила его. Пока Штетен подробно расспрашивал о состоянии больного, он почти все время молчал.
Перед станцией стоял экардштейнский экипаж, и доктор распрощался со своим собеседником, пообещав завтра рано утром приехать в замок. Затем он отправился в гостиницу, чтобы велеть своему кучеру готовиться в обратный путь.
В вестибюле гостиницы Гагенбах опять встретил Рунека и Ландсфельда, которые спрашивали хозяина, нет ли у него отдельной комнаты, так как им надо кое о чем поговорить. Эгберт поклонился доктору и нерешительно остановился, как будто сомневаясь, следует ему заговорить с Гагенбахом или нет, при этом он почти с робостью посмотрел на лестницу, наверху которой стоял Ландсфельд.
– Ну? – резко произнес тот.
Это междометие звучало более чем повелительно, оно выражало законное требование и решило исход. Молодой инженер упрямо закинул голову назад и подошел к доктору.
– На одно слово! Как дела в Оденсберге… Я хотел сказать… в господском доме?
Гагенбах холодно ответил на приветствие и сдержанно сказал:
– Как во всяком доме, в котором неожиданно появилась смерть. Вам, вероятно, известно, что молодой Дернбург умер?
– Да, я знаю, – сказал Эгберт. – Как переносит горе господин Дернбург?
– Ужасно, хотя старается не подавать вида. Но его железной натуры не сломить никаким ударом, и у него нет времени горевать – положение дел в Оденсберге и окрестностях требует его особенного внимания. Вам это должно быть известно лучше, чем мне!
Удар доктора не был отпарирован, и Эгберт невозмутимо продолжал расспрашивать:
– А Майя? Она очень любила брата.
– Она молода, в ее возрасте достаточно хорошо выплакаться, и все пройдет. А вот госпожа Дернбург… она убита горем. Я не думал, что она до такой степени будет страдать.
– Вдова Эриха? – тихо произнес Эгберт.
– Да! В первые дни она была в таком отчаянии, что я серьезно боялся за ее здоровье, да и теперь она еще плохо себя чувствует. Я никак не ожидал от нее такого проявления чувств.
Губы Рунека задрожали, но на последнее замечание он ничего не ответил.
– Поклонитесь от меня Майе, может быть, она и примет мой поклон, – быстро сказал он. – Прощайте!
Он повернулся к лестнице, на которой продолжал стоять Ландсфельд, и вместе с ним отправился наверх, а Гагенбах подозвал своего кучера и сел в экипаж.
Рунек и Ландсфельд вошли в комнату. Эгберт сел и подпер голову рукой. Он был бледен, на его лице появилась суровая, горькая складка, которой раньше не было. По-видимому, новый кандидат в члены рейхстага не особенно радовался чести, выпавшей на его долю. Ландсфельд запер дверь и, подойдя к Рунеку, резко спросил:
– Есть у тебя наконец время для нас?
– Мне кажется, оно всегда у меня было, – последовал короткий ответ.
– Что-то не похоже. Ты заставил меня, точно мальчишку, стоять на лестнице и дожидаться, когда тебе будет угодно закончить разговор с доктором.
– Почему ты не ушел без меня?
– Потому что мне было забавно видеть, как ты не в силах оторваться от людей, которые давно знать тебя не хотят, и продолжаешь самым сентиментальным образом осведомляться, как они поживают.
– Тебе-то что до этого? – угрюмо сказал Эгберт. – Это мое дело.
– Не совсем, мой милый! Ты наш кандидат, а потому обязан окончательно порвать отношения с враждебным лагерем. Ты должен теперь прежде всего заботиться о популярности, а ты своим поведением всех отталкиваешь от себя и даже становишься подозрительным, заметь себе это!
– Благодарю за добрый совет, но я сам знаю, что должен делать.
– Ого! Ты что-то расхрабрился! – насмешливо сказал Ландсфельд. – Ты, верно, уже видишь себя всемогущим вождем, первой особой в рейхстаге? Вообще в тебе есть очень опасная жилка барина. Этим ты удивительно похож на оденсбергского старика. Только нам это не подходит! Если ты будешь так продолжать, то сам себя загубишь.
Эгберт вдруг поднялся и, нахмурившись, вплотную подошел к Ландсфельду.
– К чему все это? Скажи лучше прямо, что ты завидуешь тому, что наша партия остановила свой выбор на мне, ты не можешь простить, что меня предпочли тебе, а между тем лучше других знаешь, что я вовсе не хотел этого. Я с удовольствием предоставил бы это место тебе!
– Чего я хотел, чего ждал, здесь не об этом речь, – холодно ответил Ландсфельд. – У меня нет шансов быть избранным, а у тебя они есть, следовательно, я должен уступить. И я сделал это беспрекословно. Я знаю, что такое дисциплина, и подчиняюсь ей, если бы и другие поступали так же!
Рунек подошел к окну.
– Как дела в Оденсберге? – спросил он.
– Хорошо, по крайней мере, лучше, чем мы могли надеяться. Старик, – Ландсфельд особенно настойчиво повторял это слово, говоря о Дернбурге, потому что знал, как оно задевает его товарища, – старик, правда, все еще воображает себя непобедимым, но в первый же день выборов у него раскроются глаза. Мы добросовестно поработали, теперь твоя очередь. От твоей сегодняшней речи зависит многое. Часть оденсбергцев все еще на стороне Дернбурга, другие колеблются, сегодня ты должен убедить их и привлечь на нашу сторону.
– Я исполню свой долг, – хмуро сказал Эгберт, – но сомневаюсь в успехе.
– Почему? Послушай, с тех пор как мы избрали тебя для борьбы с оденсбергским стариком, ты производишь на меня впечатление птицы с перебитым крылом. То, что ты говорил в последнее время в Берлине, было довольно слабо и скучно. Прежде ты блистал воодушевлением и увлекал за собой всех, теперь, когда на карту поставлено все, ты ни рыба ни мясо. Неужели ты так же по уши влюблен в этого Дернбурга, как и он в тебя? Я думаю, смерть единственного сына нанесла ему не такую тяжелую рану, как твой уход. Вот-то будет трогательное зрелище, когда у вас завяжется борьба!
– Ландсфельд, может, хватит! – раздраженно вырвалось у молодого человека. – Я уже просил тебя не лезть в мои личные дела, а теперь запрещаю. Ни слова об этом!
– Да, да, в Радефельде ты пригрозил выбросить меня за дверь, но здесь, в чужом доме, ты, надо полагать, откажешься от такого намерения. Однако к делу! Я хотел только втолковать тебе, что сегодня вечером ты должен оставить всякие сентиментальности и церемонии, если хочешь, чтобы твоя речь произвела впечатление. Ты знаешь, что ждет от тебя наша партия?
– Знаю.
– Ну так и поразмысли над этим. Мы должны переманить на свою сторону Оденсберг. Ты должен убедительно выступить против Дернбурга и против всего, что он устроил на заводах, ты должен показать этим людям, что его школы, больницы, пенсионные кассы, которыми он привлекает их к себе, в сущности, – милостыня, которую он бросает рабочим, в то время как сам загребает миллионы. Нам они не верят, тебе поверят, потому что всем известен твой авторитет. Старик хотел сделать тебя хозяином на своих заводах, первым после себя, а ты ради нашего дела отказался от всего; именно это делает тебя всемогущим среди оденсбергцев, и только поэтому мы назначили тебя кандидатом. Ты должен разбить противника наголову.
Эгберт медленно обернулся; его лицо выражало мрачную решимость, и он сказал с горькой насмешкой:
– Да, конечно, я должен… я должен! Воли у меня больше нет! Поговорим о чем-нибудь другом.
Глава 18
Веселая жизнь, которая кипела в Оденсберге все лето и центром которой была юная чета обрученных, стихла, семья носила глубокий траур по тому, кого опустили в могилу всего два месяца тому назад, и в доме царило тяжелое, гнетущее настроение.
Исключением была только Майя. Гагенбах оказался прав: в семнадцать лет девушка выплачется и быстро утешится, даже потеряв любимого брата, а в данном случае к тому же рядом находился особый утешитель. Оскар фон Вильденроде, само собой разумеется, остался в Оденсберге, и хотя об открытой помолвке теперь нечего было и говорить, но Дернбург по всей форме дал свое согласие на брак.
Майя была невыразимо мила в своем тихом, молчаливом счастье, а Оскар в семейном кругу выказывал ей самое нежное внимание и преданность. Он сильно изменился, весь как-то смягчился под влиянием расцветающего счастья, которое вело к цели всей его жизни.
Сам Дернбург переносил утрату сына сдержанно и молча; он искал утешения в работе и с большим рвением отдавался ей. Смерть Эриха неожиданно сдружила его с невесткой. Хотя раньше он и принял невесту сына как дочь, но в глубине души все-таки был против этого брака, тщеславное, веселое дитя света оставалось чуждо этому пуританину, зато вдова со своим душераздирающим горем и с молчаливой тоской встретила в нем истинно отеческую любовь. С того мгновения, когда он обнял Цецилию у смертного одра Эриха, она заняла место в его сердце.
Правда, Дернбург не подозревал, что безутешное горе Цецилии было только раскаянием, раскаянием в том, что она предпочитала объятия смерти объятиям своего мужа, именно в эту минуту расставшегося с жизнью. Впрочем, самого худшего она не знала: она не знала, что причиной его смерти были именно ее злополучные слова. Оскар заручился молчанием лакея, видевшего, как Эрих поднялся наверх и пошел в комнату, а кроме него, об этом не знал никто. Но молодая женщина подозревала такую возможность и искала защиты у тестя, потому что не могла победить тайный ужас, который чувствовала к брату.
Впрочем, Дернбург очень мало времени посвящал семье, потому что, кроме обычной работы на заводе, ему очень много приходилось заниматься предстоящими выборами. Консервативная партия не сомневалась, что и теперь мандат останется за ним, но скоро все убедились, что борьба будет жестокой, что противники работают изо всех сил; отсюда возникла необходимость им так же ревностно приняться за дело. Тут Дернбург нашел помощника в лице фон Вильденроде. Последний быстро освоился с местными политическими условиями, и его проницательность и точность суждений изумляли людей, много лет занимавшихся этими делами. Барон участвовал во всех собраниях и заседаниях и взялся за дело с большим рвением; бывший дипломат чувствовал себя в политике как рыба в воде, и не было ничего удивительного в том, что его влияние на Дернбурга росло с каждым днем.
Наконец наступил день, когда должна была состояться последняя, решительная борьба у самой избирательной урны. В директорском здании оденсбергских заводов с утра царило оживление. В нижнем этаже, в зале заседаний, собрались все старшие служащие, сюда же приходили телеграммы из города и являлись посыльные из деревенских округов; из этих донесений можно было иметь хоть приблизительное представление о ходе выборов.
Было уже довольно поздно, когда вошел доктор Гагенбах, он был встречен упреками за продолжительное отсутствие.