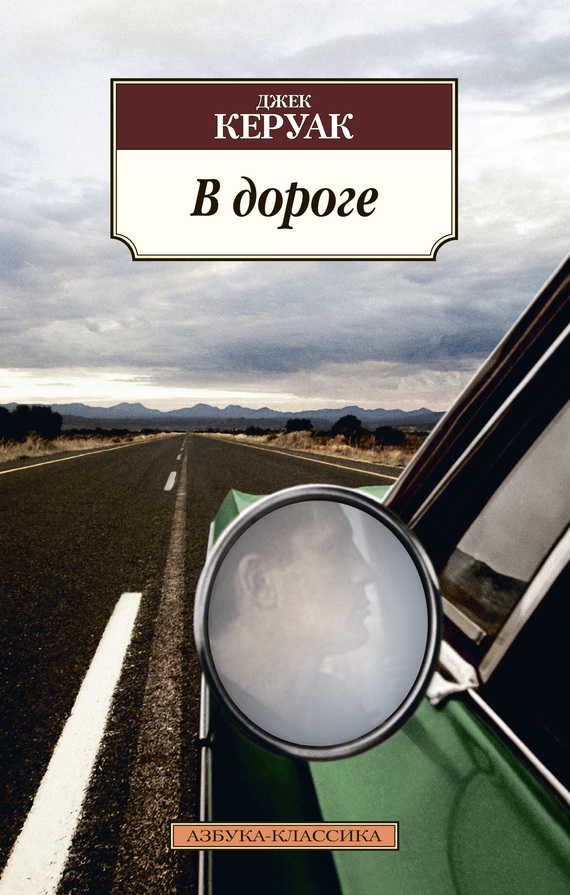За чертой Маккарти Кормак

— Да вот война еще, — сказал старик. — Что будет дальше, теперь вообще не поймешь.
— Да, сэр. Действительно не поймешь.
Старик уговаривал его остаться на ночь, но он не согласился. Они стояли на крыльце. Было холодно, и прерия вокруг лежала в глубоком молчании. У ворот тихонько заржал конь.
— Ну, ты же можешь новую жизнь и с утра начать, — сказал старик.
— Знаю. Мне просто надо куда-то двигаться.
— Что ж…
— Это ничего, ехать ночью мне нравится.
— Да, — сказал старик. — Мне тоже всегда нравилось. Но ты береги себя, сынок.
— Да, сэр. Я постараюсь. Спасибо.
Той ночью он стал лагерем на широкой равнине Анимас-Плейнз, ветер продувал траву, и он уснул на земле, завернувшись в серапе и шерстяное одеяло, которое дал ему старик. Разжег небольшой костерок, но дров было мало, и костер ночью потух; он проснулся и смотрел, как зимние звезды срываются с насиженных мест и мчатся к гибели в темноте. Слышно было, как ходит в путах конь, как тихонько рвет зубами травинки, как он дышит и машет хвостом, а далеко на юге, за горами Хатчет-Маунтенз, над Мексикой, вдруг промелькнула молния, и он понял, что похоронят его не в этой долине, а где-то в незнакомом дальнем месте среди совсем чужих людей, и он стал смотреть туда, где волновалась, бежала от ветра трава под холодными звездами — так, будто это сама земля куда-то, очертя голову, несется, и, прежде чем опять заснуть, он тихо сказал себе, что из всего, что считается известным, ясно только одно: что ничего до конца не ясно. Не только насчет войны. Насчет вообще всего.
Работать пошел к «Хэшнайфам», хоть это были уже и не те «Хэшнайфы».{91} Его послали на дальний полевой стан на реку Малое Колорадо. За три месяца он видел там лишь троих других людей. Когда в марте получил деньги, съездил на почту в Уинслоу, послал мистеру Сандерсу перевод на двадцать долларов, которые был ему должен, и направился в бар на Первой улице, где сел на табурет, сдвинул большим пальцем шляпу на затылок и заказал пива.
— Какой сорт пива предпочитаете? — сказал бармен.
— Да любой. Не важно.
— Однако молоды вы пить пиво.
— Тогда зачем спрашивать, какое пиво я предпочитаю?
— Это и впрямь не важно, потому что обслуживать вас я не буду.
— А он какое пьет? — Билли указал на мужчину, сидевшего у стойки несколько дальше.
Тот окинул его изучающим взглядом.
— Это «драфт», сынок. Бочковое нефильтрованное, — сказал мужчина. — Говори им, что по тебе плачет драфт.[654]
— Да, сэр. Благодарю вас.
— Не за что.
Немного пройдя по улице, он зашел в следующий бар и сел на табурет. Бармен нехотя подошел, встал перед ним.
— Дайте мне драфт.
Тот вернулся к своему месту за стойкой, нацедил пива в высокую стеклянную кружку, опять подошел и поставил кружку на стойку бара. Билли положил на стойку доллар, бармен прошел к кассовому аппарату, дернул рукоять, аппарат звякнул, бармен вернулся и с прихлопом шмякнул на стойку семьдесят пять центов.
— А ты откуда такой? — сказал он.
— Когда-то был из Кловердейла. Нынче работаю у «Хэшнайфов».
— Нет больше никаких «Хэшнайфов». Бэббитты все продали.
— Продали. Знаю.
— Все продали овцеводам.
— Верно.
— Что на это скажешь?
— Не знаю.
— Ну так зато я знаю.
Билли окинул взглядом помещение. В баре было пусто, сидел один солдат, выглядел пьяным. Солдат смотрел на него в упор.
— Эмблему-то они им не продали, так или нет? — сказал бармен.
— Так.
— Так. Стало быть, нет никаких «Хэшнайфов».
— Не хочешь крутнуть пластинку? — указав на музыкальный автомат, сказал солдат.
— Нет, не хочу, — искоса на него глянув, сказал Билли. — Как-то неохота.
— Тогда сиди и не петюкай.
— Да я ничего.
— Что, не нравится пиво? — сказал бармен.
— Да нет. Вроде нормальное. А что, часто жалуются?
— Да вот смотрю, ты не пьешь и не пьешь.
Билли посмотрел на пиво. Потом бросил взгляд вдоль стойки. Солдат сел боком и положил одну ладонь на колено. Будто решает, вставать или нет.
— Вот и подумалось: может, с пивом что не так?
— Да нет, не думаю, — сказал Билли. — Но если что, я вам скажу.
— Сигареткой не угостишь? — сказал солдат.
— Я не курю.
— Ты не куришь.
— Нет.
Бармен извлек из нагрудного кармана пачку «Лаки страйк», бросил ее на стойку и толкнул в направлении солдата.
— Наше вам, солдат, — сказал он.
— Спасибо, — сказал солдат.
Встряхнув пачку, наполовину выпростал оттуда несколько сигарет, одну вынул губами, достал из кармана зажигалку, прикурил, положил зажигалку на прилавок и пустил пачку по плоскости назад к бармену.
— А что это у тебя в кармане? — сказал он.
— Это вы кого спрашиваете? — сказал Билли.
Солдат выдул струю дыма.
— Кого-кого. Тебя, — сказал он.
— Ну, — сказал Билли, — я думаю, это мое дело, что у меня в кармане.
Солдат промолчал. Сидит курит. Протянув руку, бармен сгреб сигареты со стойки, одну взял в рот, прикурил, а пачку сунул обратно в нагрудный карман. Прислонившись к стойке, бармен стоял, держа руки скрещенными на груди, в пальцах дымилась сигарета. Все молчали. Словно ждали, когда придет кто-то еще.
— Знаешь, сколько мне лет? — сказал бармен.
Билли посмотрел на него.
— Нет, — сказал он. — Откуда мне знать, сколько вам лет.
— В июне будет тридцать восемь. Четырнадцатого июня.
Билли промолчал.
— Только поэтому я сейчас не в военной форме.
Билли посмотрел на солдата. Тот сидит, курит.
— Я, между прочим, пытался, — сказал бармен. — Даже соврал про возраст, но они там меня раскусили.
— А ему плевать, — сказал солдат. — Форма для него ничего не значит.
Бармен затянулся сигаретой и выдул в воздух струю дыма.
— Зато она бы очень много значила, если бы эти, с восходящим солнцем в петлицах, маршировали по Второй улице колоннами… рыл этак по десять в ряд. Уж тогда это бы точно кое-что значило!
Билли поднял кружку пива, выпил ее до дна, поставил на стойку, встал, надвинул шляпу на лоб и, в последний раз оглядев солдата, повернулся и вышел на улицу.
Следующие девять месяцев проработал на ранчо Аха, что в округе Кокониньо, у водохранилища Стэнфорд-Танк, а в качестве оплаты ему дали вьючную лошадь, за которую он, собственно, и упирался, а вдобавок еще и нормальную скатку с постелью, толстое одеяло и старую однозарядную винтовку тридцать второго калибра системы Стивенса с граненым стволом и таким же рычагом снизу, как у винчестера, к тому же — что немаловажно — легкую: всего два килограмма с четвертью.
Взяв расчет, поехал на юг через плоскогорье Сент-Августин. В Силвер-Сити въезжал под снегопадом, взял номер в Палас-отеле, вселился и сидел в комнате, смотрел, как на улице идет снег. И никого народу. Посидел так, встал, вышел, прошелся по Баллард-стрит к продовольственному, но магазин оказался закрыт. Нашел еще какой-то гастроном, купил шесть пачек полуфабрикатной каши, вернулся и скормил ее лошадям, после чего пустил их во двор позади гостиницы, а сам, поужинав в гостиничной столовой, поднялся к себе на этаж и лег спать. Спустившись утром, обнаружил, что завтракает в одиночестве, а когда вышел, чтобы попытаться купить себе что-нибудь из одежды, все магазины оказались на замке. На улицах было серо и холодно, с севера дул пронизывающий ветер, и нигде ни души. Ткнулся было в дверь аптеки (внутри горел свет), но и аптека оказалась закрыта. Вернувшись в отель, спросил клерка, не воскресенье ли нагрянуло нежданно, но клерк сказал, что нынче пятница.
Билли бросил взгляд через окно на улицу.
— А почему тогда везде закрыто? — сказал он.
— Так Рождество же! — сказал клерк. — Кто будет тебе работать в Рождество!
Переместившись в северный Техас, весь следующий год он работал по большей части то на ранчо «Матадор», то на компанию «Т-Даймонд», что в Форт-Уорте. Потом, откочевав южнее, стал наниматься на более короткие промежутки времени — когда на несколько дней, когда на неделю. К весне третьего года войны чуть ли не во всех домах страны в окне красовалась золотая звезда.{92} До марта работал на небольшом ранчо у подножия горы Магдалина в Нью-Мексико, а потом в один прекрасный день вдруг взял расчет, поседлал коня, нагрузил вьючную лошадь скаткой с постелью и снова устремился к югу. Чуть восточнее Стайнова перевала{93} он пересек последнюю дорогу с покрытием, а через два дня уже подъезжал к воротам ранчо «Складская гряда». Стоял прохладный весенний денек, и старик сидел на крылечке в кресле-качалке. На голове шляпа, в руках Библия. Весь подался вперед, пытаясь разглядеть, кто к ним едет. Как будто этот жалкий фут, на который он в силах сократить тем самым расстояние, способен сделать всадника видимым отчетливее. Сандерс выглядел старше, имел болезненный вид и за те два года, что прошли с их последней встречи, то ли усох, то ли стал меньше ростом. Билли окликнул его по имени, и старик отозвался в том смысле, что давай слезай, мол, и Билли спешился. Подойдя к нижней ступеньке крыльца, остановился и, одной рукой взявшись за облупленные перила, поднял взгляд на старика. Тот сидел, заложив Библию пальцем, чтобы не потерять нужное место.
— Это ты, что ли, Парэм? — сказал он.
— Да, сэр. Это я, Билли.
Билли поднялся по ступенькам и, сняв шляпу, поздоровался со стариком за руку. Глаза старика выцвели, стали совсем бледно-бледно-голубенькими. Он долго тряс руку Билли.
— Благослови тебя Господь, — сказал он. — Я тысячу раз вспоминал тебя. Сидел тут и думал: ну когда же я тебя увижу?
Билли подвинул ближе к старику одно из старых кресел с плетеными сиденьями, сел в него, положил шляпу на колено и, окинув взглядом пастбища и окружающие их горы, устремил взгляд на старика.
— Ну, ты, наверное, насчет Миллера-то знаешь уже, — сказал старик.
— Нет, сэр. До меня новости не очень-то доходили.
— Убили его. На атолле Кваджалейн.{94}
— Мне ужасно жаль это слышать.
— Да, мы очень тяжело это пережили. Очень тяжело.
Посидели. Из прерии налетал ветер. Свисавший с крыши в углу веранды горшок с декоративным папоротником тихо качался над перилами, а его тень неторопливо чертила на досках пола сложные и непредсказуемые кривые.
— А с вами как — все нормально? — сказал Билли.
— Да со мной-то все в порядке. Осенью операция была, удалили катаракту, но ничего, справляюсь. Вот Леона только меня бросила, замуж вышла. Но теперь ее мужа услали за моря, а она так и сидит в Росуэлле{95} — и чего сидит? Работу там нашла. Я пытался ее уговаривать, но ты ж понимаешь…
— Да, сэр.
— По совести сказать, мне бы уже и вообще пора на погост.
— Да ладно! Живите вечно.
— Вот этого мне желать не надо.
Он откинулся в кресле и закрыл Библию окончательно.
— Дождь собирается, — сказал он.
— Да, сэр.
— Чуешь, как запахло?
— Да, сэр.
— Как я всегда любил этот запах!
Посидели. Немного погодя Билли вдруг говорит:
— А сейчас вы его чувствуете?
— Нет.
Еще посидели.
— Послушай-ка, а что от Бойда — есть какие-нибудь вести? — сказал старик.
— У меня нет. Из Мексики он так и не вернулся. А если вернулся, то я об этом ничего не слыхал.
Старик надолго замолк. Смотрел, как темнеет прерия на юге.
— Однажды на асфальтовом шоссе в Аризоне я видел границу дождя, — сказал он. — По одну сторону белой линии на целых полмили дождь, а по другую — сухо, как в духовке. Граница — прямо по белой линии.
— Это я верю, — сказал Билли. — Сам такой дождь видал.
— Мне это было так странно!
— А я однажды видел грозу во время снежного бурана, — сказал Билли. — С громом и молнией. Только самой молнии видно не было. Просто все вокруг вдруг как бы освещалось, и все делалось белым, словно вата.
— У меня когда-то мексиканец один работал, так тот тоже такое рассказывал, — сказал старик. — Я тогда так и не решил, верить ему или нет.
— Кстати, это в Мексике было, где я это видел.
— Может, у нас такого не бывает.
Билли улыбнулся. Скрестил перед собою ноги в сапогах, глухо стукнувших о доски пола, и стал обозревать окрестности.
— Хорошие у тебя сапоги, — сказал старик.
— Это я в Альбукерке купил.
— Смотрятся прям что сто лет носи, сносу не будет.
— Ну, надеюсь. Да ведь немало они и стоили.
— Как цены-то все задрались — что твой кошачий хвост, с этой войной и всем прочим. Это еще если найдешь, чего тебе надо-то.
На пруд, устроенный чуть западнее дома, через ближний выгон пошли слетаться голуби.
— А ты не женился, часом, втайне от нас от всех? — сказал старик.
— Нет, сэр.
— Люди, между прочим, бобылей не очень одобряют. Не знаю уж почему… Помню, как на меня насели: женись да женись, когда я овдовел-то, а мне уж шестьдесят почти было. Все больше, правда, свояченица. А что поделашь, если у меня уже была лучшая женщина на всем белом свете. Такое везение, знаешь, дважды не выпадает.
— Да, сэр. Дважды — это едва ли.
— Помню, старый дядюшка Бад Лэнгфорд говаривал: чем дурная какая жена, так лучше уж никакой. А сам-то, между прочим, вообще никогда женат не был. Так что и не знаю даже, с чего он это взял.
— Наверное, я должен признаться: ну вообще я насчет них вот ни фига не понимаю.
— В смысле чего?
— В смысле женщин.
— А-а, — сказал старик. — Ну, так зато ты, по крайности, хоть не прикидываешься.
— А чего прикидываться. Толку-то.
— Чего бы тебе лошадей чуток вперед не передвинуть, а то барахлишко вымокнет.
— Да я лучше, наверное, уже поеду.
— Куда под дождь-то. Да и ужин у нас как раз намечается. Я тут завел себе кухарку-мексиканку.
— Да ну. Пожалуй, надо бы мне все-таки ехать, пока решимость есть.
— Нет, ты уж оставайся, поужинай.
— Черт, погодите-ка малость.
Когда Билли возвратился из конюшни, ветер разыгрался сильнее, но дождя все не было.
— Коня твоего помню, — сказал старик. — Это ж был конь твоего папы.
— Да, сэр.
— Он его купил у какого-то мексиканца. Говорит, так-то конь вроде ничего, но по-английски ж ни бум-бум не волокет!
Опираясь на руки, старик поднялся из своего качающегося кресла, еле успев подхватить Библию, чуть было не выпавшую из подмышки.
— Вот, даже с кресла встать — для меня теперь работа. Ты такое, наверное, представить себе не можешь, да?
— Что, думаете, лошади не понимают слов?
— Да я не уверен, что люди-то их всегда понимают. Пошли-ка в дом. Она уж обкричалась. Второй раз зовет.
Утром Билли проснулся еще до рассвета, прошел через темный дом на кухню, где горел свет. За кухонным столом сидела женщина, слушала радиоприемник в корпусе, напоминающем митру католического епископа. Он был настроен на станцию в Сьюдад-Хуаресе, но когда Билли показался в дверях, она его выключила и посмотрела на вошедшего.
— Est bien, — сказал он. — No tiene que apagarlo.[655]
Пожав плечами, она встала. Сказала, что все равно передача кончилась, и спросила, как он насчет завтрака. Он ответил, что с удовольствием.
Пока она собирала на стол, он вышел в конюшню, обработал лошадей щеткой, вычистил им копыта, после чего поседлал Ниньо (оставив латиго незатянутым), а на спине вьючной лошади укрепил грузовое седло,{96} хотя и старенькое, но сработанное в мастерских знаменитой калифорнийской компании «Визалия», приторочил к нему скатку и вернулся в дом. Женщина к этому времени уже достала завтрак из печи и выставила на стол. Она приготовила яичницу с ветчиной, пшеничные тортильи и фасоль, все это поставила перед ним и налила ему кофе.
— Quiere crema?[656] — сказала она.
— No gracias. Hay salsa?[657]
Она поставила у его локтя соус в маленькой каменной molcajete.[658]
— Gracias.
Он думал, что она уйдет, но нет. Она стояла и смотрела, как он ест.
— Es pariente del seor Sanders?[659] — сказала она.
— No. El era amigo de mi padre. — Он поднял взгляд на нее. — Sintate, — сказал он. — Puede sentarse.[660]
Она произвела рукой неуловимый жест. Билли не понял, что этот жест должен был значить. Но женщина осталась стоять по-прежнему.
— Su salud no es buena,[661] — сказал он.
Она сказала, что дело не в этом. У него проблемы с глазами, это да, но главное, он очень тяжело воспринял весть о гибели на войне племянника.
— Conoci a su sobrino?[662] — сказала она.
— S. Yusted?[663]
Она ответила, что нет, она его племянника не застала. Сказала, что, когда она нанялась сюда работать, племянника уже не было в живых. Но она видела его на фото, он был очень симпатичный.
Доев остатки яичницы, он вытер тарелку тортильей, доел и ее, допил остатки кофе, вытер рот и, подняв взгляд, поблагодарил женщину.
— Tiene que hacer un viaje largo?[664] — сказала она.
Он встал, положил на стол салфетку, поднял шляпу со стоящего рядом стула и надел. Сказал, что да, дорога предстоит дальняя. Еще сказал, что он не знает, куда она его приведет и поймет ли он, оказавшись, где надо, что это именно пункт назначения. Потом он по-испански попросил ее молиться за него, на что она ответила, что и сама уже так решила, до того как он успел попросить.
На мексиканской таможне в Берендо он вписал лошадей в декларацию, сложил проштемпелеванные въездные документы в седельную сумку и дал aduanero[665] серебряный доллар. Таможенник, назвав его уважаемым господином, с серьезным видом взял под козырек, и Билли вновь въехал в Мексику, на сей раз на территорию штата Чиуауа. Последний раз он проходил через этот пропускной пункт семь лет назад, когда ему было тринадцать; тогда на коне, который теперь под ним, ехал его отец, а задача у них была обеспечить доставку восьми сотен голов скота от двух американцев, гонявших скот по задворкам брошенного ранчо в горах чуть западнее приграничного городка Асенсьон. В те времена на контрольном пункте было кафе, теперь исчезло. Немного проехав по немощеной улочке, увидел женщину, сидящую прямо на пыльной обочине рядом с полной углей жаровней, купил у нее три тако{97} и, не останавливаясь, съел их.
Через два дня пути вечером показался городок Ханос, вернее огоньки, упорядоченным образом расположенные на темнеющей равнине внизу. Остановив коня посреди ухабистой грунтовой дороги, он стал рассматривать хребты на западе, черные на фоне кроваво-красной капли, стекающей по небосклону. Дальше лежала долина реки Бависпе, с нависающими над ней высокими вершинами Пиларес, на которых по северным кулуарам — гляди-ка! — все еще держится снег и, должно быть, стоят такие же холодные ночи, какие были на alto plano[666] тогда, когда он ехал там на другом коне, в другие времена и по другому делу.
Приближаясь во тьме к городку с востока, его маленький караван прошагал мимо развалин одной из глинобитных башен древней городской стены и мало-помалу втянулся в поселение, сплошь глинобитное и стоящее в руинах уже сотню лет. Прошел мимо высокой глинобитной церкви, мимо позеленевших от старости испанских колоколов, висящих на подмостьях в ее дворе, мимо домиков с открытыми дверьми, у которых сидели и молча курили местные мужчины. Внутри, в желтоватом свете керосиновых ламп, двигались женщины, занятые хозяйственными делами. Над городком туманом висел печной дым, а откуда-то из лабиринта сумеречных двориков и стен слышались звуки музыки.
На эти звуки он и поехал по узким глиняным коридорам и в конце концов оказался перед дверью, сколоченной из свежих сосновых досок в натеках высохшей смолы и прикрепленной к косяку полосками из бычьей кожи. Помещение, куда он вошел, было один к одному таким же, как и в любой из — что обитаемых, что брошенных — лачуг по обеим сторонам улицы. Едва вошел, музыка смолкла и музыканты уставились на него. В помещении стояло несколько столиков, все столики были на витиевато-загогулистых ножках, заляпанных грязью так, будто мебель натащили со двора, где она стояла под дождями. За одним из столиков сидели четверо мужчин со стаканами и бутылкой. Вдоль задней стены возвышалась антикварная викторианская стойка бара, будто перенесшаяся сюда — интересно как? — из музея в Брансуике, а за ней на полках столь же антикварного резного и пыльного буфета стояло с полдюжины бутылок — одни с этикетками, другие без.
— Est abierto?[667] — сказал он.
Один из мужчин отпихнул назад свой стул, шаркнув его ножками по глиняному полу, и встал. Он оказался таким высоким, что, когда выпрямился, его голова исчезла в темноте над абажуром единственной лампочки, висевшей над столом.
— S, caballero, — сказал он. — Cmo no?[668]
Мужчина прошел к бару, снял с гвоздя фартук, обвязался им вокруг пояса и встал перед тускло освещенным резным шедевром красного дерева, сцепив перед собою пальцы рук. И сделался похож на мясника на молитве в церкви. Кивнув троим его друзьям за столиком, Билли пожелал им доброго вечера; никто не ответил. Музыканты встали и гуськом, вместе с инструментами, утекли на улицу.
Билли сдвинул шляпу чуть выше, пересек помещение и, положив ладони на стойку, стал разглядывать бутылки на полках.
— Dme un Waterfills у Frazier,[669] — сказал он.
Бармен выставил вверх большой палец. Как бы соглашаясь с тем, что выбор сделан весьма разумный. Протянув руку к собранию разнообразных бокалов и рюмок, он взял высокую стопку с толстым донцем, установил ее на стойке, снял с полки бутылку виски и налил стопку до половины.
— Agua?[670] — сказал он.
— No gracias. Tome algo para usted.[671]
Поблагодарив его, бармен взял еще одну такую же стопку, налил и оставил бутылку на стойке. В пыли, которой была покрыта бутылка, его рука оставила след, видимый даже при тускло мерцающей лампочке. Билли поднял свою стопку и бросил взгляд на бармена поверх ободка.
— Salud,[672] — сказал он.
— Salud,[673] — сказал бармен.
Они выпили. Билли поставил стопку и круговым движением пальца показал, что надо наполнить снова, включив в описанный пальцем круг и стопку бармена. Потом повернулся и посмотрел на троих мужчин, сидящих за столиком.
— Y sus amigos tambin,[674] — сказал он.
— Bueno, — сказал бармен. — Cmo no.[675]
Пройдя по комнате в этом своем фартуке и с бутылкой в руке, он налил в пустые стопки, их приветственно воздвигли, Билли поднял свою; выпили. Бармен вернулся к стойке, где в нерешительности остановился со стопкой и бутылкой в руке. Билли поставил стопку на прилавок. От стола наконец донесся голос: Билли приглашали присоединиться. Взяв стопку, он повернулся и поблагодарил. Кто именно из троих говорил, сразу было не понять.
Когда он взял стул, на котором до этого сидел бармен, сел к столу и огляделся, заметил, что самый старший из троих сильно пьян. Мужчина в покрытой пятнами пота рубашке навыпуск с большими карманами и плиссированной грудью сидел на стуле сгорбившись и уронив подбородок на грудь, обнаженную в широко распахнутом вороте. Его черные глаза с воспаленными веками глядели зло и тускло. Будто затычки из свинца, которым залили буровые скважины, чтобы не дать оттуда вырваться чему-то заразному или хищному. Веки у него изредка медленно опускались и так же преувеличенно медленно подымались. А говорил не он, говорил мужчина помоложе, сидевший от него справа. Теперь он сказал, что давненько к ним не захаживали путешественники, пьющие виски.
Билли кивнул. Бросил взгляд на бутылку, стоящую на их столике. Она была чуть желтоватой и слегка неправильной формы. Ни пробки, ни этикетки, на дне немного жидкости, под ней тонкий слой осадка. На нем свернувшийся крючком червяк вредителя агавы.
— Tomamos mescal,[676] — сказал мужчина. Откинувшись на стуле, он обратился к бармену. — Venga, — крикнул он. — Sintate con nosotros.[677]
Бармен оставил было бутылку виски на стойке, но Билли велел ему принести ее. Тот отвязал фартук, снял его и, повесив опять на гвоздь, с бутылкой подошел к столику. Билли обвел рукой стопки на столе.
— Otra vez,[678] — сказал он.
— Otra vez, — сказал бармен и стал разливать по стопкам.
Когда налил во все, кроме той, что стояла перед мужчиной, который был уже пьян, замешкался, потому что в его стопке было налито еще с позапрошлого раза. Тот, что помоложе, тронул пьяного за локоть.
— Alfonso, — сказал он. — Tome.[679]
Альфонсо пить все же не стал. Свинцовым взглядом давил белобрысого приезжего. Казалось, выпивка его не столько разморила, сколько пробудила в нем уснувшие древние инстинкты. Тот, что помоложе, бросил через стол взгляд на американца.
— Es un hombre muy serio,[680] — сказал он.
Бармен поставил перед ними бутылку, приволок себе стул от ближайшего столика и уселся. Все подняли стопки. И они бы выпили, если бы Альфонсо не угораздило именно в этот момент заговорить.
— Quin es, joven?[681] — сказал он.
Все замерли. Взгляды уперлись в Билли. Билли поднял свою стопку, выпил и, поставив ее на стол, стал смотреть опять в те же свинцовые глаза.