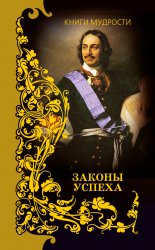Еще вчера. Часть первая. Я – инженер Мельниченко Николай

На нанятой телеге мы ехали назад той же дорогой, которой бежали в 1941 году. Прошло чуть больше трех лет. С нами уже нет, и никогда не будет, нашего папы. Мы втроем выжили. Мы не просто стали старше, – мы стали другие…
06. Мы вернулись домой
Когда я вернусь,
– засвистят в феврале соловьи…
(А. Галич)
Вред и польза от оккупантов
И мир вокруг тоже изменился, хотя здесь кажется, что войны совсем не было. С жадностью вглядываемся в знакомые пейзажи, дома, деревья, дороги. На первый взгляд – все как было три года назад. Только небольшая зеленая станция Рахны превращена в огромный склад оружия. Рядом с железной дорогой километра два занимают непрерывные штабели стрелкового оружия, немецкого и нашего, различных боеприпасов, пушек разной величины. На платформах зенитных установок, как на карусели, катаются мальчишки. Наверное, это был не настоящий склад, а некий пункт, на который свозили все трофейное и поврежденное оружие. Эта пещера Аладдина существовала около года после нашего возвращения и почему-то никем не охранялась. Только божьим промыслом я и близкие друзья остались живы рядом с такими сокровищами. А многие погибли или стали калеками. Но об использовании военной техники и оружия в мирной жизни речь еще впереди.
Все так же величественно и привольно стоят могучие липы вдоль шоссе. Не сразу замечаешь, что одна из многих наполовину сгорела и возле нее горелый остов автомобиля, еще дальше – могучий ствол разворочен взрывом, и липа погибла. Вне шоссе никаких следов войны не было. Даже наоборот: некогда грунтовая дорога была весьма прилично засыпана шлаком и укатана. Вокруг завода появилась высокая ограда из неизвестного материала. Позже выяснили, что ограда, как и многие сооружения, отлиты по технологии оккупантов из того же шлака и извести. На железнодорожной ветке, идущей к сахарному заводу, посредине появился третий рельс. Теперь по этой дороге могли ходить не только обычные, но и узкоколейные поезда…
О других изменениях мне придется рассказать, суммируя и повторяя рассказы очевидцев. В 1941 году после ухода из села Советской власти (оккупанты еще не пришли) самая активная часть трудолюбивого крестьянства приступила к тотальному разграблению сельмага и сахарного завода. Те, которые не успели к дележу самого лакомого, принялись за родные колхозы. И это происходило на моей Украине, где слово «злодiй», эквивалентное русскому «вор», а отнюдь не «злодей», считается самым позорным! Это на Украине, где хаты запирались деревянным запором рукой через дырку в стене, и только для того, чтобы туда не вскочил поросенок, и чтобы показать посетителям, что хозяев нет дома. Почему проснулись темные инстинкты? Может быть, это общее свойство человека, – стоит вспомнить грабежи и погромы в Нью-Йорке, когда там была энергетическая авария и везде погасло освещение? Может быть, потому, что «общее» – это «ничье»? А может потому, что на Украине слишком хорошо еще помнили раскулачивание и коллективизацию, когда была уничтожена самая трудолюбивая и самая трудоспособная часть крестьянства? А может быть потому, что совсем недавно был великий голод 1933 года, когда весь хлеб просто отняли? Скорей всего – действовали все причины одновременно. Понять – значит простить…
Моей малой родине несказанно повезло, причем несколько раз. Первый раз – оккупация произошла без боев. Где-то далеко замкнулся мешок окружения, и власть сама упала, как перезревший плод. Второй раз – она попала в румынскую зону оккупации. Беззаботные румыны поставили в Деребчине комендатуру из нескольких человек, которые воспринимали свою миссию весьма своеобразно. Утром, рассказывают, можно было видеть вооруженного румына, который провел ночь у любезной вдовы. Румын был сыт, пьян в стельку, волочил свою винтовку по пыльной дороге и распевал во весь голос румынский национальный гимн. Гимн этот разучивали в школе, и даже я от своих рассказчиков знал несколько строк. В немецкой зоне оккупации о таких либеральных порядках и думать было нельзя. А немецкая зона оккупации была совсем рядом: в Виннице, как мы узнали и увидели потом, находилась ставка Гитлера. Третий раз Деребчину повезло при освобождении. Отделение бойцов без единого выстрела разоружило пьяную румынскую комендатуру и своим ходом отправило ее сдаваться в плен. Случайно застрявшее в хате на окраине отделение немецких солдат начало было отстреливаться, но их просто забросали гранатами и пошли дальше. Был 1944 год. Воевать уже научились смело и размашисто…
Румыны, кроме пьянства, все-таки занимались и делами. Это они заставили улучшить дороги шлаком, показали способы строительства из смеси извести и шлака – шлакобетона, поставили третий рельс на широкую колею, чтобы не перегружать узкоколейные вагоны с сахарной свеклой. Они сохранили колхозы, как самую удобную форму хозяйства, у которой можно забрать весь производимый продукт. Работал также сахарный завод под их управлением. Самое занимательное состоит в том, что работающему населению они ничего не платили. Поэтому банальное воровство ставало не только единственным способом выжить, но и патриотическим долгом ослабления оккупантов. Однако народ так размахался на этой ниве, что уже не мог остановиться. Когда вернулась советская власть, многие попали под действие так называемых «законов о трех колосках», когда за, можно сказать – микрокражи, людей приговаривали к длительным срокам отсидки. Анекдот-быль тех времен. Многодетную мать судят за хищение 100 граммов сахара, по закону ей причитается большой срок заключения. Женщина-судья, сама мать, чуть не плача, спрашивает подсудимую:
– Ну, зачем, зачем Вы это сделали?
– Ой, пани судья, если бы Вы видели, какая там большая куча, Вы бы сами взяли!
Свои стены, свое имущество
В свою хату мы вселились через неделю: кого-то оттуда выселяли. Соседи и знакомые нас радостно приветствовали и вернули нам оставленное имущество (оставленное – ими, для возвращения – нам): детали будильника, завернутые в тряпочку, и книгу – Библию. Остальное имущество – одежда, обувь, посуда, мебель, огромная библиотека и много другого – было безнадежно «приватизировано» неизвестными, говоря современным языком.
Особенно меня обрадовала Библия, которую раньше никогда не приходилось читать. Это была старинная книга, отпечатанная в две колонки мельчайшим, очень четким шрифтом. Книга включала в себя Ветхий и Новый Заветы, Евангелие, псалтыри, Жития святых и еще много вещей, которых я уже не помню. Каждую свободную минуту я использовал для чтения. Передо мной открывался новый, совершенно незнакомый мир образов и идей. Ставали понятными многие книги, картины. Библию надо было знать, даже будучи атеистом, если хочешь быть просто грамотным человеком, – решил я про себя. К сожалению, саму эту драгоценную книгу у меня подло украли, когда я дал почитать ее своей однокласснице – Зое Полуектовой. Мне не хватило характера пристать к ней «с ножом к горлу», требуя возвращения книги. Конечно, сейчас у меня есть новое издание Библии, может быть, даже более полное, с приложением карт, – ее купила за большие деньги и подарила мне дорогая моя теща. Но ту старую, отцовскую, чудесным образом пережившую войну, до сих пор не могу забыть и простить вора.
У будильника, шестеренки которого нам вернули в тряпочке, тоже была яркая судьба. Путем многочисленных проб и ошибок мне удалось его собрать, но на последней операции повредилась спиральная пружинка балансира. Очень долго пытался ее завить «как надо», но не смог. Отчаявшись, рассмотрел чужие «ходики» с маятником, и припаял самодельный маятник к балансиру будильника вместо пружинки. Часы, на удивление даже «творцу», пошли, но потребовали точного положения по вертикали. Я сделал специальную подставку на стене, и круглый стандартный будильник начал весело отсчитывать наше время, удивляя знакомых. Внизу будильника необычайно быстро качался маятник, вырезанный из банки американской свиной тушенки. Заводить будильник раз в сутки и правильно устанавливать его на «насест» могли только я и Тамила. Поскольку и часы, и собственно будильник, работали очень точно, мама с уважением смотрела на своих механиков, напоминая: «Пора заводить!», если мы забывали об этом. Часы эти работали несколько лет, пока маме на день рождения коллеги не подарили более удобные часы. Мы с Тамилой не без доли злорадства отметили, что ходят они не так точно, как наши, а звонят вообще противным голосом…
Надо было обживаться по-новому на старом месте: жить, одеваться, питаться, отапливаться и освещаться, ходить в школу. С харчами стало немного легче: картошка, во всяком случае, была, кое-что удалось собрать на оставленном нам огороде. Очень, например, нам помог большой урожай слив, от которых мы давно отвыкли. Яблоки, груши можно было купить очень дешево, и мы начали их сушить по казахстанскому опыту.
Дефицит всего остального, требуемого для жизни, был беспросветный, и не только у нас. Первое дело – одежда. Тканей не было никаких. Оккупанты перед бегством завезли большое количество мешков для затаривания награбленного сахара и зерна. Это богатство очень пригодилось изобретательным землякам. Из рогожных мешков, сделанных с немецкой добротностью, получались отличные костюмы. Никого не смущало то, что на заднице или рукаве при этом мог красоваться несмываемый немецкий орел со свастикой, или кусок надписи на вражеском языке. У тех, кто не имел доступа к вражеской таре (в их числе были и мы), и на парадной и на повседневной одежде продолжали множиться заплатки. Вся изношенная одежда не выбрасывалась: она пряталась, чтобы в надлежащий момент превратиться в заплату, которая была бы «в тонус», как говаривала одна дама, латаемой одежде. Крафт-мешки из нескольких слоев плотной коричневой бумаги тоже очень ценились и в прямом назначении и как неиссякаемый источник писчей бумаги. Чернила не расходились на плотной бумаге, из мешков изготовлялись отличные тетради. Писать на такой бумаге, по сравнению с письмом поверх газетного или книжного текста, было одно удовольствие, хотя толщина листов навевала воспоминания о письме на египетских папирусах.
Топливо все так же оставалось главной заботой, теперь уже персонально моей, как профессионального Лесоруба и Конструктора транспортных средств доставки. Увы, лес был очень далеко. Кроме того, бесхозного бурелома там просто не было – трудолюбивые бабули подбирали каждую упавшую веточку и транспортировали их на персональных горбах к семейным очагам. Нельзя было собирать и кизяк, как в Казахстане: весь навоз шел на огороды, да и сохнуть ему быстро не позволял климат.
Оставался единственный выход: лесозаготовки. Сельсовет проводил рубки на выделенных участках грабовых лесов. После валки все деревья тут же разделывались. Ствол распиливался на бревна длиной полтора метра и складывался между кольев. Это были «стосОвые» дрова, принадлежащие сельсовету. Они предназначались для отопления больницы, школ и т. п. Ветки («гиляки») тоже складывались в кучи высотой один метр между столбами с таким же расстоянием, образуя «складометр». Все «складометры» дров принадлежали лесорубам, которым больше ничего не платили. Мне удалось устроиться в бригаду лесорубов, благодаря хорошей памяти об отце. Меня по малолетству не очень хотели брать, но один из лесорубов сказал: «Так это же сынок Трохыма Ивановича!», – и вопрос мгновенно решился. Я очень старался не уронить высокое звание «сынка», кроме того сказался опыт ивановских лесозаготовок: топором и пилой я пользовался почти как ложкой – без страха и уверенно.
За десяток дней работы от зари до зари я получил персональных два «складометра» отличных дров. В виде награды за ударный труд мужики в мои складометры, впрочем – как и в свои, напихали достаточно нестандартных бревен. А вот телегу для доставки дров мама выпросила в колхозе, заплатив символическую сумму. Вознице был обещан «магарыч». Дед произнес: «Само собой. Только не бери самогон у Параски: разводит водой, зараза!». На двух лошадках мы за день сделали две ходки, и вопрос топлива на зиму был закрыт. Лошадки, кстати, были «электрифицированные»: их упряжь была искусно сплетена из немецких телефонных проводов с разноцветной виниловой изоляцией.
Друзья старые и новые
В первые же дни после приезда я с радостью встретился со своими довоенными друзьями: Витей Бондарчуком, Броником, Васей Войчуком. Все они были мои «годки». После первых встреч, разговоров, воспоминаний, – мне стало казаться, что они маленькие еще, а я уже старый, и говорим мы на разных языках. Мне было интересней с ребятами старше меня: Колей Пинчуком, Витей Вусинским. Да, пожалуй, дело было даже не в возрасте: просто это были очень яркие увлеченные люди. Оба ушли очень молодыми. Возможно, у меня хватит времени рассказать хоть немного о них.
Самым близким другом на много лет мне стал Толя Размысловский. Он старше меня на два года. Наша дружба началась в 1944-м, и продолжается до сих пор. Я еще не раз напишу о нем. Толя выделялся из сельского общества своей начитанностью и грамотностью. Книги он глотал все, которые можно было добыть. Его речь в то время казалась какой-то сложной, напыщенной, изобиловала сложными оборотами и старинными полузабытыми словами. Очевидно, это был слепок с какого-нибудь понравившегося ему романа. Его несомненный юмор был настолько тонок, замысловат и вычурен, что сельские ребята, не отягощенные образованием, его просто не понимали, за что и уважали. Характер у него тогда был замкнутый, но за внешней суровостью и нелюдимостью скрывалась легкоранимая и чувствительная, даже сентиментальная, натура. Он обладал великолепным слухом, легко запоминал мелодии и звуки чужой речи. Я от него научился петь многие неизвестные и известные песни. Когда он изображал немцев с их выговором, я думал, что это пародия. Значительно позже я понял, что именно так говорят настоящие немцы. Одним словом, Толя имел все задатки, чтобы стать выдающимся гуманитарием, знатоком литературы, языков, искусства, культуры… Он стал паровозным машинистом. Водил тяжелые поезда в Сибири и на Украине. На пенсии обосновался в зеленом городке Коростень, недалеко от Чернобыля, мирно растил дочек и огурцы. Во время чернобыльской катастрофы оказалось, что только старинные паровозы могут вплотную подойти к пылающему реактору. А паровозные машинисты уже вымерли как класс. И вот пенсионер Анатолий Николаевич Размысловский расконсервировал стоящий в госрезерве паровоз и стал почти круглосуточно подвозить материалы прямо в атомное пекло для укрощения пылающего реактора…
Анатолий Размысловский в 1949 г.
Одно событие далекого 1937 года изменило возможную судьбу моего друга. Его отца, крупного хозяйственника(?), арестовали как «врага народа» и расстреляли. Мать осталась с тремя детьми (Толя – средний) без всяких средств к существованию. Нищета была потрясающая. Хорошо, что осталось хоть жилье: власти оттяпали только половину большого дома под «железной» крышей в центре Деребчина. Только мать знает, как ей удалось сохранить и вырастить троих детей: никто не был сдан в детдом, не пошел в бандиты или на паперть. Но дорога в ВУЗ для них была закрыта по определению. Хорошо еще, что сами не загремели в один из лагерей для семей врагов народа. Вот что написал мне по почте в Интернете мой друг Толя Размысловский в 2006 году:
По поводу отца. Я себя начал помнить с того момента, как на улицах по утрам находили трупы. Это было в Мурафе, и это был год 1933-й. Отец работал каким-то специнспектором в Шаргородском райпотребсоюзе, контора которого находилась почему-то не в Шаргороде, а в Мурафе. Что он был этим самым инспектором, я узнал из фотографий тех времён, где под его фото была надпись «специнспектор Размысловский Н. И.».
Затем, уже где-то в году 1936, его перевели в Деребчин главным бухгалтером местного сельпо. Оттуда его и забрало НКВД в декабре 1937 года. Дом он купил у одного еврея (кажется, Аарона). У отца была библиотека. Но всё это было конфисковано, и дом тоже. Но дом нам потом в 1939-м году возвратили. Обвинили отца в том, что он был в войсках Украинской Народной Республики (т. е. у Петлюры).
Это потом оказалось ложью, но пока это всё всплыло наружу, много таких, как он, успели расстрелять в Виннице.
Вот и всё, что я об этом знаю. Мне кажется, что в те времена была тенденция избавляться от людей грамотных, интеллигентных под любым предлогом. Ибо эти люди видели просчёты власть имущих в деле строительства «светлого будущего». Вождь всех времён и народов избавлялся от своего окружения. Вожди помельче – от своего. Ладно, не будем об этом.
В седьмом классе, в котором я начал учиться в сентябре 1944 года, почти все были переростками: три румынских «класса» не засчитывались. Два парня уже были покалечены войной, в основном из-за неумеренного любопытства к взрывоопасным предметам. Общество собралось разношерстное, вполне взрослое и любознательное. Например, такая сценка: молодая симпатичная учительница Зоя Столярчук вдруг замечает, что вся мужская часть класса спряталась под парты. Через какое-то время она начинает понимать, что именно она «интересно» сидит, и класс с восторгом разглядывает ее прелести. Зоя становится пунцовой, садится по-другому, урок продолжается.
В седьмом классе нас поразила эпидемия чтения на уроках. Кто-то из наших ребят на чердаке тетушки нашел огромные залежи «Нивы» и приложений к ней. Главные писатели в приложениях, как мы тогда определили, были Дюма, Фенимор Купер, Генрих Сенкевич. Тетка выдавала по одной книге. На «Королеву Марго», «Графиню Монсоро», «Сорок пять», «Прерия», «Следопыт», «Последний из могикан» и другие книги был установлен жесткий график, который часто, увы, срывался: времени уроков не хватало, а дома хватало других занятий, да и скорость чтения у всех была различной. И вот кто-то из нас придумал смелое решение: разодрать книгу на мелкие пронумерованные тетради. Способ был варварский, но сверхэффективный: теперь весь класс одновременно мог читать одну книгу. За некоторые «тягомотные» уроки можно было прочесть 2–3 тетради. Чтобы прочесть недостающую часть трилогии Сенкевича «Огнем и мечом», пришлось даже слегка изучить польский алфавит и язык (многие польские слова становятся понятными, если их правильно прочесть).
Конечно, читалось не на всех уроках. Необъяснимым образом ученики мгновенно «тестировали» учителя и определяли свою линию в дальнейшем общении. Выстрелов шариками по лысине учителя уже не было: все стали старше, но предаваться упоительному чтению на «пустых» уроках – святое дело. Очень хорошо проходили уроки у мамы. Она преподавала алгебру так интересно, что почти все полюбили эту науку. Помню начало. После переклички, мама предложила решить задачку. Встречается гусь со стаей и здоровается:
– Здравствуйте, сто гусей!
Те отвечают:
– Нас не сто. Вот если бы еще столько, да еще полстолько, да еще четверть столько, да ты с нами, – вот тогда бы была сотня!
Так сколько же было гусей? Класс углубился в перебор вариантов, но ничего не получалось. Тогда учительница Евгения Семеновна, очень доходчиво обозначив число гусей через икс, прибавила к нему все высказанное стаей. Решить такое уравнение – уже детская задача.
Кстати об уравнениях. Через год, когда я уже работал на заводе, мой друг и учитель премудростям кузнечного и литейного дела Миша Беспятко с деланно безразличным видом задал мне задачку на тему: если я тебе отдам одно яблоко, то будет…, а если ты мне отдашь два, то станет… Сам он решал эту задачку несколько дней, решил ее, и очень этим гордился. Он заранее предвкушал, как я буду мучиться, и как он придет мне на помощь, открыв Истину, как бывало обычно, когда он учил меня рабочим премудростям. Я на клочке бумаги написал два уравнения, решил их и через несколько секунд выдал ему ответ. Миша начал меня разглядывать с каким-то ужасом, как будто у меня вместо одной головы выросли три. «Как ты это сделал?», – наконец смог он спросить. Я объяснил. «Ты меня научишь?». «Конечно, Миша, ты ведь меня тоже учишь!». О Мише, интересном и талантливом человеке, я еще напишу.
Одним из наших учителей в школе был еще довоенный, работавший вместе с отцом, учитель Ялонецкий. Теперь я даже не помню, что он нам преподавал, кажется, – немецкий язык и еще что-то. Он был участником еще той войны, когда мы освобождали Западную Украину. Тогда по глупости я все добивался от него «боевых эпизодов». Великую Отечественную он как-то благополучно «проскользнул» и возвратился на круги своя. Запомнился он своими речами, например:
– Сядь, голубе, та сядь, голубе! Ти ж дурний, та ти ж дурний, як сало без хлiба, та як сало без хлiба!».
Может, он ничему нас не научил, зато я на всю оставшуюся жизнь запомнил, что сало без хлеба – «дурне».
Самой колоритной и незабываемой фигурой в нашей школе, несомненно, был военрук Василий Леонтьевич. Я очень умышленно не называю фамилии, опасаясь мести его потомков, или его самого, дай бог ему здоровья, если жив. Василий Леонтьевич (Лявонтиевич) был из сержантов, то есть рядовых, воевавших честно и инициативно. Образование у него было незаконченно-неполно-среднее. Жил бы он спокойно и размножался с аппетитом, если бы сам Диавол не толкнул его на педагогическое поприще, на котором он основательно истрепал нервы и пошатнул собственное, дотоле крепкое, здоровье. Поскольку мы с Толей были главными «шатальщиками» его здоровья, то начать придется издалека.
Вооружаемся. Наш военрук – лучший в мире
Мы зачастили в Рахны. Неохраняемый двухкилометровый склад оружия нас неудержимо притягивал. Из боеприпасов нас привлекали толстые макароны артиллерийских порохов: ими можно было отлично растапливать печку. Капсюли-детонаторы мы использовали вместо хлопушек. Их надо было завернуть в тлеющий материал и оставить на пути следования того, кого желаешь развеселить. Очень хороши были снарядики от авиационной пушки. Трассирующие удобно было бросать в костер: они давали яркую красную вспышку. А вот в бронебойных среди свинца был очень полезный инструмент – твердый стальной сердечник, которым можно было накернить или пробить любую железяку. (Мне такой инструмент был очень нужен: я отремонтировал один замок и немедленно был завален соседскими поломанными замками). Часами бродили мы по складу, выбирая себе достойное личное оружие. Артиллерийские и зенитные системы мы сразу отвергли, как недостаточно компактные для наших жилищных условий. Хотели было заиметь немецкие пулеметы Maschinengewehr, к которым даже была уйма запасных стволов, но уразумели, что у нас будут трудности со снабжением боеприпасами. Аналогичное положение было и с автоматами и пистолетами, которые, кроме того, все оказались неисправными.
Наши игрушки
Как люди практичные, мы остановили свой выбор на русской трехлинейной винтовке Мосина, образца 1891/30 года. Боеприпасов к ней было вдоволь, конструкция известная мне до боли еще по начальной школе в Казахстане, где мы часами разбирали – собирали затворы. Устраивал также магазин из пяти патронов: война кончалась, и незачем было палить очередями. Известные тяжесть и громоздкость оружия мы решили исправить собственными конструкторскими доработками, что и было проделано на чердаке у Толика. Стволы были решительно укорочены на две трети. Из деревянных приклада и ложи остался лишь небольшой кусочек с ложбинками, где винтовку поддерживают левой рукой. Вместо шейки приклада были изготовлены рукоятки как у автомата ППС. Получилось весьма компактное оружие, размером и весом не намного больше маузера. Боевые испытания показали, что стреляет оно оглушительно, пробивная способность пули на расстоянии 100 метров выше всяких похвал. Вскоре оружие нам остро понадобилось, но об этом чуть после: надо окончить рассказ о военруке.
Он стал нам читать развернутые лекции! На разные военные темы, одна другой лучше. Началось с отравляющих веществ. Водя пальцем по изысканному где-то плакату, читая чуть ли не по слогам, он нам пересказывал сведения из плаката, заодно умудряясь их перевирать!
– Иприт имеет запах прелого сена, – торжественно провозглашает он.
– Чеснока, – бурчу я, не отрывая глаз от «Королевы Марго» под партой.
– Нет, прелого сена! – взвивается военный руководитель, тыча пальцем в плакат. К учительскому столу выходит Толя, находит графу «Иприт» и громко, по слогам, читает:
– Иприт имеет запах чеснока. Запах прелого(?) сена имеет люизит.
Класс стает на уши. Кто-то задает вопрос, какой идиот, понюхав иприта и люизита, смог рассказать оставшимся жить об их запахах? Начинается такой базар, что малыши, через класс которых мы проходим в свой, прекращают урок и, не слушая растерявшуюся учительницу, прилипают к стеклянным дверям.
Следующую тему о Красной Армии наш несравненный военрук решил рассказать своими словами, не доверяя трудно читаемым плакатам.
– В 1940 году финны забрались на сопку Заозерную и начали оттуда обстреливать Ленинград и Сталинград, – начал он лекцию. Класс притих и дружно раскрыл рты.
– А что Сталинград и Ленинград недалеко друг от друга? – смог кто-то выдохнуть.
– Да, они рядом, – уверенно заявляет наш стратег.
– А где же тогда Саратов? – спрашивает Толя первое, что приходит на язык.
– А Саратов – вовсе на финской территории, – без тени сомнения заявляет наш военный руководитель.
Финны на сопке Заозерной
Класс взревел так, что малыши из проходного класса просто ввалились в наш и, раскрыв рты, созерцали, как катаются по партам «взрослые дяди»…(Во все это трудно поверить, но я пишу не юмористические рассказы, а автобиографию, и у меня есть свидетели). И вот этот редкостный знаток военного дела заявляет, что на следующем занятии мы будем изучать мины. «Надо, по крайней мере, обеспечить учебный процесс наглядными пособиями», – подумал я.
Очень скоро, по совершеннейшей глупости, я начал осуществлять задуманное. В Рахнах я прихватил снаряженную взрывателем 120-миллиметровую мину и потащил ее в Деребчин. Мина весила килограммов 6–8, нести ее под рукой было тяжело, черный нос взрывателя с прозрачным донышком угрожающе наклонялся к земле. Тогда я снял рубашку, довольно ветхую, положил туда мину и так донес ее до дома, прячась от мамы и Тамилы. Везет не только пьяным, но и дуракам: мина не выскользнула и не размазала меня в пространстве.
На следующий день я пришел в школу пораньше и положил мину под парту. Она спокойно лежала там несколько уроков, дожидаясь лекции нашего военного ученого. Когда он начал объяснять, что мины бывают и для миномета, я вытащил из-под парты свое наглядное пособие и положил его бывшему сержанту на стол.
Такого эффекта не мог предвидеть никто. Едва взглянув на взрыватель, наш доблестный военный руководитель рванул к окну, распахнул его одним ударом, вскочил на подоконник и сиганул вниз с довольно приличной высоты бельэтажа. Все случилось настолько быстро, что все замерли с открытыми ртами.
Эффект наглядного пособия
Сначала до меня начал доходить комизм случившегося, от которого хотелось ржать, затем – невероятная глупость содеянного и опасности для всех, отчего хотелось, по крайней мере, задуматься. Что я делал первым, что вторым – не помню. Военрук внизу не просматривался, значит, приземление прошло удачно. Направление его движения было неизвестно, что нам делать после его бегства – тоже непонятно. Класс молчал, с опаской поглядывая на хвостатую смерть. Через минут десять вошел директор Редько и расставил всех по местам: меня – в учительскую, учеников – по домам, мину – какому-то военному представителю.
Надо мной опять нависла угроза исключения из школы. Я искренне покаялся и был прощен. Васю-сержанта куда-то убрали. Мама говорила, что мои выходки ей добавили много седых волос. Одна Тамила втайне гордилась мной, рассказывая подружкам, что ее любимый Колька хотел взорвать школу…
Взгляд из будущего. Где-то в конце шестидесятых годов на военном «козлике» я объезжал ракетные старты, которыми мы усеяли всю Прибалтику. Тогда массовые ракеты не летали еще далеко, и мы их натыкали как можно ближе к границам НАТО. Переезжая в Латвии через мостик маленькой речушки, я заметил в руках мальчика некий знакомый предмет. Я велел водителю остановиться, выскочил из машины, очень спокойно поздоровался с ребятами и попросил их подарить или продать мне ЭТУ штуку. Малыш охотно подарил мне вымазанную илом мину и предложил мне взять еще, если они мне так нравятся. Я оглянулся. На бережке просыхали еще десяток хвостатых 50-ти мм мин, которые ребята выуживали из ила под мостом. Я велел ребятам идти по домам, они беспрекословно повиновались (на мне была черная морская форма, весьма напоминающая эсэсовскую) и послал водителя за властями, чтобы разминировать опасное место. Надеюсь, в небесной канцелярии мне хоть частично скостили мой долг за деребчинскую мину…
А вот наше стрелковое оружие чуть не выстрелило еще громче. Ходили мы с Толей на станцию, где разгружали уголь для завода. Уголь был из Силезии, курной, и хорошо горел в обыкновенных печках. На путях и рядом после разгрузки можно было собрать пару ведер угля, совсем не лишнего в холодную зиму. Не брезговали мы и крупными кусками из еще неразгруженных платформ. Однажды за таким занятием нас застукал хромой Илюша Шевченко, какой-то начальник в заводской охране. Несмотря на наше сопротивление, он затащил нас в комнату охраны. Держал там нас он несколько часов, затем избил и пинками здоровой ноги вышвырнул из помещения.
Решение наше было единодушным и непреклонным: убить гада. План был тщательно разработан. Гад (по другому теперь мы его не называли) всегда возвращался домой поздно вечером, после кино в заводском клубе, через мост вблизи Толиного дома. Засада была предусмотрена в близких кустах с обеих сторон дороги. Намечен был видный ночью камень на дороге, по достижении которого Гад отправлялся в мир иной одновременными выстрелами с двух сторон. Промах почти исключался из-за близкого расстояния, но было предусмотрено и добивание двумя выстрелами в упор. Были разработаны пути ухода и, на всякий случай, – перепрятывание оружия. О том, чтобы его, по примеру современных киллеров, бросить, – и мысли не возникало: потеря оружия, знали мы, – тягчайший грех.
Намеченные обстоятельства: кино и присутствие на нем Гада, произошли уже через несколько дней. Мы, не досмотрев фильм, смылись раньше, вооружились и залегли в облюбованных точках. Шаги хромого Гада («рупь – двадцать» по нашим дразнилкам) мы услышали издалека, но на этот раз он шел не один: его под ручки вели две женщины. Стрелять было нельзя, и мы скрепя сердце отложили казнь. Следующее совпадение обстоятельств произошло через пару месяцев, но к тому времени мы немного остыли, а главное – стали старше на целых два месяца и великодушно разрешили инвалиду Великой Отечественной Илье Шевченко продолжать жить.
Взгляд из будущего. Через несколько лет, уже будучи студентом, я со смехом рассказал Илье, на каком тонком волоске висела тогда его жизнь. Он задним числом испугался и сказал: «Вот так иметь дело с пацанами!», и попросил прощения за прошлое свое недомыслие. Однако Илье видно было в книге судеб записано погибнуть насильственной смертью: его из ревности зарубила топором собственная жена. Спи спокойно, Илюша, ты был не самым плохим человеком, защищая Родину и сберегая социалистическую собственность. Спасибо тебе, Господи, что Ты не допустил, чтобы Твоя воля исполнилась руками двух юных олухов!
Комсомол – школа молодых
Где-то к началу декабря в школе появился инструктор райкома комсомола – молодая симпатичная девушка и завизжала от удовольствия: у нас был «большой контингент неохваченных», т. е. таких, которые по возрасту могли быть комсомольцами, но таковыми не были. Она – охватила. Приняли сразу человек 10, чтобы создать свою организацию. Почему-то, когда возник вопрос: кому рулить – большинство показало пальцами на меня. Я вяло отнекивался, но тщеславие распирало меня: доверили. В дальнейшей моей жизни меня часто ловили на удочку особого, личного и т. д. доверия, чтобы навесить на горб еще какую-нибудь ношу (однажды мне поручили даже стать банкиром!)…
Правда, тогда комсомол гремел всякими подвигами – и на войне, и в труде. Да, и вообще, – все интересное и боевое было в комсомоле. Если молодой человек не в комсомоле, не со всем народом, – значит он контрик, баптист или имеет еще какую-нибудь неведомую ущербность. Просто без этого нельзя было тогда жить.
Я начал крутиться в новой должности: проводил собрания, кого-то «разбирали» за плохую успеваемость, кого-то – за дисциплину. Запомнилось такое комсомольское поручение райкома: собрать куриные яйца для детдомов. Со товарищи мы развернули бурную деятельность и набрали две корзины, что было очень непросто в то голодное время. Хранить их долго было негде. Вдвоем с одной девушкой мы на собственном горбу, пешком, понесли эти две корзины за 22 км в райком. Основную ношу, естественно, тащил я, как человек облеченный доверием. Было голодно, но съесть пару яиц для собственного подкрепления, – и мысли не возникало. В райкоме мы добавили наши две корзины к большой куче и с чувством исполненного долга налегке отправились в обратный путь.
Мы свято верили, что райком так же переправит драгоценный харч по назначению, а не превратит его в яичницу для собственного потребления. О таком разложении, которое позже показали в кино «ЧП районного масштаба» и подумать было нельзя: партия бдительно смотрела за своим молодым резервом, отбирала инициативных, грамотных, работоспособных, – затем растила и двигала их все выше и выше…
Взгляд из будущего – обзор моих подвигов на политическом поприще
В принципе – все так и было, наверное, пока сама партия не начала загнивать – с головы, конечно. Когда я перечислял требования к отбору лидеров, которые производила партия, я лукаво упустил один из самых главных: покорность, полная управляемость этих «выдвиженцев». У меня с этим делом было туго. По некоторым качествам я «выдвигался», избирался на довольно высокие места в комсомольской и, позже – партийной иерархии. Затем, с неотвратимой регулярностью, я восставал против какой-нибудь тупорылости или подлости, и система низвергала меня обратно в нулевое состояние. Я надеюсь рассказать еще об этих метаморфозах… Был бы умнее, – дослужился бы до Генсека районного масштаба.
Отца уже нет в живых…
В трудах и заботах прошла зима 1944 – 45 годов. Нам перестали выплачивать пособие как семье красноармейца. На наш запрос в Москву, оттуда пришло извещение, что ответ будет дан через военкомат. В военкомате сообщили, что отец осужден Военным трибуналом, без всяких подробностей и причин. К тому времени его уже не было в живых… Какие-либо попытки, узнать хоть что-нибудь о его судьбе, неизменно оканчивались ничем.
Передо мной и Тамилой закрывались все двери будущего. На семейном совете было принято такое решение: везде, всегда, во всех анкетах, которых тогда заполнялось великое множество по любому поводу, писать одно: «отец ушел воевать в 1941 году, сведений о нем не имею». Этим мы не отрекались от тебя, дорогой наш папа. Просто мы знали, как приходится жить детям «врагов народа» и таким наивным способом пытались защититься. В целом наше утверждение соответствовало истине: никаких официальных сведений о судьбе отца мы действительно не имели. Не имею их и теперь – я, единственный пока живой из нашей семьи. На запрос полковника Мельниченко Н. Т. о судьбе рядового Мельниченко Т. И. архив родного Министерства Обороны ответил, что сведения не сохранились… Что же – мы жили в стране, где миллионы людей исчезали бесследно…
Взгляд из будущего, некоторые аналогии. Мой кузен Володя Мельниченко, ныне капитан первого ранга в отставке, где-то в году 1965 блестяще оканчивал ВВМУРЭ. Практику он проходил в Москве в ГРУ и имел 100 %-ную уверенность, что туда получит и назначение. Однако просунулась чья-то «волосатая рука», и это назначение получил «средненький» товарищ, а Володя – на Северный флот. В знак протеста Володя порвал чертежи дипломного проекта, тянувшего на кандидатскую, и на следующий день готовился перед строем демонстративно сорвать только что врученные лейтенантские погоны. К счастью, он пришел ко мне, уже подполковнику, поделиться своими планами. Его глаза горели, он уже отчетливо представлял эффект своих действий. «Ну и что будет дальше после твоего идиотского представления?», – спросил я его. И объяснил, что двери будущего закроются не только перед ним, что было бы вполне справедливо за проявленную глупость, но и перед его детьми и внуками, которые уж точно ни в чем не виноваты… Я ему сделал такое «вливание», что он в течение ночи при помощи друзей восстановил чертежи, прошел защиту дипломного проекта и все построения – поздравления – вручения. Жизнь и карьера его сложилась вполне благополучно, хотя он чуть не утонул вместе с подводной лодкой подо льдами Северного полюса. Его сын – молодой ученый…
Пришла долгожданная весна Победы – конец Великой Войны – время больших надежд на лучшую жизнь. Сам День Победы мне почему-то не запомнился: радио не было, и про капитуляцию Германии мы узнали только на второй или на третий день.
Приближалось окончание школы. О сдаче экзаменов за седьмой класс ничего не помню: то ли они прошли без всякого напряжения, то ли нам просто поставили в аттестат оценки за четверть. Все мысли были о будущем. Бывшая наша средняя школа после войны превратилась в НСШ – неполно-среднюю. Восьмого класса уже не было, так как не было ни учителей, ни учеников, ни штатов. Несколько моих одноклассников отправились продолжать учебу в Мурафу – местечко километров за 12 от Деребчина. Там они снимали углы или комнаты, продукты возили из дома. Такой вариант для меня исключался: ни денег, ни одежды, ни продуктов для содержания оторванного от дома студента без всякой стипендии – у нас не было. Мама получала копейки, маленькую Тамилу еще надо было поднимать.
Оставался один выход – идти на работу. В разваленный до основания колхоз идти было бессмысленно: пока палочки трудодней превратятся в нечто съедобное – уже некому будет кусать. Оставался сахарный завод. Платили там, таким как я «черным специалистам», – копейки, но и они были нужны. Но главное – на заводе по карточкам рабочим давали по 500 граммов хлеба, от которого мы опять стали отвыкать после ивановских торфяников. И еще: рабочим ежемесячно выдавали стимул. Загадочным иностранным словом обозначались отходы сахарного производства – патока, в которой уже не было сахара. Мне известно только одно (но какое!) применение этого «стимула»: изготовление самогона. В принципе – самогон можно добывать из чего угодно, даже из табуреток. Мои земляки добывали его из производных сахара. Низший сорт самогона «бурячанка» изготовлялся из сахарной свеклы, высший – из драгоценного сахара. Из патоки изготовлялись промежуточные сорта самогона, но знатоки ценили их даже выше сахарных за особый аромат. Поэтому «стимул» являлся всегда ликвидным продуктом и даже свободно конвертируемой местной валютой. На заводе стимул выдавали почему-то в старинных пудах: минимум – полпуда (8 кг), максимум – полтора пуда –24 кг. Из килограмма патоки получалось две пол-литровые бутылки самогона (исчисление конечного продукта велось только в полулитрах).
На следующий день после прощания со школой я уже работал на заводе. Ко дню официального перехода из детства в рабочий класс мне уже исполнилось 13 лет и 10 месяцев.
Уже во время работы на заводе я где-то прочитал объявление о наборе учеников в КВАСШ. За такой, прямо скажем, – неблагозвучной аббревиатурой скрывалась Киевская военно-артиллерийская средняя школа. Воспитанники (кадеты? курсанты? ученики?) этой самой КВАСШ находились три года на полном государственном обеспечении, затем направлялись(?) в военные училища. Маме не очень нравилось такое мое будущее, даже глядя на успешного артиллериста И. А. Редько. Но грядущее «обут – одет – накормлен» – вдохновляло.
Я колебался: по слухам в Киеве была такая же КВАСШ, только авиационная. Как-то небо было желаннее, чем гром канонады. Я начал собирать документы. Кроме школьных бумаг требовались еще комсомольская характеристика. Я уже догадывался, что начальство, даже комсомольское, не должно само составлять бумаги, а только подписывать. Вспомнив свои яичные подвиги, я написал сам себе умеренно-теплую характеристику предельно доступным мне каллиграфическим почерком и сбегал за 22 км в районный Шаргород. В райкоме меня признали, чему я несказанно удивился. Главный районный комсомолец Музыко, по слухам – контуженый офицер, пробежал мою бумагу, произнес: «Это делается не так!». Через несколько минут застучал Ундервуд секретарши. Подпись Райгенсека, печать, регистрация, расписка, – и я счастливый обладатель Первой Официальной Бумаги с Печатью, где я назван по имени – отчеству и где указаны мои заслуги!!!
Обратную дорогу я летел на крыльях. С такой Бумагой – мне везде дорога! В ней, правда, были две неточности: для краткости проигнорированы три года восточной жизни и добавлен один год моей жизни: по правилам я не мог окончить семь классов в столь юном возрасте.
С дрожью отправлял я в Киев драгоценную бумагу вместе с другими. Ответ пришел неожиданно быстро. К моим бумагам КВАСШ приложила свою: школа комплектуется детьми погибших офицеров через военкоматы. Лично для меня ничего сделать нельзя, т. к. она – КВАСШ – уже наполнена до краев… С Киевом мне определенно не везло: это уже был второй «отлуп», – при первом меня не приняли в писатели. Ничего не оставалось, кроме как произнести классическое: «И не очень хотелось!», тем более, что и в самом деле – не очень.
07. Завод
В действительности все не так, как на самом деле…
Шаберы бывают разные
Для работы на заводе нужна была «спецовка». В конце рабочего дня завод выплескивал на главную улицу Деребчина толпу людей с замурзанными лицами в черной пропитанной маслом одежде. Они расходились по домам и уже там отмывались и переодевались. В моих глазах такая промасленная спецовка была похожа на рыцарские доспехи, а степень ее загрязнения была равна толщине и качеству брони на латах. Конечно, требуемого снаряжения у меня не было. Мама, вняла моим жалобным намекам об отсутствии нужной экипировки и изготовила мне брюки из детского байкового одеяла, которое из-за длительного употребления и многих стирок весьма утончилось и приобрело цвет неба во время длительной засухи. Вместо куртки была использована старая рубашка, отреставрированная по последней моде новыми заплатками. Я гордо прошагал в своих доспехах задолго до начала рабочего дня, который начинался в 7 часов. Однако контора начинала работать только в 8 часов, и мне пришлось долго томиться перед закрытой дверью отдела кадров. Прием на работу мне уже был обеспечен «по блату»: отец моего хорошего приятеля Бори Пастухова работал на заводе инженером и «замолвил словечко». Пастуховы за полгода до этого приехали в Деребчин. Борис окончил вместе со мной седьмой класс, восьмой класс планировал оканчивать в Мурафе: наши дороги расходились.
После короткой процедуры занесения в списки славной когорты Рабочего Класса, Выдачи Хлебных Карточек, ознакомления с распорядком трудового дня и инструктажем по технике безопасности вообще, я был представлен своему главному начальнику – бригадиру слесарей Задорожному Петру Ивановичу. Кстати, продолжительность рабочего дня составляла во время ремонта завода 10,5 часов, начало в 7часов, окончание – в 18, с получасовым обеденным перерывом. За опоздание на работу свыше 15 минут по закону уже полагался суд. Выходной – воскресенье. Суббота – обычный рабочий день. Чтобы не возникало проблем с моими 13 годами, росчерком пера мне был прибавлен один год жизни. (Эти сведения я привожу специально для читателей, развращенных двумя выходными и невыносимо гуманной охраной труда несовершеннолетних, коими считаются рослые ребята, подумывающие об оформлении де-юре существующего де-факто брака).
Фото на заводском пропуске
Бригадир хмуро оглядел меня с головы до пяток и записал мои ФИО в замасленную тетрадку. Затем вручил мне круглую железку, расклепанную с обоих концов, указал на груду серых камней и на блестящий краник замысловатой формы. Оказалось, что серые камни и блестящий краник – это одно и то же изделие: второе получалось из первого после отделения толстенного слоя накипи. При помощи выданной мне железяки, которая называлась «шабер», я и должен был выполнять это чудесное превращение. Я уселся на свободный ящик из-под болтов, принял на свои небесно-голубые колени серый камень краника и начал прилежно трудиться, исподволь оглядывая окрестности и людей.
Участок нашей бригады размещался на обособленном пятачке внутри огромного закопченного здания котельной. Основную часть внутреннего объема помещения занимал ряд из нескольких котлов, каждый размером с двух– трехэтажный дом. Все котлы были опутаны различными трубами: изолированными и голыми, круглыми и прямоугольными, тонкими и толстыми. На фронтальной стороне котлов внизу были большие чугунные дверцы топок с множеством всяких люков, ручек, труб больших и малых. Все котлы объединяла узкая металлическая эстакада, идущая на уровне третьего этажа. На уровне этой эстакады и размещались те многочисленные краники водомерных рамок – стекол и манометров, которые мне предстояло возвратить к жизни.
Технический взгляд на прошлое. Позже я узнал, что весь мой трудовой героизм первых месяцев работы был вызван неправильной эксплуатацией паровых котлов: очень жесткую воду для питания котлов не «умягчали», и все минеральные примеси в воде намертво прикипали к горячим деталям котла. Толщина накипи внутри нагреваемых труб достигала 10 миллиметров. Сжигаемый уголь на 80 % вылетал в трубу, не в силах испарить изолированную накипью воду.
Бригада приглядывалась к своему слегка «блатному» новичку, а я исподтишка разглядывал людей, с которыми начинал официальную трудовую жизнь. Бригадир Задорожный выглядел как обычный сельский «дядько» лет пятидесяти: слегка небритый и давно не стриженный, до смерти замученный растущим клубком повседневных хлопот. Сдержанным и суровым выглядел Степан Гаврылюк, мужик лет 40 с Западной Украины. Треугольное лицо аскета с резкими чертами страдающего на распятии Христа было снабжено глазами, подтверждающими невыносимость этих страданий.
Этот довольно мрачный бригадный пейзаж скрашивал Толя Цымбал, веселый словоохотливый мужик лет 45-ти, всегда чисто выбритый и опрятно одетый, с черными маслинами озорных глаз и густой шапкой совершенно седых волос. Первую байку, которую я услышал в его изложении, нельзя назвать высоконравственной. Во время работы завода Цымбал был бригадиром кочегаров, а кочегарами – необученные девчата из окрестных сел. Иной бы взвыл от такой ситуации, когда завод непрерывно требовал горячего пара, а кочегары – неумехи. А вот Цымбал рассказывал, какое это наслаждение – рассматривать оголившиеся ножки сельских красавиц, когда они, наклоняясь до предела, шуруют в топках котлов тяжелым кайлом. Дальше шла вообще поэма, когда он начинал учить красавицу, как именно надо двигать кайлом, стоя сзади и положив для лучшей усвояемости свои руки на ее…
По-видимому, вариации этих историй исполнялись Цымбалом не первый раз: бригадир улыбался краем рта, не отрываясь от записи работ, которые надо включать в наряды для начисления нам всем зарплаты. Гаврылюк сумрачно слушал, прогоняя резьбу на поврежденном болте. Так что все байки были направлены на меня, прилежно отскребающего от накипи свои краники… Безотносительно к содержанию баек, работать ставало как-то легче, свободнее. Позже я понял, как нужны в любом коллективе такие «баснописцы», не позволяющие вышеозначенному коллективу закиснуть от невыносимого усердия…
Однако у меня дела продвигались не так быстро, хотя я приобрел некоторую сноровку. Вскоре я понял, что меня тормозит несовершенство моего инструмента: он имел только прямые грани, что требовало больших усилий при их внедрении в накипь, имеющую твердость камня. Я сбегал в заводскую мастерскую к своему другу Мише Беспятко. Он подвел меня к станку с огромным наждачным кругом и показал, как он включается. За минуту я изменил профиль своего инструмента и вернулся на свой ящик. Как я и ожидал, работа значительно ускорилась. Довольный своей сообразительностью, я продолжал трудиться с особым рвением, ожидая похвалы от подошедшего бригадира. Внезапно он завопил не совсем поощрительным голосом:
– Ты посмотри, что он сделал! Единственный приличный плоский шабер он заточил на стамеску!
Я был уничтожен. Мои робкие оправдания, что так лучше, только разжигали справедливое негодование бригадира по поводу потери драгоценного плоского шабера. Поскольку потери были все-таки обратимы – еще оставался второй, не переточенный, конец шабера, да и стамеску можно было переточить, – бригадир потихоньку успокоился. Я с утроенным рвением принялся использовать свое незаконнорожденное дитя.
Незаметно подошел обед. Гаврылюк ушел (он жил в заводском близком бараке), бригадир и Цымбал развернули взятые из дома «тормозки», не уходя с замасленных рабочих мест. У меня ничего не было, и я продолжал свою творческую деятельность на благо Родины. Первым откликнулся бригадир, очевидно, желая подвести черту под шаберно-стамесочным инцидентом, он отвалил мне целую вареную картофелину. Вслед за ним, горько стеная по поводу отсутствия у него в данный момент четверти самогона и сала с чесночком, отрезал половину соленого огурца Цымбал. Мой обед прошел на славу, и я опять заступил на трудовую вахту.
К концу первого рабочего дня я понял, что мои небесные одеяния вымазались только на коленях, а «морда лица» оставалась почти чистой. Короче: мой облик не соответствовал образу заводского труженика, отдавшего все силы Родине. Чтобы ликвидировать это несоответствие, я забрался за котел и густо натер сажей лицо и штаны, которые навсегда лишились небесной голубизны. С сатанинской гордостью прошествовал я по главной улице Малой Родины в свое поместье…
В дальнейшем, – вполне естественной грязи – хватало с большим избытком, тем более, что мыло все эти годы находилось в числе сверхдефицитных товаров. В Казахстане для мытья можно было хоть использовать невзрачную травку, дающую при трении в воде некое подобие мыльной пены. На Украине эта травка не росла. Мыло – белые кусочки с синими прожилками неясного происхождения – покупали только на дому у еврейских «дилеров». Для стирки и для мытья головы, снабженной длинными волосами, обычно использовались «щелоки»– процеженный раствор золы. Зола имела градации по качеству в зависимости от происхождения: выше всех стояла зола шляпок подсолнухов.
Работа в бригаде шла успешно. Я узнал массу новых слов, среди которых особенно изысканно звучало «шнайтыза», обозначавшее раздвижную лерку. Все резьбы у нас были дюймовые. Для подручного слесаря, каковым я был официально, было непростительным грехом перепутать болты 3/8 с полудюймовыми, или, не дай Бог, – с 5/8 дюйма. Так же строго обстояло дело с прокладками – паронитовыми и клингеритовыми, маслом – обычным и «вареным». При совместных работах, подручный слесарь не должен ждать команд с открытым ртом, а молча подавать и делать то, что надо в данный момент ведущему. Это приравнивает труд подручного слесаря к высокоинтеллектуальным занятиям: надо было понимать и дело и психологию ведущего. В дальнейшей моей бешеной карьере подручного слесаря на ремонте завода было несколько учителей, о которых хочется рассказать.
Хмурый дед Николай Ипатьевич Грабарь терпеть не мог, когда по зубилу ударяли молотком дважды: первый удар был «пристрелочным». Он требовал, чтобы удар наносился сразу полный, с размахом из-за плеча. При этом смотреть надо не туда, куда бьешь молотком, а на изделие, которое рубишь. Если молоток, чтобы уменьшить возможность промаха, несчастный обучаемый держал слишком близко к бойку, Николай Ипатьевич заботливо предупреждал: «Задушишь молоток!». После нескольких заживаний разбитых пальцев левой руки, удерживающей зубило, начинаешь понимать эффективность освоенной так болезненно технологии.
На следующее лето настоящим учителем слесарных премудростей для меня стал Йосиф Матвеевич Веркштейн, принадлежащий к рабочей аристократии завода. Его бригада, в которой состоял и я, ремонтировала трансмиссии и насосы. Бригадир охотно отвечал на мои бесконечные «почему» и показывал «как». Единственной женщине в нашей бригаде, кстати, имеющей высокий пятый разряд, он мог сказать:
– Анечка, продиферь эту машинку. Мы с Николаем Трофимовичем(!) пошли портить баб!
Это значило, что Аня должна отмыть керосином очередной огромный насос перед разборкой на ремонт, а мы с бригадиром уходим в мастерскую заливать баббитом огромные подшипники для трансмиссий – длинных вращающихся валов со многими шкивами для приводных ремней. Подшипники затем монтировались на опорах, баббитовый слой трехгранным шабером подгонялся так, чтобы вал касался его не менее чем в 12 точках на квадратный сантиметр по всей поверхности заливки. Такая же точная работа требовалась для притирки к гнездам больших бронзовых клапанов. На притертый клапан карандашом наносилось много рисок. При небольшом повороте клапана в гнезде все до единой риски должны быть стерты…
«Ничто на земле не проходит бесследно». Наверное, и эта учеба – не прошла, хотя электропривод заменил трансмиссии. Баббит сейчас, кажется, тоже не заливают… О своих учителях при работе завода я, надеюсь, еще расскажу.
Бабкок, да еще и Вилькокс – это звучит!
Но это все было потом. Сейчас бригада Задорожного, и я в том числе, ремонтировала котлы Бабкок Вилькокс, загнанные в доску прошлым сезоном. Дошла очередь до водогрейных труб, десятки которых наклонно расположены прямо в топке котла. Каждая шестиметровая труба открывалась отдельным лючком, расположенным в коллекторах на фронте котла, – чуть ниже эстакады. Открыли лючки и ужаснулись. Внутри 80-мм трубы оставался просвет чуть больше 50 мм, таким толстым слоем накипи каменной твердости она была покрыта изнутри. Изготовили оснастку для удаления накипи. На эстакаде по рельсам надо было катать тележку. На тележке стоял электродвигатель, вращавший толстый гибкий вал в кожухе-оболочке. На конце вала вращалась шорошка с множеством каленых острозубых шестеренок – «звездочек». Они вращались по накипи и разрушали ее. Образующийся шлам смывался струей воды в нижний барабан котла и в канализацию.
Работенка была та еще. Один человек медленно катил по рельсам тележку с воющим двигателем. Я сидел на краю эстакады, удерживая в руках вибрирующую и рвущуюся из рук оболочку гибкого вала, и направлял ее Гаврылюку. Он медленно и равномерно вдвигал прыгающий вал в трубу и направлял туда струю воды. На чистку одной трубы у нас могло уйти от 20 минут до целого часа: если накипь была очень прочной, то приходилось проходить два-три раза. Часто оси, на которых сидели звездочки, изнашивались и разрушались, детали шорошки с грохотом сыпались в нижний барабан, наполовину заполненный водой и, отнюдь не целебным, илом. После этого все останавливалось, и зов трубы звучал только мне – персонально. Я быстренько снимал с себя все вериги, кроме трусов, и через небольшой люк вползал в ил нижнего барабана, внутри которого взрослому можно было только лежать. Я в барабане мог стоять на четвереньках, точнее – на трех точках. Одна рука наощупь в иле должна была найти звездочки и другие детали шорошки. Задним ходом я доставлял найденные сокровища во внешний мир. Оси менялись, на них нанизывались звездочки. Все опять возвращалось на круги своя.
Мы уже с нетерпением подсчитывали оставшиеся без нашего благородного влияния трубы, чтобы вскоре осчастливить и их. Однако маленькое происшествие чуть не лишило нас этого удовольствия… Обычно телегу с двигателем возил Цымбал. Приближаясь к нам с Гаврылюком, когда шорошка ревела глубоко в недрах котла и можно было разговаривать, он успевал нам рассказать анекдот или свою очередную историю, очень похожую на анекдот. Даже страдальческое лицо Гаврылюка прояснялось, а я откровенно ржал. Начальство разрушило эту идиллию: Цымбала ожидала работа посложнее. Вместо него нам дали здоровую румяную деваху, только что принятую на работу и преисполненную рвения, как я в первые дни. Она с трепетом взобралась к нам на высоченную эстакаду. Гаврылюк ее проинструктировал, как оказалось позже, – слишком лапидарно:
– Вот здесь включишь двигатель и будешь катать тележку туда – сюда.
Дева преданно посмотрела в усталые глаза Гаврылюка и с энтузиазмом начала действовать точно по инструктажу. Включив двигатель и услышав рев гибкого вала, она легкой трусцой двинула тележку вперед. Гибкий вал, которому некуда было деваться, вздыбился и выскочил за ограждение эстакады, отбросив к ограждению эстакады и меня. Гаврылюк не смог удержать шорошку, почти не заправленную в трубу, и она проревела всеми шестеренками, не ограниченными тесным пространством трубы, возле его головы и начала бешено высекать искры из эстакады. Прижатый к ограждению, я с трудом удерживал беснующийся вал, на конце которого так ярко погибала шорошка, разбрасывая с высоты драгоценные звездочки по всей котельной. К счастью, наша деваха решила выполнить инструктаж полностью: ведь ей было сказано катать не только «туда», но и «сюда». Она также бегом, причем – задним ходом, потащила тележку обратно. Выпрямившийся вал плюхнулся с ограды на пол эстакады и почти успокоился, жалобно рыча по металлу тем местом, где еще недавно красовалась великолепная шорошка. Наша дева тем временем готовилась к очередному броску вперед, но тут опомнившийся Гаврылюк нечеловеческим голосом завопил:
– Выключай!!! – что, после некоторого раздумья, и было исполнено.
После разбора полетов, которые наша трудолюбивая девушка выслушала со слезами на довольно красивых глазах, – все пошло прежним порядком. Темп наших работ возрастал: близились сдача завода госкомиссии и начало сезона сахароварения. Наш завод объявлен дежурным. Это означало, что мы будем работать очень долго, подбирая все остатки сырья – сахарной свеклы, – которые не успели переработать другие, рано остановившиеся, сахарные заводы. Для нас, ремонтирующих завод, – это дополнительные требования по качеству и надежности ремонта. Я все больше осваивал тонкости наших работ, и Задорожный все больше на меня их наваливал. Правда, и «стимула» мне он теперь выписывал наравне с другими членами бригады. Некоторые работы были только «моими». В основном это было проникновение в такие дырки (по-техническому – отверстия, люки-лазы и др.), куда остальные уже не могли пролезть. Потихоньку ко мне перешли и верхолазные сборки-разборки: все-таки я был намного моложе и легче моих «дедовьев». Ну и, конечно, – сбегать за чем-нибудь мне было сподручней, тем более, что моя должность – подручный слесарь. «Что-нибудь» чаще всего оказывалось махоркой, которую «на стаканЫ» продавали бабули за проходной завода. Надо было выбрать махорку оптимальную по параметрам «цена – качество». Если цена определялась очень просто, то тайны качества пришлось изучать по-настоящему. Когда бригада после особенно тяжелой работы устраивала «перекур», я чувствовал себя неуютно, пока тоже не воткнул в зубы самокрутку. Через несколько «сеансов» я навсегда стал «табакозависимым».
Медицинское отступление. «Нет ничего легче, чем бросить курить. Я делаю это по много раз за день», – говаривал, бывало, Марк Твен. Я тоже несколько раз порывался это сделать. Держался по месяцу и более; один раз – целых двенадцать(!) лет. Не могу сказать, что стал намного здоровее, но толще и тяжелее, – несомненно. В конце концов, я опять «задымил». Сначала – для своего оправдания я придумал «теорию перегруженной плоскодонки», которую сравнил со здоровьем. Позже я понял, что эта теория имеет право на жизнь и более широкое применение. Любое резкое изменение обычного курса и даже подъем одной части лодки, приводит к нарушению равновесия и последующему «заливанию и утонутию». Эта простенькая истина особенно изящно сформулирована в Третьем Постулате Басни о Мороженом Воробье, который осмелюсь изложить в этой «дикой» автобиографии. Итак: летел Воробей. Замерз. Упал. Шла корова, положила на него «лепешку». Воробей оттаял и зачирикал. Шел Кот. Вытащил Воробья – и скушал. Выводы, они же – постулаты. 1. Не каждый тот враг, кто на тебя …(наложит лепешку). 2. Не каждый тот друг, который тебя оттуда вытащит. 3. Попал в г…о, – сиди и не чирикай!
Котам – масленица
В воскресенье мы встретились с Толей Размысловским. Он мне рассказал вещи, после которых я подобрался как кот, увидевший мышку. После репрессирования главы семьи у Размысловских отняли половину большого дома. Недавно там разместили молочарню — молокосливной пункт, куда селяне, имеющие коров, приносили по утрам и вечерам натуральный налог в виде молока. В молочарне его разделяли на сливки и обезжиренное молоко – обрат. Сливки отправляли на маслозавод в Мурафу; из обрата делали казеин для пуговиц и клея, частично отдавали селянам для выращивания телят. Так вот, Толя обнаружил две вещи: первая – подвал под его частью дома и молочарней – сообщающиеся «сосуды», вторая – сливки с вечернего молока хранятся в 40-литровых бидонах в подвале до утренней отправки. Однако, похитить немного вожделенных сливок для употребления было невозможно: струя из сепаратора на их поверхности образовывала воздушную пену, которая разрушалась при малейшем прикосновении, однозначно указывая на криминальное посягательство.
Закоренелый рационализатор, сумевший сокрушить даже плоский шабер (я), задумался. Путем дальнейших расспросов подельника удалось выяснить, что эта пена целомудрия имеет ахиллесову пятку: в центре сохранялся небольшой пятачок поверхности, не покрытый пеной. Именно здесь стратеги наметили участок прорыва. Из алюминиевой гильзы патрона от ракетницы я изготовил спецчерпак емкостью около трети стакана, длинная рукоятка которого являлась продолжением гильзы. Края гильзы были украшены надрезами, чтобы поступление продукта начиналось плавно при углублении снаряда в ахиллово зеркало вожделенного продукта.
Толя провел производственные испытания снаряда, которые полностью подтвердили расчеты. Если не жадничать и отбирать с бидона не более одного литра, то коварная пена плавно опускалась, не разрушаясь, вместе с новым уровнем сливок. Толя бережно сохранил результат Первого Отбора до моего прихода, и мы во вторых заброшенных сенях его дома трепетно вкусили продукт. Он успел слегка загустеть, но все было безумно вкусно и питательно. Как водится, обнаружились и слабые места. Для развития дела нужна была посуда: Толя предупредил, что мать скоро хватится неизвестно куда девавшейся кастрюльки. Кроме того, мы не смогли пить жирные сливки просто как воду, точнее – могли, но не так много, как у нас было в наличии. Увы, – нельзя было подкармливать похищенным продуктом своих родных: мы были бы немедленно разоблачены.
По всем затруднениям были приняты радикальные и исчерпывающие меры. На базаре были закуплены несколько глиняных кувшинов – гладущикiв, казалось специально сделанных для хранения ворованных сливок с их последующим распитием непосредственно из горлА. По второму затруднению решение принял я сам. Я перестал обедать с хлебом. Положенные мне по карточке 500 граммов, я получал вечером, уходя с работы. В чулане хлеб делился пополам. Одна половина была для мамы и Тамилы. Вторую мы еще раз делили пополам и приступали к трапезе. У Толи был только один продукт, но в большом ассортименте: сливки – свежие, вчерашние, загустевшие, очень загустевшие, сбившиеся в масло. Наша задача была очень простой: максимальное потребление сливок при минимальном потреблении хлеба.
Котам – масленица
Мной овладела навязчивая идея – накормить Тамилу, но так, чтобы она ни о чем не догадалась. Мама вскоре уехала к брату Борису в Смоленскую область, поручив нас заботам бабки Фрасины. Я уговорил ее устроить званый обед с варениками, объявив, что у Толи есть творог и сметана – помощь от родственников. Добыли немного муки, сварили вареники, густо сдобрили бабушкину долю, а свои порции унесли в другую комнату в большом тазике. Туда втайне от бабки вылили полный кувшин свежих сливок. Тамила благоговейно смотрела на наши камлания, ничего не понимая. Гоняться в тазике ложкой за редкими варениками в сливках было неудобно, и мы взялись за чашки. Дело пошло веселей. Тамила наелась до «не хочу», – я был счастлив. Только бабушка недоверчиво посматривала на меня: с чего бы мы уединялись со своими варениками, «а не Їли, як всi люди».
Жировали мы около месяца. Слегка поправились, окрепли, уже реже мучил постоянный голод. Наверное, на молочарне что-то заподозрили. Толя, спустившись в свою часть подвала, наткнулся на свежую стену. Все в этом мире кончается. Спасибо судьбе и за эту подкормку: мы крали у общества не больше, чем могли съесть…
Еще один раз я кормил Тамилу, скажем так, – нетрадиционными продуктами. Случайно добыл несколько патронов, выпросил в школе малокалиберную винтовку и подстрелил трех черных здоровенных грачей. Правда, после ошпаривания, ощипывания и разделки они уже не выглядели такими большими. Я их сварил и представил Тамиле как недоразвитых цыплят. Запах был не совсем цыплячий, но мы дружно схарчили этих пернатых, прости нас, Господи. Но это было уже позже – в голодном 1947 году.
Кое-что горит и в воде
Деребчинский сахарный комбинат (именно таким было его полное название) был самодостаточным предприятием. Дело не только в наличии у Комбината своего совхоза, выращивающего для колхозов семена сахарной свеклы. Я имею в виду, прежде всего заводскую мастерскую, которая могла делать почти все, как небольшой машиностроительный завод. Кроме почти полного набора металлообрабатывающих станков, мастерская имела кузницу и литейную с небольшой вагранкой. По собственным моделям заводская мастерская могла отливать детали из чугуна, бронзы и алюминия, делать поковки из стали и латуни.
В кузнице и литейной одновременно работал мой друг Миша Беспятко, который был старше меня всего года на три. Этот талантливый человек начал работу в колхозной кузнице, затем перешел на завод, где очень быстро стал незаменимым мастером на все руки: кузнецом, литейщиком, слесарем, жестянщиком, токарем и, Бог знает, – кем еще. Он шутя овладевал тонкостями любой профессии. Миша был красивым, рослым и мускулистым парнем, с нежной, и даже сентиментальной, душой. Например: он не мог удержаться от слез, когда смотрел кино «Без вины виноватые» с Аллой Тарасовой. Сельские кинофикаторы обычно переезжали с одним фильмом по ближайшим населенным пунктам. Так Миша смотрел этот фильм раз 10, посещая вечерние сеансы во всех ближних и дальних селах. Это был подвиг во имя культуры, если знать, что расстояния 10–15 километров в один конец преодолевались пешком после длинного и нелегкого трудового дня. Ранним утром ведь надо было опять идти на работу.
Я охотно трудился в мастерской, выполняя задания для бригады, например – сверление фланцев. Кстати, это была не такая уж простая работа, учитывая, что сверла делали мы сами из углеродистой (а не быстрорежущей) стали. Чтобы не сжечь такое сверло, надо его затачивать очень точно, подбирать нужные обороты и обильно поливать водой при сверлении. Миша учил меня всем премудростям очень охотно: ему явно не хватало учеников, которым было бы все интересно. Обеденный перерыв у нас был теперь целый час. Наши младшенькие сестры приносили нам горячего супца, по паре картофелин, иногда – молоко. Мы проглатывали все в течение пяти минут, отпускали домой наших сестренок и начинали «зарабатывать на жизнь». Для натурального обмена на продукты (бартерные отношения!) изготовляли напильники, ножи, алюминиевые «чугунки», лудили оловом котлы и делали много других полезных вещей, на которые после войны был страшный дефицит.
Чтобы изготовить хороший напильник (само собой – вручную), надо было иметь руки хирурга или музыканта. Отпущенная (мягкая) болванка из высокоуглеродистой стали тщательно шлифовалась. Острым зубилом по всем сторонам болванки делались зарубки – одна возле другой. Искусство состояло в том, чтобы они были одинаковой глубины и шага. Зубило опиралось на еле заметный заусенец после предыдущего удара; удары молотка должны быть строго одинаковыми, – от них зависела глубина и равномерность насечки. Поскольку насечек – тысячи, работать надо было со скоростью автомата. Напильник был готовым товаром после термообработки – закалки до высокой твердости.
Расскажу о двух случаях, когда уже поверженный Гитлер, точнее – его техника, нас чуть не погубили. Ножи для дома и для работы мы обычно ковали из клапанов для двигателей. Миша работал кузнецом, я – молотобойцем, так как вытянуть металл жаростойкого клапана до формы ножа – довольно длительная процедура. На этот раз мы делали нож из «давальческого сырья», – заказчик с гордостью сообщил, что эти клапаны из мотора немецкого самолета. Как обычно, Миша нагрел заготовку и взял в руки кузнечное зубило с длинной рукояткой, чтобы отрубить тарелку клапана. Как обычно, я несильно ударил молотом по зубилу. Внезапно огненная струя просвистела возле моих глаз, достигла бака с водой, в котором начались взрывы, и загорелась… вода! Часть струи горела на политом водой бетонном полу. Мы оба красиво остолбенели. С трудом уяснив, что неизвестная субстанция загорается при встрече с водой, мы начали засыпать пол песком, оставив в покое бак с водой, в котором носились горящие частицы Чего-то. Вскоре все утихло. Мы с Мишей чесали необразованные репы и гадали: что это было? Позже я выяснил, что для улучшения теплоотвода немцы заполняли ножку клапана металлическим натрием. Натрий же при соприкосновении с водой – загорается. Чего хорошего можно было ожидать от врагов?
Кстати, с водой хорошо горит и магний. У нас валялось колесо от немецкого самолета из магниевого сплава. Если от колеса отломать кусочек и расплавить его, то на поверхности расплава появляются яркие вспышки магния. Теперь расплав надо вылить на мокрую землю, – магний вспыхивает белым огнем. После этого по огню надо ударить тяжелым плоским предметом и получить звук подобный пушечному выстрелу. Чтобы обрадовать наших кормилиц – младших сестер – мы с Мишей несколько раз проделывали этот фокус, когда вблизи руководство не просматривалось. Когда на взрыв сбегался народ, мы делали непонимающие лица и говорили, что «бухнуло» что-то и «где-то», а не у нас. Так что о магнии и его свойствах мы кое-что знали. Как показали последующие события, – знали не все.
Один «левый» клиент заказал нам большой котел из алюминия и притащил для этого много лома. Миша заформовал в литейную опоку утвержденную модель, и мы перед обедом начали плавить в тигле металл, чтобы в обед сделать отливку. Когда металл весь расплавился, по его поверхности начали бегать белые вспышки. Мы поняли, что там много магния, и отливка не получится. Чтобы сохранить чужой металл, Миша в куче формовочной земли – специально обработанного песка – сделал деревянным цилиндром вместительное углубление, куда мы залили литров 5 расплавленного металла, и засыпали той же землей, чтобы отливка спокойно остыла. Окончив труды, мы приступили к трапезе: наши кормилицы уже все разложили. Мы были страшно довольны собой, что вовремя разоблачили «давальца материала», живо обсуждали, что мы ему скажем, когда он придет за готовым котлом, и мы ему предъявим болванку из его некачественного металла.
Несмотря на разговоры, мы исправно работали ложками. Внезапный взгляд на литейную остановил ложки на полпути: в окне полыхал белый столб огня, достающий до высоких деревянных стропил литейной! Через мгновение мы были там и начали понимать ужас случившегося: фонтан огня и ярких искр исходил от нашей болванки. Формовочная земля была сырой! Металл подогревал сам себя, начинал кипеть и растекаться по всей куче формовочной земли, не переставая фонтанировать к стропилам. Засыпать его влажным песком было не только бесполезно, – опасно. Миша схватил большую совковую лопату, вонзил ее в пылающее ядро. К содержимому лопаты я добавил еще растекающегося металла с периферии. Выскочив из литейной через другой вход, Миша огляделся, – куда бы деть пылающее содержимое лопаты. Девать особенно было некуда: дорога, за ней пустырь с засохшим бурьяном. И тут его взгляд упал на огромный бак с водой возле вагранки. Миша решил покончить с огнем одним ударом и бросил пылающее содержимое лопаты в бак. Раздался мощный взрыв, в воздух взлетели горящие белым огнем куски расплава. Один из них застрял между пальцев босой ступни Миши. Он запрыгал на одной ноге и заорал. Я бросился его спасать, вытолкнул лучинкой горящий металл и начал поливать ступню водой. Вдруг мой пациент вырвался и с криком: «Крыша горит!» взлетел по высокой лестнице возле вагранки на крышу мастерской. Кровля из просмоленного рубероида горела в нескольких местах. «Воды!!!», – требовал Миша. Я набирал ведро из бака, взлетал по лестнице. Пока спускался вниз, – уже опорожненное ведро плюхалось в бак с водой, и я повторил рейсы вверх – вниз несколько раз. Взрыв и последующая наша неумеренная суета в тихий час обеденного отдыха привлекли толпу зевак, пытающихся отгадать: что происходит? Прибежал главный инженер завода, и, хотя огонь мы уже потушили и весь магний сгорел, дал кому-то указание вызвать заводскую пожарную команду.
Минут через 5 – 10 раздался звон колокольчиков, и к мастерской лихо подкатила пожарная телега на тяге двух рысаков. Резко осадив возле мастерской, расчет брезентовых дядек в сверкающих медных касках бегом начал раскатывать тоже брезентовые ленты шлангов. Один из них, быстро оценив обстановку, воткнул гофрированный хобот насоса все в тот же несчастный бак, в котором после взрыва и моих трудов все еще оставалась вода. Два самых мощных огнеборца уже стояли на платформе, положив руки на деревянные рукоятки ручного насоса. Как только все шланги были проброшены, дядьки начали работать в бешеном темпе. Как кузнецы в игрушке: когда один поднимался – другой приседал. Однако – насос не хрюкал, ленты шлангов оставались плоскими, как камбала после голодовки. Собралась уже изрядная толпа, которая сначала тихо хихикала, затем начала откровенно ржать. Главный багровел:
– Колотов, а завод горит!!! – проревел он.
На Колотова – грозного начальника охраны завода, жалко было смотреть: он беспорядочно суетился и не по делу орал на своих пожарников-охранников…
Мы поняли, что уже не являемся главными на этом празднике, и быстренько смылись доедать свои давно остывшие обеды. Наши сестры смотрели на нас со смесью ужаса и восхищения…
Оргвыводы были только по пожарникам: их столь наглядные успехи в тушении пожаров совсем затмили наши подвиги.
Печальная вставка из далекого будущего. С тех пор, когда я «ударился в воспоминания», много раз я пытался узнать о судьбе моего друга и учителя. Из космоса американская программа GoogleEarth показывала мне малую родину с высоты, но людей там было не различить… Сейчас в Киеве живут «деребчане»: Леня Колосовский, Павел Гриневич, Боря Стрелец. Иногда они бывали в Деребчине, вести оттуда приходили общие и плохие: завод развален и не работает, нет уже никаких колхозов, нет работы и др. Но о судьбе Миши Беспятко никто ничего не знал… Сегодня, 05.12.2008 года, листая страницы интернетовской Википедии, я набрел на статью «Деребчин», где среди скупых данных был телефон сельсовета. С четвертого раза мне ответил молодой женский голос. Первый мой вопрос о Мише. «Давно умер» – был ответ. Я еще перечислил несколько знакомых ребят моего возраста: все уже ушли в мир иной… Все там будем.
Прорыв к самому синему в мире
Самое синее в мире
Черное море мое…
В начале августа мы вместе с Борей Пастуховым предприняли отчаянную попытку прорваться в более высокий класс общества. Боря сказал, что он хочет поступить в среднюю мореходку в Одессе, где у него был адресок хороших друзей отца. Позвал меня с собой. Его отец договорился, чтобы меня отпустили на недельку, на всякий случай, – не увольняя с работы. Мы поехали. Денег на возвращение (конечно, если не удастся поступить), мы решили добыть торговлей: захватили по рюкзаку картошки, которая, по слухам, в Одессе была очень дорогой. За бесценок в Рахнах у поездного ворюги приобрели отличный женский сапожок, рассчитывая в далекой Одессе сторицей вернуть затраченные средства.
В Одессу мы приехали ранним утром, продали картошку и сапог перекупщикам, – увы, – почти без прибыли. Налегке двинулись в вожделенную Среднюю Мореходку. Балдели от курсантов в форменках, гюйсах и клешах, – представляя и себя в таком упакованном виде, от чего замирала душа. Чуть позже выяснилось, что набор уже давно закончен, и нам нет места на этом празднике жизни… Уныло поплелись мы в порт. Я впервые в жизни увидел море, – бесконечно голубую огромную, сверкающую на солнце, массу воды. Даже мусор на воде в порту, ободранные буксирчики и шаланды, обнаруженные при близком рассмотрении, не смогли испортить впечатления от Моря. Желание влиться в ряды тружеников моря (носящих Морскую Форму!) вспыхнуло в нас с новой силой. Мы пошли по второму кругу – по мореходкам классом пониже, что-то типа морских ПТУ. Мы рвались пополнить собой стройные колонны радистов, в крайнем случае, – мотористов. Увы, – там все уже было заполнено. Оставался набор на должности кочегаров. Мы сразу вспоминали о «воде, опресненной нечистой» и «упал, больше сердце не билось», – и двигались в очередное училище. День близился к концу, мореходок было еще много. Пора подумать о ночлеге. Из расспросов аборигенов мы выяснили, что улицы, указанной в заветном адресе, – никто не знает. Мы выбрали близкую по звучанию, долго туда ехали трамваем и шли пешком, – это уже был пригород. Увы, – такого дома там не было. Двинулись в обратный путь к центру всего сущего – вокзалу. Туда двух замурзанных пацанов не пустили: не было билетов на поезд. Неудержимо захотелось в туалет, но вокруг были только большие дома, хоть и изрядно ободранные недавней войной. Мы заметались в настоящей панике по ближним переулкам. Наконец мы увидели разбомбленный дом и от души благословили неизвестных летчиков, – наших или немецких. В этом доме сохранилась коробка и даже марши мраморных лестниц. Внутри все было заполнено отходами человеческой жизнедеятельности, и передвигаться можно было, только перепрыгивая по кирпичам и консервным банкам. Самые совестливые (или терпеливые) взбирались вверх по мраморной лестнице, но и там оставалось все меньше свободного пространства, куда могла ступить нога человека…
После невыразимого «чувства глубокого удовлетворения», возобладало чувство не менее глубокого голода. Чтобы удовлетворить и его, мы вложили почти всю свою наличность в некие, румяные на вид, пирожки с белыми шариками (т. н. «саго») внутри. Этими безумными затратами мы отрезали себе дорогу обратно: денег на билеты уже не было. Тыняясь вокруг неприступного вокзала, мы узрели почти пустой трамвай. Всего за 15 копеек, сидя в тепле и свете, мы почти час ехали куда-то к Лонжерону(?). Слева загадочно светилось море с лунной дорожкой и редкими огнями чего-то плывущего. Обратной дорогой мы откровенно спали. Сердобольная кондукторша разбудила нас возле вокзала и сказала, что вагон направляется в парк. Остаток ночи мы проспали все-таки на полу вокзала, проскользнув возле бдительной охраны. Ранним утром оттуда нас выгнали вместе со всеми: предстояла уборка и дезинфекция вокзала. Мы отправились по оставшимся адресам морских учебных заведений. Спеси у нас поубавилось, но кочегарами мы ставать по-прежнему не хотели. Были еще вакансии юнг, но для этого мы были уже, увы, старыми. Ничего другого весь флот СССР предложить своим замурзанным сыновьям не мог.
Домой мы возвращались на крышах поезда Одесса – Киев. Народа нашего типа там было достаточно, но и «плацкарты» были широкими. Главное здесь было не уснуть и не свалиться с покатой крыши, когда вагоны начинали раскачиваться на стрелках и ухабах железной дороги. На станциях надо было распластаться так, чтобы не было видно и слышно с земли. Зато на перегонах мы, сидя в обнимку с вентиляционными трубами, распевали песни и подставляли лица знакомому запаху и гари паровозной трубы.
В Рахнах мы облегченно скатились с крыши. Мы были дома. Все вернулось на круги своя. Морская (как оказалось, – не последняя) страница моей биографии закрылась.
08. Мы делаем сахар
Зарыты в нашу память на века
и даты, и события и лица…
(В. В.)
Последние мазки перед стартом
Петух пробуждается рано, но злодей еще раньше.
(К. П. № 83)
На заводе спешно оканчивался ремонт, все принаряжалось, окрашивалось, готовилось к предъявлению Государственной комиссии. Завод потряс один случай. Была предъявлена к сдаче группа поршневых насосов, перекачивающих вязкую патоку. Насосы сверкали свежей краской. Все болты были надежно затянуты. Вдруг одному из членов комиссии из Винницкого Сахтреста захотелось посмотреть на клапан насоса. Этот клапан представлял собой отшлифованный бронзовый шар, весом в добрых полпуда. У нашего завода не было круглошлифовальных станков, поэтому наши «черновые» отливки где-то долго мусолили и прислали, наконец, перед пуском завода. Член комиссии участвовал в бумажной суете вокруг этих клапанов и захотел воочию увидеть предмет своих забот. Сдающая бригада очень неохотно начала вскрывать чугунный горшок клапана, предупредив, что придется менять прокладку, а паронит уже кончился и т. д. и т. п. Сняли тяжелую чугунную крышку горшка. Внутри на дне одиноко отсвечивало только бронзовое кольцо седла. Сверкающего шара не было. Не доверяя своим глазам, бригадир ремонтников залез в горшок рукой. Рука тоже не обнаружила ничего. Ошарашенные члены комиссии и рабочие начали осматривать насос со всех сторон: не спрятался ли проказник шар где-то рядом. Все было чисто, в смысле – чисто от шара. Вскрыли еще один горшок. И там шар-клапан блистательно отсутствовал. Теперь уже без всяких понуканий рабочие лихорадочно начали вскрывать оставшиеся два десятка горшков на всех насосах. Ни в одном горшке обнаружить клапаны не удалось.
Сцена последнего акта «Ревизора» меркнет по сравнению с этой. Комиссия просто остолбенела. На заводское начальство жалко было смотреть. Срыв пуска завода, когда колхозы и совхозы уже полным ходом начали завозить свеклу, грозил расстрельными статьями. На новую отливку и обработку такого количества шаров понадобилось бы не менее месяца, уйма дефицитного металла и еще Бог знает чего.
Прямо у насосов начался разбор полетов: кто, когда закрывал горшки, где была охрана, и т. д. и т. п. Большинство вопросов сыпались на бригадира ремонтников, который, с белым как мел лицом, бормотал только:
– Да все же было… все же ставили по уму… да куда же все девалось???
Версии о пропаже выдвигались самые фантастические, вплоть до мести немецких прихвостней и вмешательства потусторонних сил. Робкий голос одного из слесарей, предлагавшего «посмотреть у Хаима», который возле базара держал конуру по приему ветоши, костей и макулатуры, сначала не был услышан. После отсеивания инопланетных версий, за эту ухватились, как за соломинку: она была единственной, которую можно было проверить, причем – немедленно. К Хаиму срочно двинулась солидная делегация. Хаим в замызганной фуфайке перебирал тряпье в своей лавочке. Увидев перед собой столько известного в Деребчине начальства, Хаим ничего не спрашивая, сдернул старое одеяло с одной кучи. Конура озарилась золотым светом: один к одному там лежало два десятка сверкающих бронзовых шаров. Один шар был на четверть разрезан ножовкой: осторожный старьевщик от вора требовал доказательств, что шар полностью бронзовый, а не чугунный внутри.
– Я таки думаю, что такие важные люди пришли за этим! – приговаривал Хаим. Он еще ничего не заплатил вору, сославшись на отсутствие сейчас такой крупной суммы, и тихо радовался, что не дал себя облапошить…
Завод изнутри
Лошадей двадцать тысяч в машины зажаты
И хрипят табуны, стервенея внизу.
(В. В.)
Котельная, в которой я начинал свой пролетарский путь, была как бы пристройкой к основному корпусу завода. Основное здание завода состояло из нескольких этажей, насыщенных аппаратами, трубами, насосами и разными транспортерами. Посредине огромного помещения был проем от пола до ферм кровли. На дне этого проема красовались рядом три большие паровые машины с красными тяжелыми маховиками диаметром каждый более трех метров. Толстые канаты передавали вращение от маховиков на главную трансмиссию – мощный вал, тянущийся в обе стороны через весь завод. От главной трансмиссии широкими резинотканевыми ремнями вращение передавалось на валы помельче, а уже оттуда – на отдельные агрегаты. Трансмиссии вращались постоянно. Чтобы выключить какой-нибудь агрегат, надо было бешено бегущий ремень перевести на холостой шкив, расположенный рядом с приводным. Вся эта система ревела, стонала, шумела, хлюпала и издавала другие звуки, которые были основными на заводе. На новичка она производила неизгладимое впечатление сложности и мощи завода. Самыми востребованными специалистами на заводе были шорники – люди, сшивающие и ремонтирующие ремни. Самыми желанными техническими отходами завода были куски ремней и транспортеров: из них умельцы изготовляли подошвы и подметки для ремонта обуви.
Взгляд из очень близкого будущего. Через несколько месяцев на соседней станции мы перегружали с широкой колеи на узкую сахарный завод из Германии, вывезенный оттуда в счет репараций. Завод должны были построить в Джурине, куда вела только узкоколейка. Кроме огромных аппаратов – сосудов, все остальное оборудование было тщательно упаковано в деревянные ящики с четкими номерами и надписями. Было много электродвигателей; совсем не было ремней и валов трансмиссий. Мы начали прозревать, что все ревущее великолепие родного завода – это прошлый век, и радовались, что Джурин получит для своего завода первоклассный электропривод на все станки, злорадствовали над немцами, потерявшими такое ценное имущество. Гораздо позже я уразумел, что плакать надо было нам, а не немцам: они отдавали морально и физически устаревшую технику и тем «консервировали» нас, расчищая у себя место для новых эффективных техники и технологии. В наше оправдание можно добавить, что завод в Джурине так и не построили. Среди картошки селянских огородов ряд лет нелепо высились громады фашистских аппаратов выпарки и вакуум– аппаратов. Медь с электродвигателей, я думаю, досталась таки Хаиму…
Высокая должность
Я попал в смену, где начальником был отец моего друга Бори Пастухова. Первая моя должность располагалась под самыми фермами крыши, – выше меня был только заводской гудок. Кстати, о гудке. Питался он паром высокого давления от котлов, ремонт которых был первой вехой моей официальной трудовой биографии. Смены непрерывно работающего завода менялись через 8 часов: в 6 утра, в 2 дня и в 10 часов вечера. За полчаса до начала смены гудок ревел один раз; за 15 минут – два раза. Точно в час заступления новой смены троекратный рев гудка оповещал население Деребчина и всех сёл в радиусе 20 километров о точном времени. По этому гудку народ подтягивал гири уцелевших в военном лихолетье ходиков и пальцами переводил своевольные стрелки в нужное положение. Я подробно описываю эти детали, поскольку они имели значительное влияние на мою жизнь, по крайней мере, – два раза.
Мое высокое рабочее место было связано с не менее высокими обязанностями. Вымытую свеклу из подполья завода грохочущий цепной элеватор с ковшами-карманами поднимал на эту высоту, наполняя корнеплодами вместительный ящик автоматических весов «Хронос». Когда вес свеклы в ящике весов достигал 500 кг (5-ти центнеров, т. к. на заводе и свекла и сахар учитывались в центнерах), поток свеклы перекрывался на несколько секунд, а ящик с грохотом опрокидывал свое содержимое в чрево свеклорезки. Внутри свеклорезки бешено вращалась карусель с зубчатыми ножами в рамках, разрезающими свеклу на тонкие трехгранные макаронины. Так вот, вместе со свеклой элеватор часто поднимал булыжники, внешне очень похожие на свеклу, и не осевшие почему-либо в камнеловушке, – чаще всего из-за переполнения ниш ловушки другими камнями и песком. Моей задачей было в грохочущем потоке свеклы узреть камень и выхватить его из ящика весов, прежде чем он опрокинется в свеклорезку. Если я не успевал этого сделать, камень мгновенно выводил из строя все ножи свеклорезки. Всё останавливалось на 15–20 минут. Чертыхаясь, ремонтники меняли блоки ножей на запасные. Раздавленный ответственностью, я часами напряженно вглядывался в грохочущий поток свеклы, наклонившись над ящиком весов. Выхваченные камни складировались рядом на полу. За смену их набиралось до двух десятков. Если я видел камень, но не смог его сразу ухватить, то надо было кратковременно остановить элеватор и вытащить камень, разгребая свеклу. При такой работе отлучиться по естественным надобностям было проблемой. Дома во сне я видел только грохочущий поток свеклы, который вдруг превращался в камнепад, и я не успевал их вытаскивать.
Однажды я напряженно вглядывался в поток свеклы, когда рядом с моей головой вдруг материализовалась голова Мефистофеля. Узкое клиновидное лицо, с такой же бородкой и хищным крючковатым носом. Прищуренные глаза в упор и глубоко проникали мне в душу. Я отодвинулся и заметил, что у головы было также тело в полувоенной одежде и хромовых сапогах. Немного полегчало.
– Ты нажимал ногой??? – грозно спросила Голова.
– Куда? – холодея, спросил я. Голова, не отвечая, молча разглядывала меня.
– Смотри у меня. Будешь нажимать, – загремишь в Сибирь! – угрожающе произнесла Голова и величественно удалилась вместе с приданным ей телом. В полном смятении я начал соображать: куда мне следовало нажать, чтобы вызвать такие ужасные последствия. Я по очереди нажимал ногой на доски пола и другие выступающие части. Ничего не происходило достойного сибирской ссылки. В отчаянии я пнул ногой ящик со свеклой. И тут произошло чудо: неполный ящик бодро опрокинулся, а на счетчике весов добавилось 5 центнеров. Теперь уже я пнул ногой совершенно пустой ящик, – эффект был точно такой же. Я стал Могучим Повелителем Процентов! Одним движением ноги я добавлял своей смене пять центнеров переработанной свеклы! Все три смены соревновались. Ежедневно на специальной доске вписывались мелом показатели работы каждой смены – количество переработанной свеклы и выпущенного сахара. Цикл от мытья свеклы до выгрузки сахара занимал от 12 до 30 часов, все усреднялось и «виртуальная» свекла не могла быть обнаружена немедленно. Зато при общем подсчете недоставало сахара, следовательно, – где-то были его большие потери, за что уже отвечал главный технолог завода по фамилии Равич… Именно ему принадлежала так напугавшая меня голова Мефистофеля. Однако она принесла мне и знания! Своим могуществом я не злоупотреблял, только иногда добавляя своей смене недостающие центнеры…
В работе я приобрел опыт: уже точно знал по многим признакам, когда камней не будет и можно расслабиться, а когда надо неусыпно бдеть. Однако труба позвала меня дальше, в смысле – ниже двумя этажами, но выше по уровню работы. Смене не хватало квалифицированных кадров. Я таковым тоже не был, но подавал некие признаки понимания при обучении. На мое высоко стоящее место прислали девочку из деревни, напуганную до смерти грохотом завода. Я, как мог, передал ей «тайны профессии» и даже показал, как давить ножкой, не забыв упомянуть о Сибири и Равиче.
Следующим моим «кабинетом» стало весьма теплое, даже – слишком, местечко на «решоферах». Это были две толстенные колонны-теплообменники с тяжелыми ребристыми крышками, каждая из которых зажималась 12-ю откидными болтами. Через множество маленьких трубок внутри аппарата проходил сироп. Пар, омывавший трубки с сиропом, нагревал его до 120–130 градусов. Такой горячий сироп дальше шел в целую шеренгу выпарок – больших вертикальных баков со стеклянными иллюминаторами. В выпарках давление ступенями понижалось, и сироп все время бурно кипел, теряя воду и одновременно охлаждаясь. Так вот, на трубках моих решоферов, при нагревании сиропа, оседала некая вязкая бяка, тормозившая поток и нагрев. Бяку надо было соскребать с трубок дважды в смену. На время чистки одного решофера поток сиропа и пара переключался на другой – процесс ведь шел непрерывно. Таким образом, за восьмичасовую смену мне надо было провести четыре чистки. Это происходило так. Пар и сироп переключались раскаленными вентилями на только что очищенный аппарат. Отключенному надо было остыть хотя бы минут двадцать, чтобы можно было притронуться к крышкам. Затем я спускался на «бельэтаж» завода. Именно здесь вращались маховики центральных паровых машин и под потолком вращались основные трансмиссии. По узкой металлической лестнице я поднимался на открытый, без каких-либо ограждений, решетчатый настил под нижними крышками подведомственных мне аппаратов. Внизу под настилом вращались шкивы, ревели ремни и быстро бегали туда-сюда ползуны поршневых насосов. Через маленькие краники я сливал в ведро «мертвый» остаток сиропа и приступал к самой тяжелой операции: отвинчиванию 12-ти больших гаек, уютно спрятавшихся в горячих ребрах крышки. Резьба была покрыта запекшимся сиропом, ключ был обыкновенный и, чтобы ухватить гайку, его приходилось держать под углом. Еще мне надо было пригибать голову, чтобы не обжечь ее горячей крышкой и держаться за что-нибудь холодное, чтобы не загреметь прямо на насосы. Ключ часто срывался, кисть проходила по горячим ребрам крышки (о применении рукавиц у меня воспоминаний не сохранилось). Сахарный сироп, попадая на сбитые костяшки пальцев, превращает их в «долгоиграющие», т. е. – в долгозаживающие.
Взгляд из будущего. Теперь я знаю, что администрация завода грубо попирала охрану труда и технику безопасности. Конечно, и время было такое, что об этом особенно не задумывались: совсем недавно легли костьми миллионы. Тем не менее, в случае моего увечья или гибели, у администрации были бы огорчения, хотя, как показал последующий опыт, о котором я надеюсь еще рассказать, – не очень большие. Тогда же, с точки зрения 14-летнего пацана родом из Великой Отечественной, – работа может быть разной, в том числе – опасной, и ее просто надо делать.
Открывание верхней крышки, где все видно и доступно, казалось легким развлечением. После ее открывания, я хватал трехметровый шомпол с упругим пятачком на конце и, стоя на все еще горячей трубной доске, с энтузиазмом прочищал полсотни трубок. Затем начинался обратный процесс сборки, который шел гораздо быстрее: все уже было холодным. Потоки пара, а после прогрева аппарата – и сиропа, переключались на очищенный аппарат, и все начиналось сначала.
Несмотря на все трудности моей новой должности, у нее было одно существенное достоинство: свободное время, – пока остывали или нагревались мои решоферы. Рядом, на батарее диффузионных аппаратов бурлила неведомая жизнь, к которой с интересом я начал приглядываться. Бегали люди, закрывали и открывали множество вентилей и краников, засыпали стружку сахарной свеклы с широкой ленты транспортера по очереди в большие отверстия в полу, закрывая их затем тяжелыми крышками. Командовал всей этой колготней бригадир Юлик Посмитюха, высокий симпатичный парень, всего лет на 5–6 старше меня. Кое-что я уже начал понимать самостоятельно, но несколько невыясненных вопросов мучили меня, и я обратился с вопросами «почему» и «как» к самому Юлику. Он насмешливо оглядел меня с ног до головы и ответил вопросом:
– А ты, сынок, случаем, не немецкий шпион?
– Не-а, – смутился я.
– А справка у тебя есть? – продолжал наступать Юлик. Я собрался с силами и серьезно ответил:
– Конечно, есть. Даже – две. Одну подписал Риббентроп, другую – сам Гитлер.
– Ну, тогда тебе можно кое-что рассказать, – смягчился Юлик, но внезапно спохватился. Слушай, сынок, не ты ли бомбил с немецкими самолетами мастерскую, когда она загорелась?
– Нет, я тогда служил в пехоте, – скромно потупился я.
Высоко оценив мою скромность и убедившись в моей лояльности, Юлик стал моим настоящим учителем: он глубоко знал и понимал завод. Отвечал он на мои бесчисленные «почему», «как», «что это» с непередаваемым лукавым юмором, но обстоятельно и понятно.
Диффузионная батарея – желудок сахарного завода. Именно здесь из настроганной свеклы извлекается сахар в виде водного раствора – сиропа. Батарея состоит из 12-ти «кастрюль», между двумя рядами которых проходит лента транспортера, несущего стружку свеклы после резки. Каждая вытянутая в виде яйца «кастрюлька» имеет объем 40 кубических метров и открывающиеся дно и крышку, диаметром по полтора метра. Кастрюлька доверху заполняется стружкой свеклы, герметично закрывается. Снизу, через всю массу стружки, под большим давлением проходит горячая вода, вымывающая сахар. Сироп на выходе подогревается паром в специальном теплообменнике – бойлере и направляется на следующий диффузор – «кастрюлю». В таком последовательном соединении обычно находится 10 диффузоров из 12-ти. Из оставшихся двух, по выражению Юлика, первый – «кушает», а последний – «какает». Когда полностью заряженный первый диффузор подключается к горячей воде, бывший ранее первым стает последний, и его начинают наполнять стружкой, предпоследний – очищается, – и так без конца. Чтобы выполнить эту схему, надо было отрывать и закрывать каждый раз десятки вентилей и вентильков, расположенных на полу возле верхних крышек диффузоров. Что в данный момент открывать, а что – закрывать, – можно было легко понять, зная принцип работы всей системы. Но с общими понятиями у бригады Юлика, состоящих из необученных селян, в основном – женщин, были проблемы. Я, как мог, помогал учителю. Через несколько смен я уже почти самостоятельно мог стоять вахту вместо него, что позволило Юлику одновременно выполнять работу заболевшего выпарщика и бригадира фильтр-прессов…
Отходы диффузионной батареи – жом – это лишенная сахара стружка сахарной свеклы. Жом насосами перекачивается в специальную мощеную яму, размером больше футбольного поля. Это ценный корм для скота, и там всегда тесно от подвод и автомобилей, вывозящих свежий жом. Через несколько дней жом прокисает. Этот жом по запаху уже мало напоминает Шанель № 5, но коровы, незнакомые с французской косметикой, его поедают, как будто, еще более охотно. К весне остатки прокисшего жома совсем загнивают, и запах жомовой ямы перекрывает все запахи в округе. Людей, живущих вблизи ямы, можно распознать метров за 100… В том немецком заводе, который мы перегружали с широкой колеи на узкую, якобы предусмотрена была технология высушивания жома и расфасовки его в бумажные мешки. Но такое немецкое чистоплюйство превышает пределы нашего понимания. Это стало, наверное, еще одной причиной, по которым дармовой завод по репарациям так никогда и не был построен.
Я не рассказал еще об одном важном технологическом процессе, без которого будет непонятно дальнейшее, а главное – не получится сахара. Прежде чем попасть на решоферы для подогрева, сироп смешивался с известковым раствором – «молоком». При этом известь отнимала у сиропа некие вещества, кажется, – пектины, которые мешали дальнейшему процессу сахароварения. Известь с захваченной бякой выделялась на фильтр-прессах, на плоских чугунных рамах которых были натянуты чехлы из плотной ткани, – весьма вожделенного материала для послевоенных обносившихся модников. Отработанную известь с прессов смешивали с водой и перекачивали в дальний сборник, километра за два от завода. Эта известь была желтоватая и непригодная для строительства, но являлась прекрасным удобрением, особенно для кислых почв. (Думаю, что практичные немцы извлекали из такой извести еще и примесь-бяку и делали из нее какие-нибудь пряники).
Я – «любимчик командира»
Мой сменный инженер Пастухов всю смену носился по заводу и бурячной. Везде что-нибудь случалось, что требовало немедленного вмешательства, чтобы завод не остановился. В основном это была нехватка людей. Люди болели, их дети – тоже. Кроме того, – каждому надо было один раз в неделю давать выходной. Ломка смен, то есть переход смены на другое время работы, происходила каждую неделю, что тоже вносило проблемы. Зияющие дыры надо было кем-то немедленно закрывать, выдав инструктаж длиной не более 60 секунд. По-видимому, я годился для этой роли. Постепенно я потерял свое постоянное рабочее место, приобретя должность «рабочего на выходных». В понятие «выходные», очевидно, входили всякие «нештатные ситуации», для расшивки которых требовались люди. Вся смена еще нежилась в комнате отдыха, а мы вместе со сменным инженером уже носились по заводу. Первым делом изучались запасы свеклы, доставленной гидротранспортером в ближний к заводу отстойник. Затем вдвоем при помощи тяжелого кайла из узкоколейного рельса взламывали и очищали камнеловушку (она называлась «камнеловушкой Рауде», – безвестный изобретатель поставил себе памятник на века, если кто-нибудь не придумает для ловли камешков более гуманное устройство). На весах «Хронос» – моем первом рабочем месте – снимались показания счетчика предыдущей смены, то есть начало нашего отсчета. Проносились по котельной, выясняли запасы угля и давление пара. Одной из болевых точек была «коза» – огромный вращающийся барабан, где непрерывно гасилась известь, образуя известковое «молоко».
Увы, как любая коза, наша тоже производила отходы, которые вызывали сильную головную боль у руководства. Отходы состояли из крупного песка и гальки, почти всегда присутствующих в обжигаемом в печи известняке. Эти отходы, в принципе, – прекрасный строительный материал, охотно забираемый для строительства. Проблема состояла в транспорте, точнее – в его отсутствии. «Коза» находилась в отдельной пристройке возле обжиговой печи, похожей на небольшую домну. Отходы «козы» загружались в вагонетку и выгружались неподалеку на площадку. Площадка уже заполнилась, отходы ссыпались рядом с рельсами, затем – под рельсы. Площадка поднималась. Наконец, подъем достиг такой крутизны, что вагонетку не могли выкатить даже трое мужиков. Тогда пришлось перейти на одноколесные тачки малой грузоподъемности. По проложенной доске груженую тачку еще можно было выкатить на вершину рукотворной горы и там разгрузить. При этой операции, правда, требовались изрядные сила и сноровка, а главное – отсутствие боязни заработать грыжу или радикулит. И этим требованиям я тогда удовлетворял.
Любимчик командира
Еще одна «убойная» операция того времени – погрузка сахара, затаренного в мешки. Стандартный вес мешка с сахаром в те времена составлял 90 килограммов (сейчас – всего 50 кг). На плечи грузчика такой груз укладывали обычно двое других. Подняв несколько раз по прогибающемуся трапу такой «кулек», начинаешь понимать, что «дрожь в коленках» – не только литературная фраза.
Я стал «любимчиком командира». Это понятие своего положения при руководстве возникло у меня гораздо позже – после просмотра одноименного югославского кино. «Любимчик» вовсе не означало трогательной любви начальства. Оно обозначало только веру начальства, что вышеупомянутый «любимчик» сможет справиться с любым заданием в любой, даже самой неблагоприятной, ситуации. Поскольку такие ситуации на производстве возникают непрерывной чередой, то «любимчики» используются руководством на 150 %. Меня всегда тяготила однообразная «тупая» работа. Работа «на выходных» мне нравилась своим разнообразием и непрерывным постижением завода, что было похоже на чтение интересной книги.
В зиму 45–46 года наш завод работал более полугода: с сентября по апрель. За это время я освоил очень многие специальности на производстве; правда, многие из них были простыми как репа и не интересными, типа «бери больше – таскай дальше». Неразгаданной тайной и недосягаемой мечтой оставалась одна специальность – вакуумщика, человека который ставит последнюю точку (иногда – запятую) в изготовлении сахара. Расскажу о ней.