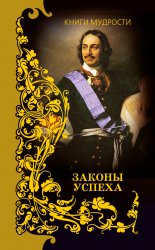Еще вчера. Часть первая. Я – инженер Мельниченко Николай

– Николай Трофимович, – обратился вдруг ко мне бригадир. Я был всего лишь пятнадцатилетний пацан и от такого обращения чуть не упал. – Николай Трофимович, – продолжал бригадир. – Народ оголодал. Народ просит вашего разрешения, чтобы, значит, сварить и чтобы, значит, подхарчиться…
Я, наконец, понял: делегация колхозников просила меня разрешить им взять частичку посеянного и выращенного ими хлеба, чтобы иметь силы еще работать. Что-то горячее полоснуло меня по глазам и груди. Я начисто забыл все райкомовские инструкции.
– Это ваш хлеб, вы его посеяли и вырастили. Кто я такой, чтобы запрещать вам взять то, что принадлежит вам? Если речь идет о том, чтобы не подводить Нелю, – не волнуйтесь…
Наверное я говорил не так связно, но все всё поняли. Через пару часов на треногах стоял огромный чугунный котел, в котором варилась кутья на полсотни человек.
Возможно, это зерно не совсем еще разварилось, но люди так изголодались по настоящей еде, что не стали ждать. Каждый набирал в подходящую посуду сколько хотел, и ел, ел, ел. Ток замер, все работы остановились. Гриша Бойко уже начал набирать в грудь воздух, чтобы выразить свое недовольство, но его неожиданно жестко пресек, обычно очень вежливый, бригадир:
– Дай людям спокойно поесть, им не носят, как тебе!
Продолжение, к сожалению, было не таким радостным. Многие, с непривычки к такому количеству, а возможно – и качеству – пищи, просто заболели, – как мы со Славкой после ведра винегрета. Многим не хватало времени добежать до весьма отдаленного отхожего места. Ночью прошел сильный дождь, и мы с бригадиром грустно наблюдали кучки чистой пшеницы вокруг скирды.
– Надо варить хотя бы затеруху и печь хлеб, – грустно сказал бригадир. Но это надо везти на мельницу… А туда надо много. Остапенко (председатель) поймет, а вот Гиммельфарба тебе, сынок, надо бояться.
Я согласно кивнул головой. Вечером Молка доложила мне, что за день мы намолотили 155 ящиков.
– Ты ошиблась, Молка. Сегодня мы намолотили 140 ящиков.
Молка, удивленная моим недоверием, на мгновение широко открыла глаза, но уже через секунду глаза стали обычными.
– Конечно, сто сорок.
Через пару дней на току варилась каша для всех работающих и выдавался давно не виданный людьми свежий пахучий хлеб из зерна нового урожая.
С точки зрения власти я совершил преступление, превысил свои полномочия и т. д. Не посадили меня тогда, возможно, – случайно. Если бы начали раскручивать это дело, то наверняка бы оказалось, что часть этого хлеба прилипла ко многим рукам, через которые он проходил. Мне бы это доказали, показали бы наглядно, как я способствовал расхитителям социалистической собственности. Но никто бы и не вспомнил, что была решена главная задача: накормлены работающие на этом хлебе голодные люди. И что решение о таком необходимом и естественном деле, вместо высоких чинов, обязанных это делать, вынужден был принимать маленький человек. А высокие – то ли забыли о своем долге, то ли боятся, что им лично может стать хуже…
Наверное, примерно так я думал тогда, кипя благородным негодованием и представляя себя спасителем трудящихся. С годами я понял, что может быть и другой взгляд.
Сократительное отступление. Дальше следовали две страницы философических размышлений, показывающих, как в течение жизни плохие люди заставляли меня прозревать. Прочитав все это на трезвую голову, я выделил эти страницы, и нажал клавишу «Delete». Поэт уже давно сказал об этом, причем, – короче и понятнее.
Блажен, кто смолоду был молод.
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел.
И, все-таки: голодных работающих людей надо кормить, даже если по молодости еще не совсем созрел тот, кто может это сделать. Аминь.
Архивно-литературное отступление, почти отменяющее предыдущее. Эти пушкинские строки известны мне с младых ногтей. Они казались мудростью в последней инстанции, незыблемой и точно сформулированной. Текст «до» и «после» – не отложился, казался несущественным рядом с Истиной. Страсть к точности повела меня к первоисточнику: правильно ли передаю буквы Великого. Вник. И не мог оторваться. Буквы были переданы почти правильно, а вот дух – с точностью до наоборот. Поэт смеялся надо мной. Этим строкам предшествовали, оказывается, строки, ставящие под сомнения выученные:
И что посредственность одна
Нам по плечу и не странна?
А после приведенных запомнившихся классических строк следовали иронические:
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился,
О ком твердили целый век:
N. N. прекрасный человек.
И совсем уже добивал поэт читателя своими сожалениями о гибели благих порывов молодости:
Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.
Такие вот не постигнутые вовремя глубины открываются дилетантам. Тем не менее, даже не понимая поэзии, – голодных работающих надо кормить всегда. Теперь уже точно: аминь.
Молотьба кончилась, через несколько дней уже надо было идти в школу. Без ставшего привычным рева молотилки я ходил как потерянный. Забрел на ток. Там еще группа женщин очищала и засыпала в мешки оставшееся зерно. Возле них хлопотала моя колхозная коллега Неля. Внезапно я разглядел ее: до чего же красивая девушка! Столько дней и ночей работали совсем рядом, и я не видел этого. Нужно, оказывается, иногда безделье, чтобы прозреть! У многих моих ровесников были свои девушки, у меня же – никого. Выяснив, что Неля в воскресенье будет дома, я задумчиво побрел с поля. Собрав все наличные, я отправился в сельпо и купил очень дорогую бутылку с красивым розовым напитком и яркими наклейками. Я представлял, как будем мы вдвоем с Нелей распивать этот неведомый, но наверняка прекрасный напиток. Это было чрезвычайно интеллигентно и красиво: ребята, когда шли «до дівки», не мудрствуя, тащили самогон, закрытый кукурузным початком.
Заявился я к «объекту» пополудни. Неля хозяйничала, старшей сестры, с которой они жили вдвоем, не было дома. Поговорили о делах, как обычно на работе. Разговор не клеился. Предвидя такой ход событий, я добыл из кармана злодейку с наклейкой. Неля сразу же стала суровой и официальной. Большие черные глаза, опушенные ресницами, превратились в щелочки.
– Немедленно забери! Никогда не смей этого делать!
Я пытался блеять нечто примирительное, но Неля запихнула мой интеллигентный выпивон мне в карман и заявила, что она меня проводит. Почти силой вытолкала меня из хаты. По пути Неля что-то говорила, но мне было скучно, и я ничего не слышал. Так мы дошли до каменного мостика, отделяющего «большой Деребчин» от Мазуривки, где жила Неля.
– Ну, все, мне надо возвращаться, до свидания.
Я вытащил бутылку из кармана и силой бросил ее в каменный бордюр. Нечто розовое и пахучее брызнуло во все стороны. Я повернулся и ушел, не оглядываясь. Неля что-то говорила вслед, но меня больше всего терзала мысль: что за напиток все-таки был в этой бутылке? Ну, нечем было ее открыть, чтобы попробовать, прежде чем шмякнуть о камень…
Закончилось длинное лето голодного 1947 года. Впереди – опять школа.
Мы – лицедеи
У всякого портного свой взгляд на искусство.
(К. П. № 45)
К старости кажется, что время течет очень быстро, потому что ничего не успеваешь сделать, а уже тянет на отдых. Короче: проснулся утром – хочется прилечь. Когда начинаешь вспоминать молодость, то поневоле удивляешься самому себе: как много всего тогда успевалось. Конечно, сутки были такими же: просто сил было неизмеримо больше.
Сейчас телевидение, компьютерные игры и масс-медиа поглощают все свободное время молодых. У нашего поколения ничего этого не было. Зато мы много читали. И это были не комиксы, а вполне добротная литература. А еще мы играли спектакли. Сейчас их тоже играют на телевидении, – например в КВН, разнообразных фабриках звезд (!) и «последних героях». Там все отработано очень профессионально и лишено наивности и непосредственности, которая бывает у неофитов, особенно – у провинциальных. Впрочем, не мне судить о столь высоких материях, особенно в автобиографии, которую я пишу, часто и нелепо сбиваясь с прямых рельсов «былого» в извилистые огороды рассуждений и «дум».
Как тогда называли – «художественная самодеятельность» была наша утеха и любовь. В школе учитель математики Татарский организовал хор. Мы оставались после уроков и пели разные песни. Обязательный официоз – песня о Сталине, лучше – две.
Із-за гір, та за високих
Сизокрил орел летить.
Не зламати крил широких,
Того льоту не спинить.
……………………………
Шляхом сонячним орлиним
Мудрий вождь усіх веде!
Это было надо. Обязательно перед началом какого-нибудь торжественного собрания выходила наша штатная кликуха Зоя Полуэктова и специально отработанным дурным голосом (как Пельш, только без неприличных завываний в конце) орала:
– Предлагаю избрать в Почетный Президиум нашего собрания (конференции, совещания) Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с Великим Сталиным!
Дальше шли бурные аплодисменты, все вставали. После чего открывающий собрание VІP говорил:
– Разрешите считать ваши аплодисменты одобрением поступившего предложения.
Затем опять звучали аплодисменты и все садились. После таких же продуктивных обсуждений вопросов повестки дня, объявлялся, наконец, концерт. В его начале опять следовало объявление дурным голосом Пельша:
– Песня о Сталине! Слова Рыльского! Музыка Ревуцкого! Исполняет хор Деребчинской средней школы под управлением товарища Татарского!».
Все эти официозы рассматривались нами, примерно, как мытье рук в детском садике, – неприятно, но надо. Затем начинался праздник души. Пели песни разные и много – народные, военные, русские и украинские. Впервые Татарский научил нас осознанно, а не интуитивно, различать партии первых и вторых голосов. (К великому сожалению, я не запомнил имя-отчество этого энтузиаста песни. Замечательно то, что нашу с женой любимую передачу «Встреча с песней» вел тоже Татарский). Особенно запомнилась забавная песенка:
Кучерява Катерина чіплялася до Мартина.
Ой, Мартине добродію сватай мене у неділю!
Всю вторую строчку басы растягивали только: “Ой, Мартине”, что создавало очень красивый эффект. Но нам хотелось большего.
Мы начали очень серьезно работать над “Наталкой Полтавкой” Котляревского. По количеству включенных туда песен, то ли народных, то ли ставших народными, – это была целая опера, хотя там много говорят и прозой. Роли учили серьезно, наизусть. Наталку играла наша вездесущая Зоя Полуектова, ее любимым Петром был назначен импозантный Боря Стрелец. Поскольку Борису медведь наступил пяткой на слуховой орган, то его песни передоверили СлавкеЯковлеву, который играл Мыколу, друга Петра. Мне досталась роль старого крючкотвора – Возного, – это какой-то юридический чиновник на старой Украине. Возному очень нравилась Наталка, и он, пока отсутствовал Петро, прилагал все силы, чтобы взять ее в жены. Возный разговаривал на жуткой смеси русского, украинского, славянского и юридического языков: «Ежели б я имел стільки язиків, скільки артикулів у Статуті, ілі скільки запятих у Магденбургськім Правє, то і сих не довліло би на восхваленіє ліпоти твоєї». Возный пел только одну сольную арию, но какую:
Всякого рот дере ложка суха.
Хто ж є на світі, щоб був без гріха?
Со временем мы перенесли репетиции в заводской клуб, где некоторые роли отдали энтузиастам из завода: мать Наталки стала играть Зося, старшая сестра Славки, появился поющий Петро.
«Наталку Полтавку» ставили в заводском клубе при сверханшлаге: мальчишки, не обремененные наличностью, пролезали под ногами и через немыслимые щели. Они, кстати, были самыми отзывчивыми, смешливыми и благодарными зрителями. Такой штрих: позже мы поставили пьесу украинского драматурга Карпенко-Карого. Я играл там какую-то не очень большую роль. Все до одного реплики мой герой начинал словами: «Покійний землемір Харитон Харитонович Кацавейченко говорив…» Я роль эту помню только потому, что пацаны еще год бегали за мной и орали эту сакраментальную фразу, так она запала им в душу…
Успех «Наталки» был оглушительный. В финале, когда хитрый интриган Возный отступается от Наталки и она воссоединяется со своим Петром, весь зал стоя орал вместе с артистами:
Де згода в сімействі, де мир і тишина —
Щасливі там люди, блаженна сторона.
Їм Бог допомагає, добро їм посилає,
І з ними вік живе, і з ними вік живе!
На спектакле присутствовали, кроме всего бомонда Деребчина, также все учителя нашей школы. Учителя приняли решение самим ставить «Наталку». Возможно, им захотелось исправить наши недоработки, а может ими двигала черная зависть к нашему успеху, – не знаю. Я был приглашен суфлером, поскольку знал наизусть не только длиннющие монологи Возного, – их я помню даже сейчас, – но и всю пьесу. У педагогов Петра играл невысокий, кругленький как колобок, преподаватель украинской литературы Иван Иванович. Голова у Ивана Ивановича была такой формы, как у гоголевского Ивана Никифоровича, то есть как редька хвостом вверх. Все знали, что он неравнодушен к большеглазой учительнице младших классов Анне, такой же кругленькой, как он. Репетиции происходили в пустом классе после уроков. Эти двое появлялись первыми.
– От що, Мельниченко (ко всем ученикам Иван Иванович обращался только по фамилии). Поки не надійшли учасники, прорепетуємо останню дію.
В этом последнем действии у действующих лиц было всего по одному слову: Петро вскрикивал “Наталка!”, а Наталка вскрикивала “Петро!”. Я важно открывал пьесу на нужной странице и начинал суфлировать, для приличия серьезно изучая текст. После моих подсказок герои произносили свои слова и бросались в объятия. Через пару минут молчаливого блаженства Петро с видимым усилием отрывался от Наталки и произносил:
– Ет, щось не те. Будь ласка, спочатку, Мельниченко…
Эту сценку они могли репетировать бесконечно, пока приход остальных участников не переводил стрелку на другие сцены.
Учительский спектакль, кажется, не состоялся, во всяком случае, на нем я не суфлировал. Зато бледная и худая Вера, жена Ивана Ивановича, вскоре забеременела и благополучно родила сына. Все знали, что эти двое стариков (им было уже по 30–35 лет!) давно хотели иметь детей, но у них не получалось. Счастливый отец мог запросто забыть о всяких репетициях. Его Вера поправилась и расцвела неброской счастливой красотой.
На праздники мы «давали» спектакли для малышей из младших классов прямо в школе. Сцена условно выделялась в том же углу большого класса, где мы со Славкой Яковлевым наслаждались винегретом. Дети плотной массой располагались прямо на полу и напряженно внимали разворачивающемуся действу. Однажды меня, – то ли полицая переодетого партизаном, то ли наоборот, – угощала жена лесника, которую играла смешливая Люда Окремая. Самоотверженная девушка притащила из дома кастрюльку с завидным харчем – голубцами – и открыла это великолепие перед сотней голодных глаз. Я неаккуратно потянул голубец, и он распеленался. Люда зашлась смехом, я тоже откровенно заржал. Сосредоточенно и молча за нами наблюдали десятки глаз, в полной уверенности, что так и надо. Затолкав капусту в рот, к авторскому тексту пришлось добавить: «Ну и бешеные у тебя голубцы, хозяйка!» Действо продолжалось.
Однажды мы чуть не погорели очень крупно. Прошла послевоенная денежная реформа, когда имеющуюся наличность меняли 10 к одному. Новых денег ни у кого не было, и мы решили их заработать. Собрались у Славки Яковлева и решили ставить пьесу «Шельменко-денщик» Григория Квитки-Основьяненко. Полистали пьесу, распределили роли, и уже через день в субботу решили ставить в заводском клубе. Заготовили красочную афишу. Намеченная еще одна репетиция сорвалась, так как все были заняты поисками реквизита для себя. Текста никто совершенно не знал, полагались только на импровизацию, суфлера не было: он был бесполезен. Зоя Полуэктова играла хозяйку (я даже не помню, как ее звали), роли простодушных селян исполняли Славка и Боря Стрелец. Я играл заглавного героя – хитрого солдата. Из реквизита мне удалось добыть ярко зеленую румынскую шинель. Для придания ей видимости военной формы старых времен, наскоро пришили непонятные петлички из красной ленты. К арендованной малокалиберной винтовке прикрепили деревянный штык за пять минут до начала спектакля.
Поскольку мы уже обладали репутацией, зал заполнил весь бомонд, и, как обычно, набилось полно пацанов.
Началось «действо». Мы носились по сцене и безбожно врали, не допуская пауз. Если бы в зале присутствовали Станиславский и Немирович-Данченко, – два инфаркта Деребчину были бы обеспечены; мне до сих пор стыдно за ту халтуру. Зато мы «заработали» по 35 рублей новых денег, это было неслыханное богатство!
Неприятности начались на следующий день. Оказывается, в зале присутствовал начальник Днепропетровского управления МГБ, приехавший в гости к кому-то из заводских. Ему чрезвычайно не понравились слова: «проклятый москаль», «упрямый хохол» и еще какие-то. Незадолго до этого, оказывается, компетентными органами был «доведен для исполнения» огромный список запрещенных пьес и книг. Директору школы и нам, лицедеям, грозило «политическое» дело. Тогда такие дела назывались еще не «антисоветскими», а попросту: «контрреволюционными». Специальный гонец был послан в райцентр, чтобы привезти этот огромный список запрещенной «бяки». Важные люди водили пальцами по списку, отыскивая нашего Шельменка. Но пройдоха-солдат и здесь проскользнул! Его в черных списках не оказалось!
Бдительный чин из МГБ уехал ни с чем. Мы получили, кроме бешеных заработков и изрядного стресса, также ценные сведения о некоторых неведомых нам произведениях, упомянутых в черном списке. Например, я узнал о романе «Людоловы» украинской «националистки» Зинаиды Тулуб. Мой одноклассник Боря Погонец немедленно притащил эту книгу из огромной семейной библиотеки, и весь класс с удовольствием прочитал эту яркую вещь об отношениях запорожских казаков, Крымской орды, Польши и Москвы в начале 17 века. Со значительными купюрами (возможно – с «редактированием») эта книга была переиздана в Москве в 1962 году под названием «Сагайдачный».
Не чурались мы и того, что теперь называют «чёсом», – выездных спектаклей для заработков. Конечно, эти самые заработки были ничтожны, но появлялась масса знакомств и новых впечатлений.
Запомнилась поездка в Мурафу. Там мы «дали» большой концерт с самодельным конферансом и пьесу (скетч?) «Балтийский мичман». Уж не знаю, как там концерт, а этот скетч мы сыграли сверхреалистично. Некий предатель (Славка) выдает Господину в сером (я) – якобы важному немцу, – секретные сведения о партизанском отряде. Но Господин в сером сбрасывает плащ – под ним тельняшка! Он – неуловимый Балтийский Мичман. С диким криком прозревший предатель бросается на мичмана, но, по сценарию, – «был повержен точным ударом в челюсть» мичманского кулака. Дальше мичман должен был спокойно связать предателя, – то ли для производства харакири, то ли для передачи «правоохранительным органам». Славка в артистическом рвении действительно напоролся на мой условно выставленный кулак, но не упал, а слегка озверел и кинулся на меня как бешеный. Мне перед лицом сотни зрителей и сценария ничего не осталось, как вступить с ним в настоящую борьбу. Первый раз Славка вырвался и смазал меня по фейсу. Пришлось его обхватить и шмякнуть об пол по-настоящему. Славка взвыл, но я навалился на него, заломил руки назад. Связать их Славка позволил только после угрожающего шепота: «Сделаю больно!». Наградой герою с окровавленной «мордой лица» были бурные аплодисменты и девушка, мгновенно разлюбившая предателя и полюбившая Мичмана. (Имея смутное представления о флотских званиях, мы полагали, что «мичман» – это морской генерал).
Большинство наших встреч, обсуждений и даже репетиций происходили в проходной комнате маленькой двухкомнатной квартирки Яковлевых. Их жилище размещалось в доме совсем близко от заводской проходной и недалеко от заводского клуба. Славкин отец, с пушистыми усами, немногословный и добрый Афанасий Николаевич, наш «дядя Таня», – был кадровым рабочим завода. Мать – Людвига Донатовна – хлопотунья – домохозяйка; сестра Зося, старше нас, работала в заводоуправлении и часто принимала участие в наших делах. Так вот, в яковлевской квартире всегда было полно молодежи, всегда звучал смех и споры. Именно там мы впервые встретились с Эммой. Часто Людвига Донатовна ставила на стол блюдо с горячей картошкой, солеными огурчиками, которые мы жадно поглощали, даже не думая, как это может быть накладно для хозяев. Часто мы засиживались допоздна. Наверное, я теперь это понимаю, мы очень стесняли своим неугомонным присутствием хозяев. Но ни разу эти добрые, по-настоящему интеллигентные люди, – ни словом, ни намеком не дали нам знак, что нам пора уходить: мы у них были как дома. А приходили мы в этот дом всегда с полной головой и, увы, – пустыми руками…
Давно уже нет в живых добрых стариков. Пусть земля вам будет пухом, а торсионные поля этого письма пусть донесут до ваших благородных душ мои запоздалые извинения за наш молодой эгоизм и недомыслие. Мы очень любили вас, но никогда не говорили вам этого. Простите нас за все.
Дневники. Конец ученичества – начало учебы
Со 2 декабря 1948 года я начал писать дневники – на половине разрезанной пополам тетради в клеточку очень мелким убористым почерком. Таких инвалидных тетрадей набралось пять; последняя запись 2 июля 1950 года. Время дневников перекрывало период окончания школы (почти весь 10-й класс) и весь первый курс института. Это время для меня было очень насыщенным и, как теперь говорят, – судьбоносным.
Эти упакованные листочки хранились более полувека нетронутыми. Где-то в подсознании я помнил о них и, открывая тетрадки уже в 21 веке, радовался, что у меня бесценный материал о середине прошлого века. Увы, там почти ничего не было. Там была только нескончаемая песня о Ней, о Первой Любви. Я был глубоко разочарован своим юношеским недомыслием и наивностью.
Однако, просматривая дневники второй и третий раз, я попробовал вникнуть в это «почти». Во-первых, там оказалась весьма ценная привязка некоторых событий ко времени. Во-вторых, даже намеки о событиях позволяют вспомнить и воссоздать их, зная о их последующей «судьбоносности». Короче: надо попробовать прочесть юношеские дневники рентгеновскими глазами старца на восьмом десятке лет, выжать из них лабуду и прояснить сущее.
Вот, что стало понятно из первой тетради – начало 02. 12. 1948. конец – 09. 03. 1949 г. Дневник – не хроника, а размышления обо всем. Писать буду под порывами вдохновения. Отвращение к подготовке к урокам. Читаю много случайных книг, все нравятся, некоторые – очень. По книге Д. Стейбека «Гроздья гнева» – гневные же рассуждения и недоумения: почему американские фермеры не делают революции? Пламенная надежда, что скоро сделают. Прорезаются некие намеки на влюбленность: что сказала, что написала и как посмотрела Она.
Дальше – больше. Цитата от 14. 02. 49 г.: «Сижу за столом, смотрю в книгу и вижу фигу, притом – историческую, т. к. гляжу в «Историю». Мои мысли… кружатся… вокруг одной сияющей точки. Я будто бы в блестящем (?) тумане, который освещает всего одно солнце…», и т. д. и т. п. Читаю «Хождение по мукам» А. Толстого. Она, конечно, – Даша. Она то подает надежду, то отталкивает. Я – мучаюсь. Среди этого невнятного лепета, вдруг живая сценка.
Возле доски решает задачу по физике Соня Мугерман. Тяжко задумалась: сколько будет + . Соня – девушка с точеной фигуркой, большими и грустными семитскими глазами.
– Ну, сколько будет: половинка и еще половинка? – вежливо интересуется Петр Сидорович, наш учитель математики и физики, по прозвищу «Зверь Сидорович». Он бывший офицер, контужен на войне, терпеть не может слабо соображающих.
– Одна вторая, – нерешительно отвечает Соня. Весь класс поднимает по одному пальцу так, как будто определяет направление ветра на парусных гонках.
– Смотрите, я дал Вам полкулака, затем – еще полкулака. Сколько я Вам дал кулаков? – подбирает «Зверь» совсем не педагогический пример. Неясно также, как может раздвоиться его кулак?
– Н-ну, половину, – шепчет Соня, испуганно глядя на обладателя кулака. ПС совсем взбеленился:
– Вот с-с-спичка, я ее переломил. Даю Вам полспички, затем – еще полспички. Сколько я Вам дал спичек??? – исправил делимое ПС, и почти надвинулся на бедную Соню.
– Ну, – половину, – прошептала она, обреченно глядя на ПС снизу вверх. ПС в изнеможении разводит руками и вытирает холодный пот со лба. Собравшись с силами, он находит еще один педагогический способ.
– Даю вам полсотни рублей, – усталым голосом раздает он деньгу. – Потом – еще полсотни. Сколько я Вам дал денег?
– Сотню! – уверенно и как-то грозно отвечает Соня, глядя на «Зверя» сверху вниз. Класс грохнул. ПС не выдерживает и ржет вместе с народом.
Дальше в дневнике – опять сплошные сопли про любовь, что сказала она, пришла или не пришла, что я думаю по этому поводу, немыслимо сложные рассуждения по поводу загадочности девичьего сердца. Как будто тогда я мог думать. Объяснения с Борей Стрельцом: «до того» с Ирой «дружил» он.
А вот и объективные данные. Учить ничего не хочется. Денег – нет, не хватает на табак, кино и лезвия для бритья. Впрочем, это все мои расходы. Пропадаю допоздна в заводе, – мама сердится. Райком комсомола поручает мне провести проверку комсомольской организации в Семеновке, – это небольшая деревушка с колхозом километра за два от завода. Я с радостью хватаюсь за это мероприятие: Ира живет прямо на территории завода; я мечтаю увлечь ее с собой в эту Семеновку. От щенячьего восторга перехожу на немецкий с ошибками: «Мой далекий прекрасный девушка! Ich immer mit dir! Du immer mit mir!». Увы, немецкий мы знаем чуть хуже нашей учительницы – старой девы. А она умеет только спрягать «ich habe gehabt haben, du hast gehabt haben…» – und so weiter. А ведь немецкий придется сдавать… С тоской вспоминаю о стрельбе по умной голове казахстанского Берина и предпринимаю отчаянные попытки овладеть чужим языком по учебникам для средней школы. Кроме «Anna und Marta baden» с блеском овладеваю высокой ступенью: «Wir fahren nach Anapa», дальше дело стопорится.
Второй том записок (14.03.49–11.05.49) открывается велеречивым недовольством собой на тему: «хочется – получается». Получается – «пошло, глупо, натянуто». Привлекается в помощь Лермонтов: «… но как враги избегали признанья и встречи, и были пусты и хладны их краткие речи».
Запись: «Очень мало готовлюсь к урокам». Зато: прочитал: «Евгений Онегин», «Остров голубых песцов» Ильницкого, «Казаки» Толстого, «Избранные философские сочинения» Белинского, «Два капитана» Каверина, «Герой нашего времени» Лермонтова (пятый раз), «Посмертные записки Пиквикского клуба» Диккенса. Да еще «погружаюсь в Нирвану» для осмысления прочитанного. «Меньше спишь – меньше спать хочется».
«Новый директор ПС выгнал из школы за пение песен во время свободного урока. ПС – ишак: душит таланты». (В действительности «Зверь Сидорович» Кириченко любит и как-то выделяет меня, я это чувствую. Разглядывая мои мышцы у пруда, он обратился ко мне на «ты», сказал, что мне надо заниматься гимнастикой. Сам он запросто крутит солнце на турнике. Прощаясь на выпуске из школы, он подарил мне драгоценную, необычайно точную, логарифмическую линейку. Эта линейка ездила со мной везде, хранится и используется до сих пор. Дарителя уже давно нет в живых, – он еще молодым просто сгорел на работе. Да и военная контузия видно даром не прошла. Пусть земля тебе будет пухом, живой, неугомонный человек… Пусть твой, успевший родиться сын будет таким же, как ты).
В Семеновку моя пассия не пошла, а я сам неожиданно увлекся и зачастил туда. Организовал собрание колхозной молодежи, выступил там с пламенной речухой о том, что нам, молодым, строить этот мир. Опять собрание – уже комсомольское, приняли в комсомол двух человек. Задача новой организации была поставлена не слабая: восстановить комсомольское молодежное звено со звеньевой Верой Слойко. Веру «ушли», так как она отбила мужа у другой звеньевой, у которой был контакт с бригадиром. У меня хватало тогда невежества и наглости, чтобы разбираться во всех этих отношениях и чего-то требовать. Сейчас-то я твердо знаю, что в этих делах, отношениях между мужчиной и женщиной, – даже Господь Бог не может быть советчиком и руководителем. Тогда же я уповал всего лишь на комсомольскую дисциплину…
Кстати, о комсомольской и школьной дисциплине. Живем мы по драконовским правилам для учащихся, недавно «внедренных». Все ученики средней школы по этим правилам приравнены, пожалуй, к несмышленышам из детского сада, частично – к девочкам из благородного пансионата. Я не помню всех нелепостей правил, кроме одной: мы должны быть дома и в постели не позже 22 часов. (Заметим в скобках, что три-четыре года назад, – несомненно, я был тогда еще моложе, – у меня в это время начиналась ночная смена на заводе. То-то бы удивился мой сменный, узнав, что в это время, спустя четыре года, меня законодательно будут укладывать в постель!).
Но это присказка, сказка – впереди. Вышла книга А. Фадеева «Молодая гвардия», самое первое издание. Книгу давали по разнарядке в райкоме комсомола, на школу – всего два экземпляра: один «комсомольскому генсеку» школы (мне), другой – в библиотеку. Книга о войне, любви, трагедии, гибели – потрясала: это была талантливо написанная поэм о нас самих. Читали ее взахлеб, по жесткому графику. Наш драмкружок даже начал репетировать пьесу по книге: я был Олегом Кошевым, Зоя Полуэктова – Любой Шевцовой, Славка Яковлев – Сережей Тюлениным. И вот на экраны выходит фильм «Молодая гвардия», где главных героев – молодогвардейцев Краснодона, – играют совсем юные Нона Мордюкова, Сергей Гурзо, Инна Макарова. Кино в Деребчине в то время – важнейшее культурное событие. Тем более – такой фильм. Тем более – для нас. Естественно, что билеты на всех наших ребят были закуплены заранее, на самые лучшие места. Кино, обычно начинавшееся в 20 часов, по каким-то причинам было назначено на 21 час. Я пришел в заводской клуб минут за 15 до начала. В фойе увидел всех наших ребят, возмущенно гудевших. Их вышиб из зала Редько – директор школы. Он им заявил, что они не имеют права смотреть кино, оканчивающееся поздно, так как в 22 часа, согласно школьным правилам, должны быть дома в теплой постельке. Народ выжидательно смотрел на меня. Подчиниться этому маразму я просто не имел морального права, хотя меня уже дважды исключали из школы.
– Вперед, за мной, – дал я команду и двинулся в зал первым, за мной все наши. Редько, стоя в стороне, наблюдал за нашей демонстрацией, желваки играли на его скулах. Он был неглупый человек и понял, что может нарваться на открытое неповиновение при большом числе зрителей. Я подумал, что он «затаил некоторое хамство», как говаривал Зощенко, и разделается со мной позже. Однако, никаких «оргвыводов» не последовало. Очевидно, Редько понял, что наш прорыв выглядел в глазах начальства лучше, чем его буквоедство.
Еще о литературе. Конечно, – отступление. Фадеева за «Молодую гвардию» подвергли жестокой критике: он показал комсомол и молодых комсомольцев действующих самостоятельно. А где у вас, товарищ Фадеев, руководящая роль Партии? Несчастный писатель искромсал всю книгу, цельную и поэтическую, чтобы показать эту самую роль. Заодно сделал большой шаг навстречу своему грядущему суициду…
А еще мы тогда читали выступления Жданова и постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», где впервые, хотя бы в цитатах, познакомились с «пошляком Зощенко», «блудницей Ахматовой» и некоторыми другими. Стихи Хазина(?), описывающего пушкинским стихом приключения Евгения Онегина в советском Ленинграде я помню до сих пор:
В трамвай садится наш Евгений.
О, бедный милый человек!
Таких телопередвижений
Не знал его непросвещенный век.
Судьба Онегина хранила:
Ему лишь ногу отдавили,
И только раз, толкнув в живот,
Ему сказали: «Идиот!».
Он вспомнил давние порядки,
Решил дуэлью кончить спор.
Полез в карман он, – взять перчатки,
Но их давно уж кто-то спёр.
За неименьем таковых,
Смолчал Онегин и притих.
А вот две записи в дневнике о моих мечтах и планах, которые никогда уже не будут выполнены, во всяком случае, – так, как тогда хотелось. Первое – мечта о небе. Неизвестно, откуда она возникла, до сих пор я не поднимался в небо выше скирды, откуда и упал. Подъем выше в казахстанских горах вряд ли можно считать полетом ввысь. Военкомат послал всех допризывников в Жмеринку на рентген и медкомиссию. По моим настойчивым вопросам, комиссия признала меня годным к службе в авиации без ограничений, т. е. – в летно-подъемном составе. Я «дико размечтался» о небе; сорвалась когда-то авиационная спецшкола, – теперь открывался путь прямо в летное училище.
Вторая мечта была, пожалуй, еще объемнее, что ли. Я мечтал написать «хорошую книгу». Путаные рассуждения на эту тему занимают целых две страницы в дневнике.
Разочарованный взгляд из будущего. Мечты, мечты… Как-то они исполнялись, но не совсем полноценно, что ли. В небо я, например, все-таки поднялся, но не для того, чтобы летать в нем как орел, а чтобы падать, как камень. Книгу я тоже написал, только вместо интересных людей она населена всякими железяками, и вряд ли ее можно читать как «Трех мушкетеров»…
Вот одно время мечтал я стать моряком. Как будто и стал им: 33 годика черная шинель военного моряка давила на мои плечи. Но не пришлось мне вращать штурвал на океанских просторах, все больше пассажиром плавал, один месяц вообще в трюме жил, когда корабль долбил арктические льды. Правда, позвоночник себе я повредил навсегда во время жестокого шторма в Баренцевом море, спасая своих матросов…
С Той, о которой фактически все дневники, тоже ничего не сложилось. Последняя запись в последней тетрадке – последнее письмо к ней с объявлением разрыва. Там есть душераздирающие строки: «Только память о розовой бумажке, в которую ты обвернула свою фотокарточку, заставляет меня писать. Ира, любовь моя, а я ведь ни разу не поцеловал тебя… Я рад, что во мне нашлись силы покончить со всем сразу… Желаю тебе много хорошего и светлого счастья, Ирина».
На этой фотокарточке в розовой бумажке была подпись, как водится в провинции:
Не беда, что здесь нет красоты —
Это образ души одинокой.
Но быть может и эти черты
Тебе вспомнят о дружбе глубокой.
(Верно, кажется: «Вам напомнят», но нельзя же ко всякой выхухоли обращаться на «Вы»).
И фотокарточку, и розовую бумажку нашла в архиве и разорвала на мелкие клочки моя юная любимая жена. Это было ее законное право наглухо закрыть эту страницу моей жизни. Силой компьютера я смог восстановить образ прежних воздыханий только из групповых фото. Кстати, о подписях с обратной стороны фото. Приведенная выше – не самая крутая. Еще один воздыхатель Иры подарил ей фото с простенькой, но со вкусом, надписью:
Пусть мертвый взор твоих очей
Коснется памяти моей.
Нечто, столь же роковое, наверное, написал и я на своем «портрете». Его наверняка постигла участь фото в розовой бумажке.
Наш класс. Немного учимся и выходим, наконец, на большую развилку
Налево и направо пойдешь – плохо, а прямо – еще хуже.
Стоять – тоже нельзя.
(Былины)
Если о какой-либо серьезной учебе в школе мне что-то не вспоминается, то людей вокруг помню очень хорошо. О некоторых учителях я уже писал, теперь хочу добавить. Многих их уже давно нет. Довоенный друг отца Павел Михайлович Бондарчук преподавал русский язык и литературу. И если Иван Иванович (фамилию я запамятовал) на украинской литературе нас долбал бесчисленными характеристиками «образов», то ПМ приходил на урок и начинал нам просто читать первоисточники: Пушкина, Лермонтова, Толстого, Загоскина, Блока, Маяковского, поэтов серебряного века. Он читал, конечно, отдельные места, коротко пересказывая содержание «до того», если это было нужно. Читал он ровным, совсем не драматическим голосом. Только иногда в самых напряженных местах чтения, тембр его голоса менялся, он снимал для протирки очки, незаметно протирая и повлажневшие глаза. Он просто любил то, что читал. Вместе с ним – любили и мы. Кое-что читаем сверх программы. Запомнились стихи кого-то из футуристов:
И под кнутом воспоминанья
Я вижу призраки охот.
Лиловых грез несутся своры…и т. д.
На этот опус критик пишет: «Желал бы, чтобы авторы подобных творений в будущем писали не «под кнутом воспоминанья», а под «воспоминанием кнута».
– Ну, характеристики образов вы сами прочитаете в учебнике, – обычно говорил Павел Михайлович. Он совершенно не заботился о дисциплине в классе: в этом не было никакой необходимости.
В старой «Ниве» я прочитал исследование одного учителя. Он доказал, что бесконечные анализы «образов», начисто могут убить любовь даже к таким первоисточникам, как Пушкин. И многие приходят к пониманию Пушкина спустя долгие годы, преодолевая отвращение от привитых в школе штампов. Наш ПМ сохранил у нас горячую любовь к самим авторам.
Очень доходчиво и интересно вел экономическую географию И. А. Редько – наш старый знакомый, о котором я уже писал более чем достаточно. Историка – не помню совершенно. В этой науке школьники должны знать массу фактов и дат; не имеющих почти никакого логического обоснования. Такая информация испаряется из моей головы очень быстро. Кое-что вспоминается по книгам. Хорошо, что Загоскин озаглавил книгу «Юрий Милославский, или русские в 1612 году», это мощный вертел, на который можно нанизать массу фактов, танцуя от известной даты «1612». Знаем мы некоторых французских Луев по романам Дюма, но здесь промахнуться на 100–200 лет – не проблема. В общем, даты я опознаю по «живой хронологии» Чехова или по вычислениям. Даже даты этой биографии я восстанавливаю, нарисовав шкалу времени, на которой сначала отмечаю события, даты которых невозможно забыть, затем уже расставляю и остальные.
А в целом – учебой мы особенно не занимались: на то и школа – «очень средняя». Все понемногу и как-нибудь. Соответственно и учителя больше помнятся как обычные люди, а не светочи знаний, которые ведут за собой стадо баранов к высшему понятию сути вещей.
Выборная «элита» средней школы
Класс у нас подобрался весьма яркий. Достаточно сказать, что из нашего класса двое – Боря Стрелец и Леня Колосовский – потом стали первыми замами министров Украины.
Очень рано ушел Петя Зацепа – его свел в могилу туберкулез, хотя он выглядел широкоплечим здоровым парнем. (В Деребчине была большая семья Фартушняков, где шестеро братьев вырастали «как дубы» – здоровые рослые парубки. Никто из них не прожил более 25 лет: все умерли от туберкулеза).
Дима Лапчевский – веснушчатый, рыжий и веселый, душа любой компании, погиб трагически из-за любви к книгам. Почему-то у него загорелась соломенная крыша хаты. Ну, вся семья начала спасать имущество. Все самое ценное успели вынести, но Дима вспомнил, что осталась книга, которую он очень любил. Он уже возвращался с этой книгой, когда обрушились горящие снопы крыши. Глиняное перекрытие хаты спокойно выдержало кучу горящей соломы, но Дима в это время находился под большим открытым люком в сенях и получил смертельные ожоги. Провожали мы его в последний путь в этой же хате, в которой все пожитки, даже окна, остались совершенно целыми. Как не поверить в судьбу…
Алик Спивак – сын главного инженера сахарного завода, – мой заклятый друг. Мы с ним дружили как-то периодически. Я бывал у него в доме, – это была шикарная служебная квартира прямо на территории завода. Однажды мы с ним проводили эксперимент по добыче самогона непосредственно из молока, зарывали в землю бутылки со смесью молока с чем-то. Это Алик вычитал в какой-то книжке. К сожалению, мой здоровый скепсис на эту затею подтвердился: ничем спиртным в вырытых образцах и не пахло.
Одевался Алик лучше всех. Где-то он добыл «мичманку» – фуражку морского офицера с настоящим звездным «крабом». Он долго разгуливал в ней, пока его не перехватил на дороге бывший фронтовик – главстаршина в остатках флотской формы. «Я пятнадцать лет во флоте трубил, и не дослужился до такой фуражки! А ты, сопляк, уже напялил!». Главстаршина бережно оторвал краба и положил себе в карман. Надев кастрированную фуражку на владельца по самые уши, яростный моряк дал Алику еще хорошего пенделя под зад. Все зрители были с ним согласны: нечего носить чужие ордена!
Алик был мастером всяких интрижек, он знал все обо всех, всегда говорил с неподражаемым апломбом. С девушками нашего круга, во всяком случае, – из заводской «элиты», он вечно о чем-то шептался, многозначительно перемигивался. В эту «элиту» входила дочка нового директора завода Лида Клочко, дочка главного бухгалтера – моя пассия – Ира Мазур, Галя Бойчук, Зоя Полуэктова и еще несколько.
Алик был весьма неглупым и амбициозным человеком, но лентяем неимоверным. Учеба ему казалась огромной трудностью. Труда на учебу он, как и почти все, затрачивал немного, но его незнания проявлялись очень уж наглядно. Обычная картина, например. Пишем контрольную. Алик сидит за моей спиной и тщательно через мое плечо все копирует. Я задумался, – у него тоже пауза, во время которой он даже не пытается что-либо сделать, даже – просто подумать. Иногда после размышлений я нахожу ошибку, или более прямой путь решения. Я просто перечеркиваю сделанное, и начинаю сначала, – «ведомый» точно повторяет мои действия.
Правда, на выпускном экзамене по математике нам из Киева дали, среди нескольких задач, одну двусмысленную, в которой не могли сначала разобраться даже наши математики Татарский и Петр Сидорович. Они долго дебатировали за закрытыми дверями. Все ученики остолбенели. Тогда вошел Татарский и прямо на доске написал решение задачи и объяснил, что к чему. Все, в том числе наша круглая отличница Циля Фаберман, и, конечно же, – Алик, добросовестно перекатали написанное. Мне это решение показалось непонятным и неубедительным, и я написал все по-другому, так, как понятно было мне. Оказалось, что только я решил задачу правильно, и всему классу пришлось тайно переписывать свои работы. Алик тогда горько сожалел, что он изменил своей привычке. Возможно, это и стало причиной событий, сыгравших решающую роль в моей жизни. Но об этом позже.
Леня Колосовский – здоровенный красивый парубок с раскидистыми черными бровями. Наверное, по нему сохла не одна дивчина. Леня жил на Мазуривке; где на усадьбе родителей была очень приличная пасека. Иногда мы собирались у Лени дома, там пили самогон и закусывали малосольными огурчиками с медом, – такое сочетание нам предложил Леня, и оно оказалось восхитительным. Кстати, о распитии самогона. Пить «казенку», может быть, было и ненамного дороже, но у нас считалось дикостью и даже неким извращением. Ну, например, как выпивка экзотического вина урожая 1800-затертого года. Леня после пединститута прошел по высоким ступеням партийной иерархии в Житомире, затем обосновался в столице Украины в высоких должностях.
Трудяга Боря Погонец проживал в далекой Михайловке, и каждый день ему добавлялась нагрузка около 15-ти километров пешего пути туда и обратно, что требовало времени. Боря окончил институт инженеров ГВФ. Позже мы с ним встречались в аэропорту Винницы.
Наши девушки «невестились» где-то на стороне и в наш круг не входили, за исключением Зои Полуэктовой, весьма заводной девчонки. У нее был какой-то штатный воздыхатель – парень с совхоза, который ходил к ней домой. Однажды подвыпивший папА Полуэктов, бухгалтер, взял воздыхателя за грудки и проревел: «Моей Зойке орел нужен, а ты – мокрая курица!», после чего должность воздыхателя освободилась. Зоя после школы закружилась в многочисленных романах – сначала в Виннице, затем в Киеве…
В нашем классе училась по-настоящему только, пожалуй, Циля Фаберман. У нее была большая семья с отцом-инвалидом. Циля скрупулезно изучала всю преподаваемую нам муть. Не было случая, чтобы Циля не выполнила домашнего задания или не ответила на уроке: она дома по несколько раз все уже проработала и пересказала сама себе этот урок. Круглая отличница в течение всех лет учебы, она была верным кандидатом на золотую медаль, которая тогда давала большие преимущества при поступлении в вуз.
Учебно-философическое и неуместное отступление. Известно, что многие школьные круглые отличники и медалисты «заваливаются» в вузах. Считается, что в школе их «тянули» и их высокие оценки были незаслуженными. После первого курса института я прозрел и понял, что это не так. Школьных отличников просто губит добросовестность. Они ведь привыкли все изучать и выполнять медленно и с толком, повторять, пересказывать, – делать все для лучшего «усвоения» учебного материала. Продолжая так же работать с неизмеримо выросшими объемами этого материала в вузе, они перегорают: им элементарно не хватает времени на добросовестную зубрежку в лучшем понятии этого слова. Тяжелый стресс от первых неудач, отставание от тех, кто работает хуже, но быстрее, их вообще выбивает из колеи. У нестойких могут совсем опуститься руки, если они не найдут сил и не перестроятся. А ведь Владимир Ильич, бывало, говаривал: «Найди в цепи главное звено и, только дергая за него, вытащишь всю цепь» из чего-то там.
В школе на уроках и переменках у нас очень дружественная атмосфера. На большой переменке большинство старшеклассников удаляется за «удобства во дворе». Там открывается чудесный вид на туземные огороды, но, увы, – туда нас влечет табакокурение и треп с анекдотами, которые не расскажешь в светском обществе. На малых переменках мы занимаемся неким «стулобилдингом», как его назвали бы теперь. Берешь рукой стул за самый низ передней ножки и поднимаешь его на вытянутой руке. Оценивается количество и качество подъемов: стул во время подъема не должен отклоняться в сторону. Второе упражнение нашего «билдинга» – пронос поджатых ног над сиденьем стула вперед и назад, опираясь одной рукой на спинку, второй – на сиденье стула. После колхозных снопов мне все удается легко. Очень хорошо поддерживают физические кондиции также наследственный топор, лопата и самодельный деревянный турник. На нем я могу подтягиваться одной рукой и сбиваюсь со счета, подтягиваясь двумя. Солнце на моем турнике крутить нельзя: ноги упираются в соседнюю хату, да и жердь не выдержит.
Заглядываю в свой неполноценный дневник, надеясь найти какие-либо воспоминания об учебе, хотя бы в последние два месяца перед выпускными госэкзаменами. 10 апреля – воскресенье, вернулись с олимпиады в Джурине: «дурачились там очень много». Во вторник пойдем на комиссию в военкомат. Читал «Пиквикский Клуб», «Счастье» Павленко, «Далеко от Москвы» Ажаева, перечитывал «Герой нашего времени». Читал Твардовского. Все безумно нравится, о чем пространно рассуждаю. Ага, вот: не понравилось собрание сочинений (!) Леонова. «Слишком заумно, напоминает мистику Леонида Андреева». Сажаем деревья по сталинскому плану создания во всех малолесных районах СССР лесозащитных полос. Я посадил 130 деревьев, – в дневнике гордость за благое дело. (Эти лесные полосы позже разрослись, действительно улучшили климат и жизнь в степных районах, где бывшие леса успели истребить. Кстати, чем не национальная идея, которую безуспешно ищут сейчас?).
Наконец, про учебу – целая сценка. Иван Иванович:
– Мельниченко… Дайте характеристику ранньої творчості Коцюбинського, та творчості Коцюбинського, от що.
– Гм… Коцюбинського я якраз не повторював, от що.
– Ага… В такому разі, дайте, от що… характеризуйте мені радянський фольклор.
Уже нельзя сказать, что этого тоже я не выучил, и я начинаю высоким стилем крутиться вокруг да около. ИИ созерцает мой дебют с улыбочкой. На одной, особо патетической ноте, я не выдерживаю, и начинаю бессовестно ржать. ИИ смеется вместе со всеми, но не обижатся, за что я его люблю.
Завтра – 1 Мая, но праздновать будем на поле вместе с долгоносиками, которых нужно уничтожить как класс силами средней школы. Последнее время… наша школа… копает, сажает, строит, рисует лозунги, прыгает в длину и высоту, бегает…
Первого Мая мы на долгоносика – злейшего врага сахарной свеклы – все же не пошли: была объявлена мобилизация старших школьников на первомайский парад. Я неизменно краснею, когда вспоминаю наш гордый видок на том параде. Дело в том, что накануне в сельпо «выбросили» неведомо какими путями попавшие в Деребчин атрибуты морской славы – тельняшки. Используя связи, удалось добыть на класс целых четыре тельняшки: Боре Стрельцу, Славке, Пете Зацепе и мне. Мы их и напялили, чтобы покрасоваться. Наше начальство, видя такую единообразную красоту, обязало нас прибыть на первомайский парад и поставило нас четверых во главе колонны. Мы гордо прошествовали, вызывая зависть всех пацанов и аборигенов, удивлявшихся морским нашествием в Деребчин. Откуда тогда нам было знать, что красовались мы в морской исподней одежде, так сказать – в нижнем белье. Хорошо, что на флоте не придумали кальсон оригинальной расцветки…
Кстати, об одежде. Наша одежда в плачевном состоянии. Современный читатель подумает сразу об устаревших фасонах, которые надо бы сменить более модными «прикидами». Все проще. Речь идет об элементарных заплатках на этом прикиде, на которые надо ставить уже заплатки следующих поколений. Конечно, заплаты оживляют внешний вид, особенно при их разноцветности, – это сейчас знает любой молодой модник (боюсь назвать течения новых модников, чтобы не перепутать и ненароком не оскорбить их). Нам тогда хотелось стать попроще и избавиться от заплаток. На базаре в Джурине мы с мамой купили серую солдатскую шинель, из тех, которые сворачиваются в колбаску, именуемую скаткой. Скатка в виде косого хомута надевается на бойца, если ему жарко. Когда похолодает, – колбаска превращается в верхнюю одежду, очень напоминающую пальто. Если очень захочется спать на сырой земле, то одна половина бывшего пальто превращается в матрац с простынями, а вторая – в одеяло с пододеяльником. Такую замечательную вещь мы отдали сельскому умельцу. Через некоторое время обратно мы получили уже офицерскую шинель, которая начисто была лишена гуманных свойств родительницы. Жесткие наплечники и лацканы не позволяли свернуть ее в податливую скатку, тем более превратить в спальные принадлежности. Но на ней сияли пуговицы со звездами, и в ней можно было красоваться! Портной слегка промахнулся: мои плечи в шинель входили с трудом. Спец успокоил маму, заявив, что такие плечи любую шинель приведут в чувство.
Еще зимой мама явила настоящее чудо. При стечении толп народа в лице Тамилы и меня, она добыла сверток, развернула его, и мы дружно ахнули. Это был отрез прекрасной довоенной темно-серой шерстяной ткани. Мама всплакнула, сказала нам, что перед самой войной они хотели пошить папе костюм. Не пришлось. И вот теперь она дарит отрез мне, чтобы я был «не гірший, як люди».
Каким чудом мама могла сохранить этот отрез почти 10 лет, не продав его, не выменяв на продукты, когда нам приходилось совсем туго? Это был драгоценный дар от родителей… Портного мы выбирали очень тщательно. Костюм получился на славу. Впервые на выпуске я почувствовал себя полным «comme il faut». Костюм был моим парадным все годы учебы в институте…
Чуть раньше, в апреле, получил в военкомате приписное свидетельство: «подлежит призыву в очередном 1949 году». Запись в дневнике: «Есть возможность пойти в военные училища, но поступать в летное – большой риск, другие – не прельщают. Придется, все-таки, идти в институт».
20 мая начинаются выпускные экзамены. Первый – сочинение по украинской литературе. «Болит голова. Взялся за первую тему– вижу, что мало ее знаю. Начал работать над второй (Шевченко), написал страницу черновика, но обнаружил, что пишу идиотским стилем, и не могу вспомнить ни одной цитаты из хорошо знакомых стихов. Оставил все и взялся писать третью тему: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь». Все писали вторую тему. В итоге: напутал, отвлекся от основной темы, вообще «писал, как публицист» (?), как сказал Редько».
За сочинение я получил 4, ни одной пятерки не было. Для Ц. Фаберман это трагедия, для меня – раскрепощение. Дело в том, что непременное условие получение медали, даже серебряной, – отличная оценка по родному языку. (Ну, для меня он родной, действительно, но Циле-то могли бы сделать скидку!)
Экзаменов сдаем уйму, впрочем, – без особого напряжения. Украинский устный, алгебру, где я оказался в гордом одиночестве, устную алгебру, геометрию, немецкий язык, русский сочинение и устный, что-то еще, – всего 13 экзаменов. Каким-то образом мне удалось сдать все на 5. Педсовет тогда возвратился к моей украинской письменной работе. Теперь им мой стиль понравился больше, и мне решили поставить 5. У Цили завал: 4 по алгебре и по русскому сочинению, медаль отпадает. У меня появляется шанс убить медведя и поступить, куда хочу, без экзаменов. Дальше цитаты из дневника.
«Был выпуск, была пьянка. … Аттестат задержали до 12 июля: область срезала один балл по украинской (литературе) вместе с медалью. На выпуске учителя (главное – Редько) знали, что никакой медали нет, но зачитывали … что нет, мол, результатов из Винницы. … они были известны, правда – неофициально.»
Дальше я качу бочку на Редько, мол, это его козни. Наверное, я был не прав: ему тоже хотелось иметь в первом выпуске хоть одного медалиста для поднятия престижа школы; возможно, он даже боролся за это и надеялся до последнего. Гораздо позже я узнал о существовании лимита на медали. Конечно, общеизвестно, как распределяется лимит, спущенный сверху. В целом, никакой неожиданности не было, появилась на минутку надежда, которая оказалась ложной, – вот и все. Чистая психология, так сказать, – контрастный моральный душ. Надо было решать, что дальше делать.
На семейном совете думали и гадали – мама, Тамила и я. О жутких конкурсах ходили жуткие слухи. Я твердо не хотел идти ни в пед, ни в мед. Авиационные училища – огромный конкурс, плюс опасения за анкету. Обычные «балетно-пехотные» прельщали не очень, но я понимал, что там я буду «одет-обут-накормлен». Чаша весов резко качнулась в военную сторону. Неожиданно мне попадается на глаза газета с объявлением о наборе студентов на 1-й курс Криворожского горно-рудного института. Высокая стипендия, бесплатное форменное обмундирование и общежитие, еще куча каких-то льгот. Судя по их количеству, – конкурса там вообще не бывает. То, что надо! Решено: иду в горные инженеры! Семейный совет утверждает решение. Начинаю собирать в кучу все документы, чтобы отправить завтра все в Кривой Рог. Большинство ребят пока на распутье. Объявляю им о своем решении: я определился. Первый поморщился Алик Спивак:
– Да ты что? Уж если тонуть, то на глубоком месте! Поехали в КПИ!
– А что такое «КПИ»? Почему не знаю? – передразнил я Василия Ивановича.
Алик воззрился на меня как на папуаса, прибывшего из джунглей.
– Это же знаменитый Политехнический в Киеве! А объявлений о наборе он никогда не публикует, о нем и так все знают. Это же Киев, а не задолбанный Кривой Рог!
– Ну, конечно: в столице можно булькнуть очень-очень глубоко! – возразил я, вспоминая довоенный «писательский» отлуп и поездку из Киева с пьяными десантниками в 1944 году. – Да мне там и приткнуться негде.
Но Алика уже понесло. Может быть, он вспомнил, что списывать можно и в институте, а может серьезно захотел меня вытащить из железорудных шахт.