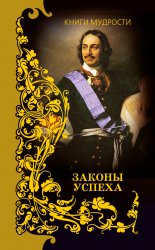Еще вчера. Часть первая. Я – инженер Мельниченко Николай

– Поедем туда заводской машиной. В Киеве у меня живет дядя, так что ночлег нам всегда обеспечен.
Его доводы меня сразили. Я оставил мечты о подземных норах, где добывают столь нужные стране полезные ископаемые, и ринулся с Аликом тонуть в глубоком месте. Мама, узнав об изменении согласованного решения, только покачала головой:
– Дивись, Коля, щоб гірше не було…
Я промолчал: тогда еще я не знал еврейского анекдота, в котором на угрозу «хуже будет!» отвечают: «А что может быть хуже?» – перечисляют все немыслимые беды в поезде, а кончают: «И вообще мы не в ту сторону едем».
Не могу не рассказать о событиях перед выпускным вечером, которые (это я понял гораздо позже) наложили неизгладимый отпечаток неудачника на всю мою дальнейшую жизнь, – по крайней мере, – в одном вопросе. Мы с ребятами озаботились, чем украсить наш выпускной вечер? Кажется, Славке пришла в голову идея наловить рыбы в колхозном пруду села Арыставка.
Сказано – сделано. Добыта сеть, – гибрид волейбольной сетки и подвесного шезлонга с деревянными поперечинами на краях. В ближайшую ночь мы втроем отправляемся к пруду. Он охраняется сторожем с берданкой, который иногда даже по ночам наведывается к колхозным богатствам: там подрастают зеркальные карпы.
Луны нет, темно, только в воде отражается более светлое небо. Раздеваемся вдвоем с Борисом Стрельцом и лезем с сетью в воду. Славка на берегу – «на стреме». Глубина пруда – по плечи. Натягиваем сетку под водой и начинаем медленное движение, процеживая глубину вод сквозь сетку. Ощущаем несколько несильных толчков. Поднимаем сетку над водой. В ней, как в гамаке, бьются три огромных карпа! Пока неумело вытягиваем их из сетки, – один уходит в родную стихию. Доставляем их на берег, где Славка прыгает от нетерпения: «Я, я пойду», – шепчет он, но мы не реагируем и продолжаем таскать огромных карпов. Их уже больше десятка. Славка прыгает на берегу совсем остервенело. Я сдаюсь, и заменяю его на посту. Моя зона повышенного внимания – гряда на другом берегу пруда со стороны села. На фоне светлого неба я сразу бы увидел приближающуюся опасность – сторожа с берданкой. Рыба прибывает, опасность – пока нет. Внезапно я слышу шелест листьев кустарника и шаги совершенно с другой стороны – с темной низины справа. На мой тихий свист об опасности Борис и Славка не реагируют: чтобы не терять времени, они взяли с собой мешок для рыбы, и увлеченно бороздят воды уже далековато от берега. Почему сторож идет с другой стороны? Если подойдет сюда – мы пропали. Я поднимаюсь и громко топаю в темноту навстречу шагам. Мои намерения – отвести подальше сторожа от нашей базы, чтобы ребята услыхали и успели вынуть себя из пруда и собрать одежду и «улики».
Противник останавливается, его шагов больше не слышно, но я продолжаю двигаться вперед. Внезапно я слышу такой шум, что понимаю: мой «сторож» улепетывает от меня со всех ног. С облегчением возвращаюсь на свой пост; рыбаки и не заметили опасности. Преступная рыбалка благополучно заканчивается. На выпускном вечере жареный карп был коронным блюдом.
Увы, каждая медаль имеет две стороны: рыбий бог отомстил мне. За всю жизнь мне не удалось поймать больше ни одной рыбешки, даже захудалого пескаря. Впервые проказы рыбьего бога я почувствовал в Виннице. Я гостил у дяди Антона; к тому времени он переехал в Винницу, работал на ТЭЦ и жил в доме на берегу Буга. Его приемный сын Виктор сидел с удочкой и непрерывно выдергивал мелких рыбешек, тьма которых клубилась возле теплых стоков электростанции. Я взял у него удочку, наживил червячка и опустил снаряд в гущу стаи. Ничего не происходило, поплавок стоял как вкопанный. Виктор заинтересовался этим безобразием, решил, что это влияние запаха табака на моих руках. Он самолично сменил червяка на крючке, – все осталось по-прежнему. Виктор взял удочку в свои руки, немедленно начался прямо-таки бешеный клев. Когда удочка переходила в мои руки, – все сразу прекращалось: ни одной рыбки я не смог выудить.
Я был свидетелем нескольких небывалых рыбалок мастеров в Латвии и на Новой Земле; возможно, мне удастся рассказать о них. Но на мои собственные крючки ни одна рыбка не попалась. С годами я понял, что это просто месть рыбьего бога за незаконный лов карпов в колхозном пруду. Еще я понял, что раки этому богу не подчиняются: добыча раков у меня всегда проходила успешно. Хорошо также, что рыбный приговор не распространяется на потомков: Сережа – умелый и удачливый рыбак.
10. Киев
То ль дело Киев! Что за край!
Валятся сами в рот галушки…
(из оперы)
Прощай, Київ, торбу – виїв!
(из оперетты)
Опять выбор. Сплошные моменты истины
Иные настойчиво утверждают, что жизнь каждого записана в книге Бытия.
(К. П. № 148)
14 июля 1949 года вместе с Аликом Спиваком мы прибыли в столицу Советской Украины. Заводская машина, увы, довезла нас только до Рахнов. Еще в поезде Алик начал рассказывать мне, какая у дяди маленькая комната и как ему, Алику, даже одному, будет тяжело стеснять дядю и тетю. Я, конечно, со всем соглашался, очень сочувствовал бедным родственникам и радовался, что у них такой заботливый племянник. О прежних планах освоения Киева под дядиным крылом и речи быть не могло. Закаленный одесскими ночевками, я не унывал. Расстались мы на вокзале; Алик двинулся к родичам, я начал осваивать Киев.
Сияющий внутри и серый снаружи трезубец вокзала мало напоминал груду развалин 1944 года. Только в правом крыле еще что-то строили. В сиреневой дымке идущей вниз улицы виднелась громада незнакомого города. Путем опроса аборигенов (планы и карты городов, по-видимому, тогда были строго засекречены), я сел на трамвай и двинулся на Брест-Литовское шоссе, 39 – это был официальный адрес КПИ. Остановка трамвая так и называлась. Ехали недолго, жадно вглядываюсь в незнакомый, очень зеленый и чистый город. Вышел, увидел вывеску «Зоопарк». Быстренько сообразил, что мне туда не надо. С противоположной стороны был лес. Пригляделся, обнаружил неширокие ворота в ограде и снующую молодежь. Двинулся следом.
Вскоре перед глазами во всем великолепии предстал розовато-желтый огромный главный корпус КПИ со всеми необходимыми, отлитыми в металле, лейблами на парадном входе. В широченных коридорах первого этажа, с огромными окнами во двор, роилась молодежь, деловито проталкивались лица постарше. Народ с испуганными лицами (абитуриенты – таков наш официальный статус) кучковался и что-то записывал возле больших, красочно оформленных щитов: каждый из 10 факультетов имел свой отдельный «сайт», как сказали бы теперь.
Я вынул ручку, блокнот и присоединился к сонму испуганных, жадно поглощая информацию со щитов. Мне предстояло решить маленький вопросик, который, по Маяковскому, дети решают в дошкольном возрасте: кем быть?
Факультеты инженерно-педагогический, два химических, сварочный и еще какие-то были мной отвергнуты сразу. Химию и педагогику я не любил, о сварочном я подумал вопросом, который потом мне часто задавали люди, слывшие умными: «Ну есть на заводе сварщик Вася Стопа. Он варит. А зачем ему еще инженер?». Забегая вперед, скажу, что среди студентов в ходу была пословица: «Курица – не птица, баба – не человек, сварщик – не инженер». Не зря там платят повышенную стипендию… (Кстати, сам Вася Стопа, гигант с глазами небесной синевы, потом жадно расспрашивал меня, студента, о загадках нашей профессии, которые он не мог объяснить самостоятельно).
Возле щита горного факультета я долго крутился в тяжелых раздумьях мышки, видящей сыр, но помнящей о мышеловке. Высокая стипендия, блестящая форма с золотыми эполетами, не хуже морской, от которой блондинки падают налево, а брюнетки – наоборот. Но мне, светолюбивому юноше, мечтавшему о небе, как-то перестали нравиться темные подземные норы.
Сосредоточился я на инженерно-физическом, радио, механическом и электротехническом факультетах. Записал из щитов желаемые группы: внутри факультетов была еще более узкая специализация. Над этими записками еще можно было думать примерно половину суток. В 10 утра следующего дня мы встречаемся с Аликом, подаем документы, я возвращаюсь в Деребчин.
Еще часик я погулял по институту, поражаясь его размерами, обилию кафедр и лабораторий, одни названия которых вселяли ужас своей научной таинственностью. Это и было то глубокое место, где мне предстояло утонуть.
Надо было провести где-то уйму времени, в том числе – ночь. Я двинулся в город, прошел пешком от Евбаза почти весь бульвар Шевченко. Завернул к Оперному театру. Там московский театр имени Моссовета давал спектакль «Свадьба Кречинского». Узнав, что самый дешевый билет стоит 6 рублей, я нанес глубокую рану своему бюджету и взял его. Приобщение к искусству было ценным не столько само по себе, сколько возможностью скоротать длинные вечерние часы в чужом городе. По Прорезной спустился на Крещатик. Часть домов на окружающих улицах была еще в развалинах, некоторые отстраивались. Зелень и высаженные везде клумбы и цветы делали город уютным и красивым. По Крещатику фланировали хорошо одетые, беззаботные толпы молодого народа, которые просто гуляли и никуда не спешили. Я влился в их ряды, оставаясь одиноким. Хотелось есть, но после безумных затрат на искусство, я мог себе позволить только газированную воду без сиропа. Тележки с водой стояли через каждые 20 метров. Стеклянные цилиндры с делениями, указывающие объем вливаемого в стакан сиропа, были закреплены на тележке, на каждом виде сиропа была своя цена. Продавщица вежливо спрашивала: «Вам с сиропом – да, или с сиропом – без?». Стакан «с сиропом – без» стоил 3 копейки, с «одним сиропом» – 30–40, с двойным – безумное расточительство, – в два раза дороже. Я несколько раз сэкономил на сиропе и решил часть средств направить на собственное тестирование – оно стоило 20 копеек. Так же часто, как водопои, на Крещатике стояли медицинские весы с измерителями силы кисти. Я вывалил 20 копеек только за силомер. Без особых усилий сжал его до конца шкалы – 90 кг и дальше, рискуя сломать. Женщина у весов с уважением посмотрела на меня и вернула 20 копеек. Не понимая ее действий, я вопросительно уставился на нее. «Мы не берем деньги с тех, кто выжимает больше 80 килограмм», – объяснила она. Тогда слабой левой рукой я тоже бесплатно выжал 90 кг и двинулся дальше. С садистским удовольствием, не минуя ни одной силомерной точки на Крещатике, я вынимал 20 копеек, зашкаливал силомер, показывал его служительнице у весов, прятал монету и гордо шествовал дальше.
У самой площади Сталина я наткнулся еще на один испытательный тест, возле которого толпилась группа мужиков. Здесь испытания стоили уже 50 копеек. Резиновым молотом надо было ударять по наковальне. Вверх по высокой рейке с делениями взлетала стрелка, которая показывала силу удара. До «бесплатного уровня» в верхней части рейки только приближались некоторые. Они требовали еще попыток. Рубли в кассу шли потоком, многие платили сразу за два удара. Ставка для меня была слишком серьезной, и я начал приглядываться, почему у них не получается. За моими плечами были колхозные снопы-мешки, опыт молотобойца у Миши Беспятко и наука бригадиров завода. Здесь удар у всех мужиков был очень коротким, – молот отлетал от массивной наковальни. Удар был и слишком слабым: одну руку на рукоятке они держали слишком близко к молоту (мой бригадир, бывало, говаривал: «задушишь молоток»). Кроме того, в ударе участвовали только руки, корпус «битоков» оставался почти неподвижным. Учтя все это, я отдал «крупье» полтинник, поплевал на ладони и взялся за молот с надеждой вернуть кровные. Умная стрелка превысила барьер оплаты, вылетела за пределы рейки и не хотела возвращаться. Служитель, чертыхаясь, начал исправлять механизм, но восхищенные поломкой болельщики потребовали сначала вернуть мне деньги.
До начала культурных развлечений оставалась еще уйма времени. Чтобы не утомлять себя зрелищами и запахами съедобного и заодно приобщиться к истории, я отправился к памятнику Крестителю Руси на Владимирской горке. В тени деревьев возле памятника присел на удобной скамейке. Мое внимание привлек белый предмет в развилке дерева. Поднялся, подошел к нему. Завернутый в газету предмет оказался большим белым батоном, разрезанным на две ковриги, между которых желтел толстый слой сливочного масла. Не мешкая, я приступил к столь желанной трапезе. Само Провидение помогало мне. Я обнаглел и почувствовал, что все будет хорошо.
Во время антракта зрители галерки в театре Оперы выходят прямо на крышу вестибюля, чтобы покурить и полюбоваться с высоты огнями города. К симпатичному пареньку из небольшой группы я обратился с расспросами о самом длинном трамвайном маршруте в Киеве, намереваясь коротать там ночь. Ребята оказались из строительного техникума. Их общежитие было полупустым: многие уехали на практику. Уяснив смысл моих трамвайных вопросов, они взяли меня с собой, и ночь я провел более чем комфортно. (Позже я нашел этих ребят, и мы задним числом, но весьма достойно, отметили мою первую ночь в Киеве). Полоса везения все еще меня везла.
На следующий день все произошло почти по намеченному плану. Я решил пройтись еще раз возле щитов избранных факультетов, чтобы окончательно решить: кем стать (если поступлю, конечно). В ряду щитов третьим висел щит сварочного факультета. В центре экспозиции была непонятная громоздкая машина на маленьких колесиках. На двух круглых дисках над приземистым корпусом была натыкана уйма приборов и кнопок. Я остановился. Внимательно прочитал все на щите. И решительно вывел в заявлении недостающее название факультета «сварочный». Больше я никуда не ходил и ничего не смотрел.
Алик разочарованно присвистнул: он думал, что мы будем сдавать экзамены вместе. Они с дядей из каких-то стратегических, далеко идущих соображений, нацелились на механический факультет. К счастью, я не наслаждался комфортом дядиного жилища, поэтому ни малейших угрызений совести у меня не было: я никому ничего не был должен.
Позже я задавал себе вопрос: почему вопреки всему выбрал сварочный факультет? Ведь «до тогО» я ничего не знал о сварке и из великого множества сварок видел только ручную дуговую, и то издали, в виде мерцающей ослепительной точки. Неужели меня прельстил вид «чуда техники» на стенде? Позже я узнал, что эта тяжеленная химера, с не показанными на снимке двумя большими шкафами управления, набитыми хитрыми устройствами, – сварочный трактор (автомат) АДС – 1000, пригодный только для лабораторий и показухи. В промышленности «пахали» патоновские малыши всего с пятью кнопками управления – легкие, простые и надежные. Но за их простотой стояла глубокая теория, описанная десятками дифференциальных уравнений.
Ни разу в жизни я не пожалел о своем выборе. Если у меня хватит сил, – в конце своей биографии, я напишу оду профессии инженера-сварщика. Она требует широкого кругозора и глубоких знаний в очень далеких друг от друга областях. «Оптимизмом невежества» в сварке осенены тысячи и тысячи катастроф и аварий с гибелью людей. Моя профессия заставляет непрерывно учиться. Учиться и знать, чтобы принимать решения, часто – очень важные для будущего…
Дальше я начал было писать возвышенным слогом некую чушь, величавую и патетическую. Грешен: очень хотел спать. На утреннюю голову, слава Богу, вспомнил великого Кузьму: «Специалист подобен флюсу: его полнота односторонняя». По предыдущим строкам можно понять, что специалист-сварщик должен быть утыкан флюсами со всех сторон, как «рогатая» морская мина взрывателями. В теории – так оно и есть. Но: многая знания – многая печали. В жизни чаще бывает, что даже маленький флюсик специалиста, выросший при срочном составлении шпаргалок перед экзаменом, – в дальнейшем бесследно рассасывается, не доставляя его обладателю никаких неудобств и печалей…
Отдал заявление и документы в приемную комиссию института, получил вызов на экзамены на конец июля. Задачи первого посещения были выполнены, надо было возвращаться. Алик оставался в Киеве, – с его ресурсами можно было расслабляться и в столице. Я же просто походил по этой столице, коротая время до одесского поезда.
На вокзале меня ожидал сюрприз: билетов не было. Памятуя, что я в полосе везения, прорвался на перрон. Успел уговорить симпатичную проводницу взять меня «за так». Она согласилась, с тем чтобы в Фастове я взял билет и чтобы не напоролся на контролеров. Я из окна тамбура скромно созерцал родные просторы, когда запахло опасностью: надвигались ревизоры. Мой ищущий взор упал на дверцу с табличкой «Отопление». Удалось открыть ее, – там был котелок, опутанный трубами. На всей технике лежал сантиметровый слой грязи и пыли, Я вписался в свободное пространство, не касаясь «мебели», и задвинул за собой дверь, поглядывая в тамбур через дырочки вентиляции. Выйти в Фастове за билетом я не мог: бригадир контролеров стоял прямо у моей дверцы. Я даже отвел глаза, чтобы он не почувствовал мой взгляд. Поезд все шел, я теперь мечтал так доехать до Рахнов. Однако перед Жмеринкой меня обнаружили. «Открой, выходи!» – потребовал контролер. «Возьмешь билет и заплатишь штраф!». «Ну, тогда мы это сделаем в Одессе!» – обнаглел я, не позволяя открыть дверь. Поезд подошел к Жмеринке. «Уходи, чтоб я тебя не видел!» – завопил контролер. Вдвоем мы еле открыли неподатливую дверь, причем только потому, что контролер следовал моим советам, где нажимать. С достоинством я вышел на жмеринский перрон. Руки были в мазуте, но на моем драгоценном костюме не было ни пылинки. Я сэкономил уйму денег и имел моральное право на сатисфакцию за часы, проведенные в позе статуи. Кажется, впервые в жизни я отведал настоящего твердого сыра и запивал его настоящим «Жигулевским» из бочки. Дальнейшая поездка до Рахнов на «пятьсот-веселом» не была экстремальной, и вскоре я уже был дома.
Чистилище
– Девушки – направо, женщины – налево!
– А мне куда? Я девушка легкого поведения!
– В президиум!!!
(быль времен Фурцевой)
Приехавшим на экзамены иногородним абитуриентам институт предоставлял общежитие. Это было очень здорово, иначе Киев был бы наводнен толпами молодых бомжей. В нашей комнате – четверо из разных факультетов; двоим или троим по статистике – суждено вылететь. Конкурс на сварочном – один из самых низких, всего 3,5 человека на место. На некоторых других, например, инженерно-физическом и радио – более 10-ти. Но страха и уныния нет. Живем весело, травим анекдоты, варим чай кипятильником ивановской конструкции, которую мне удалось соорудить «в металле» почти без инструментов.
За время экзаменов посетил зоопарк, выставку трофейного оружия, Печерскую Лавру, многие киевские улицы и парки. В Лавре вывел из равновесия монаха вопросом, почему мощи святых такие короткие? Монах долго бурчал на тему «не наше это дело, главное, что люди эти святые», затем не выдержал и объяснил по-человечески: «Доживешь до их лет, еще короче будешь!». (На восьмом десятке лет я понимаю: монах прав). В пещерах, где раньше было электрическое освещение, – темно, все покупают очень дорогие свечки. Пришлось украсть два огарка. Надеюсь, мои грехи будут списаны: при большом стечении народа четверть часа громко и «с выражением» читал историю Лавр.
У Алика Спивака крушение. Его вышибли за шпаргалку на первом же экзамене. В память о нем остались его запасы сала и сахара, что несколько смягчает горечь потери. По слухам, он пытался «устроиться» в другие институты, но, в конце концов, оказался в Одесском мукомольном. По этому поводу Толя Размысловский (он вернулся в Киев из практики, мы часто встречаемся) сочинил стихи:
Мукомольный институт —
Вот где лодырей берут.
Но чтоб сдать туда экзамен,
Надо ехать вместе с мамой и т. д.
У меня дела более-менее успешны, хотя и не блестящи, как могли бы быть. Первый экзамен был письменная работа по математике. Сдавали в Большой химической аудитории около 200 человек. Задачи были пустяковые, я их решил, проверил, записал ответы для повторной проверки. Дальше делать было нечего и, хотя все еще сидели, я пошел сдавать работу. Институтский математик профессор Горделадзе надел пенсне и вопросительно уставил на меня бородку клинышком: он подумал, что я не сдаю, а сдаюсь. Однако, пробежав работу, успокоился, спросил, не из 29-й ли я школы. Когда узнал, что я «из глубинки», – даже растрогался и пожелал мне дальнейших успехов. Сверив ответы на задачи, я был вполне уверен, что получу пятерку. Моя самоуверенность была жестоко наказана: в ведомости против моей фамилии стояло 4.
– Почему? Ведь я не сделал ошибок? – перехватил я профессора в коридоре.
– Наверное, ошибка была несущественной, возможно – грамматическая, – ответил профессор. – За большие ошибки мы не ставим четверок.
По инерции четверку поставили и на устном экзамене по математике. Таким образом, совершенно по-глупому я потерял два балла на самых простых для себя предметах. Надо было сосредоточиться. На сочинении по русскому я озверел и выбрал тему «Безумству храбрых поем мы песню». Другие темы лучше было писать, имея под руками первоисточники, чтобы оттуда дергать нужные цитаты. А здесь можно было писать, что хочешь.
Наглость была неожиданно вознаграждена: я получил 5. На устном экзамене сначала все шло тоже очень хорошо. Основной вопрос: ранний романтизм Горького. Эти вещи Горького я знал и любил, поэтому разливался соловьем. Чтобы заткнуть мой фонтан, экзаменатор(ша?) спросила:
– Как зовут цыгана в рассказе «Макар Чудра»?.
Я этого подлого цыгана знал очень хорошо, но почему-то именно сейчас его имя вылетело из головы и не хотело туда возвращаться. Женщина покачала головой, дескать, треплешься, а первоисточников не читаешь, и поставила мне четверку в экзаменационный лист и свою ведомость. Не дойдя до двери, я обернулся к ней: «Лойко Зобар!». Женщина с сожалением развела руками, – дескать «дело сделано, его ничем не исправить, и это единственное утешение, – как говорят в Турции, когда отрубят голову не тому, кому следует».
На физике я мог элементарно утонуть, если бы поддался панике. По тепловым задачам я не знал ничего, то есть – вообще ничего. Мы (а может только – я) этого не проходили. Из условий задачи и размерности данных я понял, что есть такое понятие «теплоемкость». Интуитивно, дедуктивно, – черт знает как, составил уравнение и решил задачу. Преподаватель удивился, что обозначения в формуле написаны совсем другими буквами, а не общепринятыми. Я сослался на старого учителя, который нас так учил.
Чтобы вывести формулу сферического зеркала, мне пришлось сначала вывести и доказать для себя теорему по геометрии. И, все-таки, – не стыковалось. Ключевое слово мне подкинул сосед – Виталий Колиснык, наш будущий факультетский оригинал. Это было слово «приблизительно». Тогда все стало ясно, формула «вывелась» на белый свет. Получил четверку, только за то, что долго готовился. Последний экзамен – немецкий, – тоже сдал на 4: это было очень крупное личное достижение в лингвистике.
Официальные списки зачисленных на первый курс будут вывешены только 25 августа. Судя по количеству сгоревших на вступительных экзаменах, – можно считать, что я прошел, причем – со стипендией. В деканате абитуриентов опекает мама родная для всех студентов – секретарь факультета Нина Ивановна Ткаченко, она каждому уже все объяснила.
Стипендия у нас, сварщиков, большая: 395 рублей на первом курсе, 500 – на последнем, отличникам – плюс 25 %, но ежели у тебя есть тройка, хотя бы одна, – извини-подвинься… Сумма стипендии – очень приличная: за месяц первокурсник может на стипендию купить и съесть 840 кг ливерной колбасы по 47 копеек за килограмм, что составляет около 700 метров, то есть по 23 метра на день! Такую уйму колбасы потребить невозможно, поэтому, ограничив колбасу, можно покупать еще кефир, хлеб, сахар, чай; каждый день обедать в столовой, платить 15 рублей за общежитие, ходить в баню и кино, покупать чертежную бумагу, тетради, карандаши «Кохинор», тушь и всякую мелочевку, отдавать в стирку белье – короче, жить! Главное: у меня есть такая стипендия и мне, среди немногих первокурсников, дали общежитие!
У Бори Стрельца и Славки Яковлева дела похуже. Они поступали в гидромелиоративный институт. Оба получили по двойке на математике. У Бориса есть шанс еще пересдать, а Славка перешел в Горный техникум. Живут они в снимаемой за большие деньги клетушке на задворках Киева – Батыевой Горе. Боря Погонец вполне нормально сдает в институт инженеров ГВФ. Непонятно где, но в Киеве, крутится Зоя Полуэктова. Условились встретиться первого сентября на Крещатике.
Унылый взгляд из прошлого в настоящее. Сейчас, чтобы учиться даже в приличной средней школе, надо платить и платить. Чтобы заниматься на платном отделении престижного вуза, кроме огромной платы за обучение, надо еще заплатить кое-кому неподъемные суммы. Как пробьются к вершинам знаний будущие Ньютоны, Ломоносовы, Менделеевы, умные инженеры, врачи, учителя, если они живут в глубинке и у них нет богатых родителей или спонсоров? Бывшее обязательным тогда среднее образование стало сейчас уже фактически платным. Бесплатное – хуже некуда. Приходят к точным и умным машинам, к оружию небывалой мощи, молодые люди, не умеющие не только думать, но и читать. Что будет с державой, в которой знания доступны только тому, чьи родители могут платить?
Современный родитель не может сказать: «Вчися, синку, дуже добре, та читай багато, бо ти дурнем останешся, а я – твоїм татом!», потому, что продвинутый сын сразу же ответит: «Деньги давай!». Если бы тогда все было, как теперь, – пас бы я коров в колхозе. Правда, сыну, возможно, удалось бы выучиться на шофера. Зато – на свежем воздухе. Ну, а самогонный аппарат мы вдвоем все равно бы сделали самый лучший, и самогон у нас всегда был бы свой…
В райских кущах. Общежитие
И общежитие наше – не пристань, а море,
Где плавали мы, молодые дельфины.
Как и условились, все деребчинские киевляне встретились 1 сентября. В общем, кроме Алика Спивака, все поступили, правда, Славка не туда, куда хотел. Зойка темнит: на собственном жакете пришиты непонятные петлички. В общежитиях живем только я и Толя Размысловский. Ну, он человек полувоенный – железнодорожный машинист, а мне просто повезло. Очень скоро я пойму, что студенческое общежитие, это не только помещение, в котором живут и спят. Мне не нравится, когда несведущие люди презрительно произносят «общага», имея в виду нечто темное и пьяное. Не то и: «общежитие – пристань моя путевая». Дескать, притомился человек в жизненном море, причалил к пристани – передохнуть. Мое общежитие – это непрерывно живущий улей, где, как было раньше в Греции, а сейчас в Интернете: есть все.
В обычное время общежитие является неким санаторием, где все отдыхающие очень весело проводят свой отдых. Для многих, правда, это отдых с любимым хобби. Кто-то запоем читает книги, другие носятся по Киеву, кинотеатрам, выставкам, концертам. Вечерние киносеансы в открытых зеленых театрах стоят копейки, многие концерты вообще бесплатны. Кто-то бегает на стадионе или качает мускулы в спортзалах. Во многих комнатах общежитий включены паяльники, и целая армия радиолюбителей корпит над замысловатыми схемами. Стипендии запросто оставляются на киевской толкучке, где можно купить все – от редкой трофейной радиолампы, до супермощного динамика. Мелочевкой – конденсаторами и резисторами (тогда говорили – сопротивлениями) радиолюбители просто обмениваются: у каждого их не меряно. С красными глазами ходят фотолюбители: ночи напролет они колдуют над фотографиями. К утру окна их комнат напоминают фотовыставку ТАСС: на оконных стеклах глянцуется все, произведенное ночью.
В выходные и по праздникам в общежитии танцы, концерты и т. п. Умолкают маленькие «радиОлыки» в окнах радиолюбителей, звучит музыка одна для всего общежития, в бывшей рабочей комнате и на этажных верандах кружатся пары.
Учебных заданий очень много. Многие добросовестно посвящают им все свое время, большинство – время свободное от других занятий. Некоторые, с прозорливостью страуса, зарывающего при опасности голову в песок, – откладывают все «на потом».
Вот приближается зачетная и экзаменационная сессии. Мое общежитие плавно переходит в режим круглосуточного улья, где трудолюбивые пчелки берут свои взяткИ (не путать со взЯтками!) где только могут: из книг, из своих и чужих конспектов, из консультаций преподавателей и друзей. Эти взяткИ, этот мед откладываются непосредственно в сером веществе, часто – в хитроумных шпаргалках. Собственноручно составленной, короткой и ясной шпаргалке надо бы воспеть оду: ее владелец постиг материал. Чужая шпаргалка – это тяжеленный спасательный круг. Очень возможно, что спасаемый утонет прежде, чем разберется что к чему, и камнем на шее будет именно чужая шпаргалка.
После сессии общежитие расслаивается согласно полученным оценкам. Успешные наверстывают упущенные радости, неудачники – продолжают учиться, посыпая свою голову пеплом сожалений. Некоторым приходится расставаться с «альма-матер».
Наша комната в общежитии
В общежитии мне еще раз везет. Поселяют меня четвертым в комнату к трем ребятам из второго курса. Миша Дрыга самый старший, мускулистый брюнет из города Поти, женатый. Он деловит, собран, замкнут. У него какие-то сложные взаимоотношения с женой, о которых он не распространяется. Учеба ему дается нелегко, он очень много работает. Коля Кайдаш – наш хлопец из Полтавской губернии. Родственники и знакомые без конца передают ему посылки и посылочки с продуктами, которыми он слегка делится и с нами. Сам Коля, невысокий и кругленький, весьма озабочен прореживанием остатков своей шевелюры. В борьбе с облысением он применяет всякие снадобья и примочки, что для нас – неистощимый материал для подначек. Коля смеется вместе с нами, хотя ему совсем не смешно: ранняя лысина для него – крушение каких-то надежд. Третий в нашей комнате – Цезарий Владимирович Шабан. Редкому имени он обязан своей польской родословной. Он – истинный сварщик во втором поколении: его отец сварщик-универсал в городке Городок Каменец-Подольской области. Очень скоро мы с ним подружились и дружим уже более полувека.
Ц.В. Шабан
Имя «Цезарий» слишком торжественно для студенческих ушей, «Цезик» – легкомысленно. Я стал его величать «Цэ Вэ», и бренд, он же – слоган, он же – партийная кличка, вполне привился не только в нашей комнате, но на целом факультете. Кстати, о партийных кличках. Серега Бережницкий, по одному ему ведомым ассоциациям (небритая борода – шкипер), присвоил мне имя «Майк», которое тоже сопровождало меня очень долго.
Характер у ЦВ соткан из противоречий. Он чрезвычайно деликатный, мягкий и добрый человек, иногда стает жестким, непримиримым и неуступчивым, когда речь идет о неких базовых принципах, которые он считает правильными и справедливыми. Он готов всех понять и простить, кроме себя. В своих действиях и возможностях он вечно сомневается: как бы не причинить неудобства кому-нибудь другому, «по Сеньке» ли ему эта шапка. Цезария посещает студентка пединститута Валя, обаятельная и подтянутая, с которой они учились вместе все школьные годы. Валя заботится о ЦВ как мать и хорошая жена одновременно: ухаживает за ним, водит его в кино и театры, «выгуливает», чтобы развеять хандру.
Перед самым выпуском ЦВ вдруг засомневался: имеет ли он моральное право связывать жизнь такой девушке, как Валя своей незавидной судьбой рядового инженера с окладом аж 880 рублей? Начал даже действия по прекращению давних отношений. Валя была в недоумении и тревоге: что случилось с ее Цезиком? Я его обругал последними словами, но ЦВ был неумолим в своей скромности, которая паче гордыни. Тогда я задал ему вопрос: а что теперь делать Вале? ЦВ был сражен. Он не мог причинить вред близким, как робот Айзека Азимова людям. Конечно, он пришел бы к такому же выводу и без меня, просто я ему обнажил суть проблемы.
Горестная вставка из далекого будущего. После распределения они уехали вдвоем в Калининград, где в любви и согласии прожили долгие годы и вырастили двоих детей. Мы иногда посещали друг друга, когда я бывал в Калининграде, а ЦВ – в Ленинграде, часто переписывались. В 2002 году Валя умерла, и мой старый друг почувствовал себя совсем потерянным и одиноким. Калининград к этому времени стал «анклавом», отделенным от России недружественными государствами; почта стала работать хуже, чем при Иване Грозном. Обеспокоенный долгим молчанием, перед Новым 2004 годом, я вызвал ЦВ на телефонный разговор, опасаясь услышать «а в ответ – тишина». К счастью, все было лучше. ЦВ потихоньку оправляется, по выходным собирает детей и внуков, готовит им угощения. Они вместе вспоминают свою ушедшую маму, бабушку, подругу. Мы проговорили 20 минут. Письмо, которое ЦВ отправил мне за несколько дней до разговора идет уже второй месяц…
Это все будет потом. Надо вернуться в 1949 год. Конечно, мне повезло с соседями по комнате. Они уже учились второй год, знали всех и все. Теперь соседи наперебой обучали желторотого первокурсника, стараясь уберечь его от синяков и шишек, которых сами достаточно нахватали на первом курсе. Постепенно я знакомлюсь со многими ребятами из второго и старших курсов. Среди них много ярких неординарных личностей. Миша Терех – инвалид войны с изуродованной кистью, язвительный и желчный. Миша – непревзойденный художник-карикатурист. Благодаря ему, возле стенгазет нашего факультета вечно толпится ржущая толпа. Свежих стенгазет ожидают как праздника. У входа в общежитие висит обычная школьная доска, на которой цветными мелками нарисованы животрепещущие сцены из нашей жизни. Один раз героем этой доски побывал и я – за «трансляцию» песен Петра Лещенко. В красках и лицах была изображена тема песен «Маша чай мне наливает, взор ее так много обещает…» и «Дуня, люблю твои блины… твоих блинов съесть много я берусь…».
Другой «хохмач» – длинный Вовочка Нестеришин. Он жил в комнате с одним албанцем, – тогда мы очень дружили с Албанией: нам была нужна база в Средиземном море. Вовочка с албанцем подсчитали, что питание будет гораздо дешевле, если закупать продукты и готовить в общежитии. Было заключено «международное» соглашение, закуплены посуда, макароны и другие продукты. Первый обед, который приготовил собственноручно сам албанец, удался на славу: за небольшие деньги нужно было ослаблять ремни на подтянутых до того животах. Дальше многообещающий проект зашел в идейный тупик: кому мыть посуду? Албанец считал, что если готовил он, то посуду должен мыть Вовочка, сам Вовочка считал наоборот. Во время длительных переговоров посуда закисла и начала издавать запахи. Соседи по комнате предъявили ультиматум. Тогда Вовочка собрал и выбросил всю посуду, и вопрос был закрыт раз и навсегда.
Местом вечернего моциона для общежитий КПИ был близлежащий парк имени Пушкина, где у входа был большой Дом культуры завода «Большевик». На главной аллее парка долго была выставка трофейных немецких «тигров», «пантер», «фердинандов», шестиствольных минометов и других смертоубийственных предметов. В тенистых боковых аллеях с довольно редкими светильниками всегда бродили толпы студентов, развлекаясь и одновременно поглощая кислород. Вокруг Вовочки – высокого, импозантного и шутливого, – всегда набиралась стайка девиц, жадно внимавшая его басням. Когда надо было идти спать, Вовочка неожиданно поднимал руки и по-отечески обращался к ним: «Ну, девочки, погуляли, отдохнули. Теперь – пописать, помыть ножки, и – спать!».
Как и ЦВ, Вовочка окончил институт в 1953 году и получил назначение в МВД, на какую-то засекреченную стройку. Отгуляв отпуск, он приехал в институт за путевкой и подъемными деньгами. Их ожидали со дня на день. Но в то время Никита турнул и расстрелял Берию, и все в этом ведомстве замерло. Вова жил в общежитии по милости института, но кормиться-то надо было самостоятельно. Он устроился грузчиком, как он говорил – «инженер-докером» – на киностудию имени Довженко, где в то время снимали фильм о суворовцах «Алые погоны». Его ежевечерние отчеты о кино были покрепче концертов Райкина. Снимались кадры работы юных суворовцев в колхозе. Громоздкая съемочная машина с живописным скрипом и душераздирающими подробностями разворачивалась несколько часов. Перед командой «Мотор!» успевало зайти за тучку солнце, и все останавливалось. Когда солнце выходило, оказывалось, что ведущий артист уже лыка не вяжет. Приводят его в чувство, но к этому времени солнце опять прячется. Воля режиссера поддерживает в готовности к появлению солнца всю разношерстную братию. Вот появляется солнышко, начинается съемка. Оператор, уже отсняв часть кадров, вдруг сам себе кричит «Стоп!». Зорким взглядом он замечает, что колхоз подсунул другую лошадь: на снятой в прошлых кадрах были яблоки, а эта сплошной масти. Многочисленная рать ассистентов и помощников бросается на поиски краски. Краска, наконец, найдена, начинается перекрашивание бедной скотины по противоречивым воспоминаниям. Когда несчастная лошадь раскрашена, оказывается, что солнце стоит уже так низко, что съемка вообще невозможна. Оператор требует установки дополнительных прожекторов, но выясняется, что в двигателе электрогенератора кончился бензин. У обессиленного режиссера начинается нервный срыв. Ведущий артист, пользуясь суматохой, опять надирается… Вовочка излагает хронику всех событий невозмутимым голосом летописца, таким же тоном повторяет их, когда хохот ближних слушателей мешает дальним услышать все сказанное…
Что «там» все происходит именно так, мы ни минуты не сомневаемся: многие из нас по вечерам подрабатывают в массовках на студии, расположенной совсем близко. Со Славой Щербаченко мы снимались в картине о делах добровольной пожарной дружины, изображая толпу дюжих добровольцев. Режиссер силой отворачивал наши рыла от объектива, к которому эти рыла непроизвольно тянулись, надеясь увековечить себя в кинолетописи. Рядом снимался очень морской фильм «Богатырь» идет в Марто». В павильоне была изображена часть палубной надстройки с «морской» дверью. Морские волны подавались с деревянной бочки по лотку, наспех сколоченному из горбыля. По команде режиссера запускался вентилятор и брызгалка, изображающая дождь. Главная героиня-красавица выходила из тени и пыталась открыть дверь, некто с подлым лицом пытается ей помешать, но их, борющихся у двери, накрывает морская волна. С волной были проблемы, поэтому снимался уже – надцатый дубль. Иногда бочка не успевала наполниться, и могучая морская волна напоминала обливания из ковшика младенца в ванночке. Иногда веревку, опрокидывающую наполненную бочку дергали до подхода героини, иногда после. И каждый раз опрокинутая бочка никак не хотела возвращаться назад; рабочие, чертыхаясь, лезли наверх, чтобы ее, мятежную, образумить. Время шло. У несчастной героини уже зуб на зуб не попадал: за предыдущие дубли она совсем вымокла, а «ветродуй» создавал приличный сквозняк. Лицо отрицательного персонажа стало теперь не столько противным, сколько жалким. Мы, пожарники-добровольцы, спины которых уже были увековечены, от души сочувствовали морякам в штормовом море…
Мне хорошо живется и работается в общежитии среди новых друзей. Вот что вспоминает ЦВ в письме от 31 марта 2003 года.
«… посмотрев на ваши (с Эммой – авт.) фотокарточки, я всплакнул. Со мной это в последние месяцы (после смерти Вали – авт.) случается. Очевидно, я стал старым и сентиментальным. Я долго всматривался в фото, и вот что мне пришло в голову. С возрастом меняются черты человека, его лицо, но неизменными остаются глаза и улыбка. Глядя на тебя, Коля, сразу представил нашу комнату, твое место за шкафом. Ты сосредоточенно там большими порциями глотаешь науку, затем встаешь, распрямляешь затекшие суставы и с улыбкой запеваешь тебе одному присущее: «Якби сода була, якби соду привезли, паляниць напекли б, паляниць напекли б, і в Одесу повезли». Это означало, что пришло время подумать о пище не только духовной…».
Слова про соду, которые приводит ЦВ, – фонетическая имитация широко известного довоенного танго, исполняемого певцом на неизвестном нам языке. Слова произносятся в нос, с неземным акцентом, одновременно рекомендуются пируэты с виртуальной партнершей.
С общежитиями КПИ связано пять лет насыщенной до предела жизни, и я еще не раз буду возвращаться к этой теме. Пора приняться за учебу.
Ученье – свет
Наука изощряет ум; ученье вострит память.
(К. П. № 7)
Я зачислен в группу ЗВ-10. На нашем курсе две группы: параллельная – ЗВ-11. «ЗВ» обозначает «зварювальне виробництво». Пару лет назад сварщиков выделили в отдельный факультет и увеличили набор в два раза, – стране очень нужны инженеры-сварщики. Раньше группы сварщиков в КПИ «состояли» на механическом факультете. Впрочем, и теперь все общеинженерные лекции и зачеты мы проходим вместе с механиками. В Ленинграде сварщиков «притулили» к металлургическому факультету. С таким же успехом нас могли бы причислить к электрикам, и к физикам, и к электронщикам. Рядом – Институт Электросварки имени Патона – он всем этим очень успешно занимается. Мы – многогранные, нам все сгодится, все употребится. Впрочем, все это мы поймем и почувствуем свою «элитность» через несколько лет. Сейчас мы парии по двум причинам: как первокурсники и, именно потому, что «курица – не птица, сварщик – не инженер». Правда, в нашей группе есть несколько киевлян, которые знают о факультете намного больше, и пришли сюда вполне осознанно, некоторые перешли с других факультетов.
Группа ЗВ-10
В группе выделяется Юра Яворский. Он всем все объясняет, знаком со всеми. Он самый общительный, он терпеть не может любой несправедливости. Когда возникает вопрос о выборе старосты группы, – его выбирают единогласно. Как-то мы сразу приглянулись друг другу, Юра опекает мою провинциальную «недотепанность». Например: разбивается группа на две подгруппы для практических занятий по неведомой начертательной геометрии. Юра шепчет мне:
– Иди в подгруппу Насуловича, вторую будет вести Павлов. Это настоящий зверь!
Естественно, в спокойной группе доброго Насуловича оказываются все избранные, в том числе – и я.
Первую неделю после общих лекций, проводимых в больших аудиториях для целых потоков из двух-трех факультетов, делать абсолютно нечего. Я с ребятами из общежития хожу по Киеву, по зеленым театрам, встретился с земляками. 3 сентября в Большом Зеленом театре общегородская встреча с первокурсниками. Мне и одной симпатичной девчушке поручено (кем – совершенно не помню) выступать от имени первокурсников КПИ. Впервые в жизни я у микрофона, перед двумя тысячами человек и кинокамерой. Я не унизился до чтения заготовленного текста: говорил «от души», правда, что и как, – от волнения не запомнил.
Уже на следующей неделе время ощутимо уплотняется. Появляются первые задания, которые надо выполнять. Впрочем, можно и не выполнять именно сейчас, «сей секунд», отложить до лучших времен. Только очень скоро начинаешь понимать, что лучших времен уже не будет никогда: работа увеличивается непрерывно, как снежный ком.
Невообразимую уйму времени забирает техническое черчение – знаменитый «первый лист». Позже Леня Хлавнович, наш бард, так отразит это в нашем гимне: «В нашей жизни первый лист — не особенно был чист». Первый лист – это вычерченный сначала карандашами, затем тушью, ГОСТ на машиностроительные чертежи: линии, обозначения размеров, сечения, проекции, и главное – шрифты. Приобретены в магазине на Подоле листы полуватмана. «Полный ватман» – лист с неровными краями, ужасающей толщины и такой же цены, позволяет многократно срезать лезвием ошибки. Наш полуватман позволяет это делать всего один – два раза. Карандаш можно стереть, конечно, но при этом всегда остаются грязные следы: резинки-то – ширпотребовские и мажут сами по себе. Нормально работать можно только очень дорогими чехословацкими карандашами «Кохинор», – отечественные или режут бумагу, не рисуя линии, или размазывают линию и ломаются, причем эти противоречивые качества проявляются в одном и том же карандаше. Рейсфедеры из простых готовален – не лучше. Тушь может забежать под линейку, вылиться жирной волной или вообще навеки засохнуть в щели. Конечно, многое зависит от сноровки, и помощь старших товарищей тут неоценима. Все кривые усердными первокурсниками рисуются исключительно лекалом – неким морским коньком из пластмассы. Пока выводится одна кривая, «конек» нагло размазывает предыдущую. После тщательной работы с лекалом получаются некие ломаные уродцы, глядеть на которых тошно. Переделываешь, исправляешь, сидишь над этим первым листом до двух-трех часов ночи. А время бежит, проклятый лист уже надо сдавать, стоят без движения другие срочные задания, которые тоже надо сделать к сроку, да и вообще на носу зачетная сессия. А не сдавшие зачеты – не допускаются к экзаменам – со всеми вытекающими, весьма трагическими, последствиями. Желторотый первокурсник смят, уничтожен, ему кажется, что он никогда не осилит эту работу, что он влез в хомут, который по плечу только Геркулесу…
Мне кажется, именно на этом этапе сгорают школьные медалисты, которые привыкли добывать пятерки, чрезвычайно добросовестно пережевывая мизерные школьные объемы знаний. Им просто не хватает времени на работу в прежнем стиле, они пытаются «объять необъятное», что в принципе невозможно, – учит нас мудрый Козьма Прутков.
Такой большой и все возрастающей нагрузкой нас учат работать быстро и продуктивно. На втором курсе многострадальный первый лист на спор (и, увы, – за деньги) я вычерчиваю всего за три(!) часа с высочайшим качеством. Сложный проект по деталям машин, с расчетами и двумя-тремя листами очень непростых чертежей, мы с Колей Леиным в четыре руки и две головы сдаем заказчику всего за один вечер. Увы, – тоже ради презренного металла.
На лекциях учусь конспектировать. Сначала это делал по логике: все равно ведь сидишь, давай пиши от нечего делать. Очень все понятное на лекции, через короткое время становится темным лесом, если только просто запоминать. Надо кратко и связно записать только главную мысль. Чтобы выделить главную, надо знать, какие же – не главные, то есть понимать, о чем вообще идет речь. Тех, кто пытается записать просто стенограмму лекции, ожидает нервное истощение, бесполезные тома конспектов, в которых ничего нельзя разобрать, и длительные чтения толстых книг перед экзаменами. Мне, обычно, было достаточно пролистать свой конспект.
Очень нравится математика – изящество и мощь дифференциалов, производных и интегралов. «Терпеть ненавижу» мистику матричного исчисления. Киевляне на коне: начала матанализа им преподавали в школе. Теоретическая механика для меня – тоже любимый предмет: стают понятными и расчетными вещи, ранее необъяснимые. С химией отношения посложнее, но наша преподавательница Елена Ивановна Ивченко – женщина такой удивительной красоты, юмора и обаяния, что не знать химию было бы противно самому.
Шуточки трехмерного пространства
Щелкни кобылу в нос – она махнет хвостом.
(К. П. № 58)
Очень сложные отношения у меня с начертательной геометрией в основном из-за того, что я попал в подгруппу избранных. Случилось так, что практические занятия у нас по расписанию оказались раньше теории. Наш «пул» уселся в надлежащей аудитории. Входит молодой высокий мужик с плечами атлета. Голова небольшая, лицо классически правильное, глаза – темно-синие, прическа – почти под машинку. Поздоровался, поздравил с началом учебы, узнал некого Клокова, из начинающих второй заход после отчисления в прошлом году. Я развесил уши в полной уверенности, что это и есть добрый Насулович. Внезапно открывается дверь, и некая личность, с журналом в руке и весьма помятой физиономией над таким же костюмом, робко произносит:
– Анатолий Владимирович! Мы с Вами случайно ошиблись группами, эта – моя!
Анатолий Владимирович соображает полсекунды, решая нашу судьбу.
– Ничего, поменяемся просто журналами!
Вместе с обменом журналами «хитрая подгруппа» дружно сваливается в яму, приготовленную для простодушных: мы оказываемся в подгруппе самого грозного Павлова!
Начертательная геометрия очень проста в своей идее: изобразить точку, линию или нечто объемное в трехмерном пространстве на плоской картинке. Можно представить себе три плоскости под углом 90 градусов. Линии их пересечения – пространственная система координат X,Y,Z. При этом образуется восемь пространственных углов. Предмет проецируется на каждую плоскость. Затем все плоскости как бы складываются в одну. Образуются три различные, но связанные, картинки. Вот простенький, но – почти философский – пример о различных точках зрения. Один зритель утверждает, что истина является треугольной с острием вверх – , он это видит своими глазами. Второй – говорит, что именно острие вниз – является воплощением истины. Третий рьяно доказывает, что они оба заблуждаются, так как истина имеет вид квадрата – . Все трое спорщиков правы: они так видят со своих позиций. Вместе с тем, все не правы: это три проекции одного объемного тела – тетраэдра.
Так вот самая трудная задача «начерталки» – именно так она обозначается на сленге, – воссоздание объемной «истины» по односторонним плоским проекциям. Здесь начинаются головоломки типа ребусов для тех, кто не может мысленно вращать плоскости в пространстве. В общежитии решение таких головоломок котируется как разгадывание ребусов и кроссвордов. Мы болеем начерталкой. Теперь мы говорим не просто «хочется прилечь», а «хочется спроектироваться на плоскость Н (аш) в масштабе один к одному». Звучит очень научно.
На лекциях Павлов яростно носится с длинной деревянной рейкой, изображающей прямую линию. Плоскостью Н является пол, двумя другими служат стены. Он очень хочет, чтобы до слушателей «дошло», чтобы они поняли и полюбили тайны вращения плоскостей. На практических занятиях он нас просто терроризирует: на дом задается неимоверное количество задач, к каждой надо нарисовать картинку. Народ, измученный первым листом и всякими другими заданиями, делает все небрежно и быстро, или не делает вообще, не сумев разобраться в тонких материях. Павлов свирепеет, излагает нам свои «креда»:
– Чтобы стать инженером, не надо быть вундеркиндом: надо иметь свинец здесь! – он выразительно похлопывает себя по месту, откуда растут ноги.
– Вы думаете под крылышком папочки-мамочки проторчать здесь пять лет, а потом устроиться на Куреневке (фешенебельный район Киева — авт.) в артели «Свисток Сентября»? – Не выйдет! – распекает он очередную жертву.
Особенно Павлов мордовал наших девушек. Они даже плакали после его разносов, – и все были влюблены в него: он был настоящий – яростный и красивый.
– Ваша группа – это группа вундеркиндов и лентяев! – восклицал Павлов. (Кого он числил вундеркиндами, – Павлов нам не сообщал, лентяями же – были все остальные) И тут же:
– Один Мельниченко у меня ра-бо-та-ет! – он произносил это слово по слогам, подчеркивая мое трудолюбие и наличие «свинца в одном месте», которые он ценит даже при отсутствии каких-либо талантов. Этот «свинец» вскоре ударил по его мнимому обладателю самым неожиданным образом.
Начертательную геометрию мы сдавали после первого семестра. Павлов и Насулович принимали экзамен вдвоем в одной аудитории. Прошло уже человек 10, подошла моя очередь. Наши девы дрожали мелкой дрожью, умоляли меня пойти к Павлову. Я и пошел. Коротко ответил на вопросы билета: это ведь не характеристика шалопутного цыгана Лойко Зобара. Решил задачки, Павлов слушал с отсутствующим видом, без вопросов поставил мне в ведомости «хорошо» и взял мою зачетку, чтобы и туда записать эту оценку. К тому времени мы уже сдали математику и теормеханику, и в моей зачетке стояли два «отлично». Павлов, с уже поднятой для записи ручкой, откинулся на стуле и удивленно воззрился на меня. Я спокойно молчал, разглядывая стол. Несколько долгих секунд с Павловым что-то происходило, возможно, он подумал, что я ведь коротко и ясно ответил на все вопросы билета. А может быть, моя серость как-то начала окрашиваться или менять очертания в его глазах. Павлов решительно сдвинул на край стола все бумаги и сказал:
– Ну-ка решите эту задачу! – на листе появился один из ребусов. Я молча нарисовал ответ.
– А вот эту? – возникает второй ребус. Я решил и этот.
– Почему?
Объяснил в двух словах.
– А если вот так?
Решается и «вот так». Павлов вошел в раж и непрерывно рисовал одну за другой самые замысловатые головоломки по начертательной геометрии.
Окружающий мир перестал существовать. Время остановилось. Бесшумно вращались плоскости
Потом ребята мне рассказали, как все было. Насулович за это время успел принять экзамен у всех оставшихся, сидел в аудитории и с ужасом глядел на нас. Вся группа толпилась у дверей, не понимая, что происходит. Главная версия: «Майк горит синим пламенем!»
Наконец экзаменатор опомнился и огляделся: уже около часа «серый» студент непрерывно решает его суперзадачи. Павлов решительно взял в руки ведомость, жирно зачеркнул прежнюю оценку и сверху размашисто написал «отлично». Такую же оценку на пол-листа он поставил в зачетку. Павлов был яростным и увлекающимся, но – справедливым человеком. Я поднялся и пошел к двери, меня пошатывало.
– Что??? – выдохнула группа. Я показал зачетку, не в силах что-нибудь произнести. Дружный рев огласил тишину академических коридоров. Не думаю, что он был вызван 100-рублевой прибавкой к моей стипендии…
Культуры бывают разные
Стрельба в цель упражняет руку и причиняет верность глазу
(К. П. № 30)
И одна из культур – физическая. На первых двух курсах института, пока мы еще не заматерели, требовалось сдавать нормативы «Готов к труду и обороне» (ГТО) 2-й ступени. Это были очень непростые ступени, и не только для меня: для многих они оказались вообще недостижимыми.
На первых порах в институте нас встретил весьма импозантный физкультурный врач, по слухам – большой любитель женского пола. Он измерил и записал все наши физические параметры, выдавая при этом весьма живописные комментарии. У Мауэра с его вполне взрослым животом он заботливо поинтересовался: почему тот недоедает, тощему Вахнину посоветовал разгрузочную диету. Когда измерялся объем легких и испытуемый из последних сил старался увеличить свои показатели, врач трагически поднимал руку и провозглашал:
– Даже самая красивая женщина может дать не больше, чем она имеет!
Когда проводились занятия в гимнастическом зале, то смотреть на нашу группу собирались зрители как на спектакль. Вся группа дружно, рывками в такт «эй, ухнем!» поднимала Мауэра на турник. Он уже был наверху, но его продолжали поднимать, пока он не переваливался через живот. Тут его отпускали и ловили уже возле самых матов. Подтянуться на турнике надо было раз шесть. Кто не мог этого сделать, – собиралась группа, и с криками поднимала его раз 30 с громким счетом каждого подъема. От преподавателя требовали зафиксировать мировой рекорд.
И, если с гимнастикой у меня было все в полном порядке, то с бегом никак не получалось: не было скорости и выносливости на длинных дистанциях. По вечерам Толя Венгрин, Серега Бережницкий, я и еще несколько страдальцев выходили и бегали на стадионе, но результаты были скромные: подводила «дыхалка», ноги ставали деревянными уже на втором километре. Благодаря раннему табакокурению, или еще чему-то, – второе дыхание пришло бы к нам значительно позже после прекращения первого. Тем не менее, бег на 3 км мне неожиданно удалось сдать по совершенно дикой причине. Рядом бежал Толя Венгрин родом из Чернобыля (!), в общем, – здоровый мужик с длинными ногами, робкий и застенчивый, как девушка. Уже в начале второго километра Толя, задыхаясь, сообщил мне, что сейчас сойдет с дистанции. Это означало: прощай, стипендия, которая ему нужна была не меньше, чем мне. До самого финиша я бежал рядом, уговаривал Толю держаться, – то ласково, то матом. Мы добежали вместе вовремя: таща ведомого, я забыл о своей собственной дыхалке и деревянных ногах. Восьмикилометровый марш-бросок мы одолели проще: там бег можно было чередовать с быстрым шагом.
Бег на 100 метров не мог сдать никто. Наш староста Юра Яворский стоял на старте и делал флажком отмашку, на финише преподаватель засекал время. Во время пробных стартов оказалось, что в норму (кажется, 13 секунд) никто не укладывается. Наш «пан староста» придумали весьма эффективную штуку, резко повысившую наши спортивные достижения и приблизившие их вплотную к мировым рекордам. Старт был метров на 7 просто сдвинут вперед. Преподаватель, стоящий на другом конце длинной дорожки стадиона, этого не заметил, а может, – не захотел заметить. Он понимал, что спринтерами мы могли бы стать не скоро, а кушать будущим инженерам надо уже сейчас.
Однако мне предстоял впереди самый трудный барьер – плавание. Мне, самоучкой научившемуся в Казахстане с трудом переплывать четырехметровую яму с глиняной болтушкой, предлагалось на выбор – проплыть 50 метров на время, или просто проплыть 400 метров. Плаванье мы сдавали в зоопарке, в большом круглом бассейне с островком посредине. Испытывая непреодолимое отвращение к приборам измерения времени в секундах, я решил плыть на 400 метров. Эта дистанция раз в десять превышала расстояние, которое я проплыл своим ходом за всю прошедшую жизнь. Признаюсь: уповал я не только на Бога, но и на небольшие глубины испытательной акватории, о которых донесла разведка предыдущих поколений. Стратегия моего покорения водных просторов была простой и эффективной. Возле стоящего на берегу преподавателя я демонстрировал бурный собачий стиль во всем его великолепии и брызгах. Как только островок закрывал меня от глаз, алчущих моей погибели, я переходил на простую ходьбу по дну, правда, – помогая ногам и руками. В свое оправдание могу сказать, что мне было очень неловко: глубина бассейна не позволяла просто ходить.
Значок ГТО-2 я, тем не менее, нацепил с гордостью и даже возжелал дальнейших спортивных подвигов. Шанс вписать свое имя в анналы спортивных достижений у меня появился в лице Аркаши Гайдыма, добродушного «сачка» курсом старше. Миша Терех в очередной газете изобразил Гайдыма сидящим в люльке с соской и ружьем. Люльку с натугой поднимали по этажам-курсам, вспотевшие от непомерных усилий декан и Нина Ивановна. Аркашу, кроме стрельбы, ничего не интересовало. Он привел меня в тир в подвале института, и я начал осваивать хитрости стрельбы и стандартных стрелковых упражнений на соревнованиях. Стрелял я и до этого неплохо, но когда понял, как надо стрелять по– научному, – превзошел сам себя. На соревнованиях в стандарте 3 х 5 установил рекорд института – 49 очков из 50 при стрельбе с колена, получил третий спортивный разряд и успокоился. Стало скучно, да и времени не хватало. Аркадий был разочарован и долго ходил за мной, уговаривая вернуться. А мне хотелось взглянуть вблизи на небо, в котором я никогда не бывал.
Языконезнание
Рассуждай токмо о том, о чем понятия твои тебе сие дозволяют. Так: не зная законов языка ирокезского, можешь ли ты делать такое суждение по сему предмету, которое не было бы неосновательно и глупо?
(К. П. № 55)
Мы могли выбирать иностранный язык: английский или немецкий. Пока я готовился к экзаменам в школе и институте, – нахватался немецких (иностранных) слов более чем иная собака блох. Правда, соединить эти слова в нечто связное мне было так же трудно, как построить в три шеренги вышепоименованных блох. Если бы тогда я мог представить хотя бы толику будущих затруднений в своей жизни из-за этого «естественного» шага, то дни и ночи непрерывно учил бы английский. Сейчас, на восьмом десятке лет, мне приходится его изучать, но дырявая память пропускает выученное, как волейбольная сетка кильку.
Впрочем, и тогда изучать язык уже было поздно, во всяком случае, – человеку без способностей к этому. А человек с такой завидной способностью в нашей группе был – Юра Тихомиров. Непропорционально большая голова с одутловатым рыхлым лицом, взгляд, скользящий мимо собеседника, – не вызывали к нему особых симпатий. В дневнике тогда я его определил как «полторанормального», претендующего на звание философа, литератора и художника. Он был немного не от мира сего, и мы довольно ядовито подтрунивали над ним, в чем я теперь искренне раскаиваюсь, – поэтому и рассказываю о нем.
Немецкий он знал, по-видимому, в совершенстве, говорил, что где-то был военным переводчиком. Я не мог, естественно проверить глубину его познаний в немецком языке. Только однажды он исправил немецкую фразу, «сконструированную» мной, небрежно заметив: «Немцы так не говорят». Посидев несколько занятий с нами, он перешел в английскую группу. Мы обалдели: на всех уже давил цейтнот, а у Тихомирова не «вырисовывались» никакие основные предметы и математика. Так вот: через две недели он свободно поправлял английский наших ребят со второго курса, которые изучали этот язык уже минимум семь лет. Что же делает после этих достижений наш «полторанормальный»? Овладевает в короткие сроки теормеханикой, математикой? Сессия ведь на носу. Он начинает изучать персидский язык (кажется, – фарси)! Чтобы подтянуть математику, он набрал в библиотеке больше десятка книг с математическими анекдотами всех времен и народов, желая durch diese познать дифференциальное исчисление. Нашему приземленному и примитивному мЫшлению (из речей гробовщика СССР тов. Горбачева) это было не переварить.
В своей комнате Тихомиров ко всем приставал, чтобы ему дали определение «причины»; подозреваю, что он вычитал или придумал нечто оригинальное. Замученный чертежами и заданиями народ зверел от этого высшего пилотажа, требующего времени на бесплодные дискуссии. ЦВ разработал план. Тихомирову передали, что, мол, в 6-й комнате дают определение причины. Философ влетел к нам немедленно, предвкушая удовольствие от грядущей победы в диспуте.
– Ну, так что есть причина? – вопрошает он нетерпеливо.
– Причина является дифференциалом времени, умноженного на свою вторую частную производную, – невозмутимо произношу я эту ахинею, зная, что дифференциалов и производных философ боится больше, чем черт крестного знамения. Тихомиров по нашему адресу шепчет что-то типа «дефективные» и пулей выскакивает из комнаты. Дискуссия закрывается для всех: вооруженный высшей математикой народ, наконец, обретает неуязвимое определение причины и, главное, – покой.
Сегодня Малахов в «Большой стирке» показывал человека, ветеринарного врача знающего около сотни языков. Он изучил их просто так, в качестве развлечения. Теперь я понимаю, что наш «полуторанормальный» был талантливым человеком из этой же породы. Просто он сел не на свой поезд. Правда, после первой же сессии ему предложили немедленно освободить вагон. В жизни, в отличие от романов, люди из нашей жизни очень часто уходят навсегда: я не знаю, как сложилась судьба Юрия Тихомирова; проследить ее было бы очень интересно.
Немецкий в институте изучаем своеобразно: сдаем «тысячи». Это значит, что мы читаем и переводим увесистые куски иностранного текста. Поскольку эти куски очень обширные, то для экономии времени преподаватель тычет пальцем в несколько абзацев в начале, середине и конце текста, которые студент читает и переводит уже без словаря: подразумевается, что он это сделал «до того».
Но не такова наша убеленная сединами немка – Анна Эрнестовна Келле. Она допоздна сидит с нами в институте. Сама уже усталая и измученная, она добросовестно слушает наше чтение и переводы почти без всяких сокращений. Ее занятия начинаются неизменно словами: «Ich bin nicht zufrieden: die Gruppe arbeitet nicht!», что означает недовольство АЭ нашей работой, точнее – бездельем. Переводимые тексты все более стают техническими, что автоматически сокращает количество требуемых слов. АЭ – гуманитарий, из всех технических терминов она знает только основные. Если переводить уверенно и с апломбом, то АЭ может пропустить перлы типа: «напряжение подвешивается к силе тока на сварочном кабеле, что позволяет увеличить скорость сварки». Кроме того, наша АЭ плохо запоминает лица, поэтому Поля Трахт блестяще сдает накопившиеся за весь семестр «тысячи» за беззаботного шелапута Жорку Олифера. Поля Трахт – винничанка, мы с ней дружим, она – «академсектор» в комсомольском бюро факультета, и ей положено по должности подтягивать отстающих. Рыжий очкарик Жорка Олифер – всегда беззаботный и веселый бездельник. Вся группа его любит, и все ему чем-то помогают, чтобы его не выгнали из института. Больше всех Жорку тянет мой друг Коля Леин, беззаветный трудяга родом из детдома. С Колей мы живем в одной комнате, наше совместное хобби – математика. Заковыристые интегралы мы можем вытягивать до изнеможения или победы.
Немецкий технический я осваиваю так, что могу перевести без всяких словарей. От чтения с русско-украинским акцентом АЭ морщится, поправляя кое-какие слова. Слово «ich» она просит нас произносить как «ишь», хотя в некоторых областях Германии оно произносится как «ик». Что-либо связно произнести на немецком никто не умеет, лучшее – этот стих:
Іх сиділа на террасі,
Ду шпацірував по штрассє,
З неба вассер йшов,
Варум ти не зайшов?
Свое потрясающее знание немецкого языка мне пришлось применить дважды в жизни, причем в питейных заведениях. Перед отправлением на Новую Землю я харчился в ресторане «Арктика» в Мурманске. Вышел из порта очень поздно и очень голодный, – только там можно было поесть в это время. Пришлось взять и бутылку, чтобы не быть белой вороной и слиться с массами. Наелся, развеселился. За соседним столом хмурый мужик смотрел на меня не очень приветливо, затем заговорил на немецком. Я понял, что он – инженер и не любит военную форму. Я ему ответил, что я тоже инженер, «ich bin auch Kriegsuniform – weg!» и спросил его, где же он был в 1941–1945 годах? Немец быстро ответил, что он был в это время болен. Я усомнился: не заболел ли он после 1945 года? Немец подсел к нашему столу и стал горячо что-то объяснять. Смысл объяснений мне уже было не уловить, но зато он понял русский призыв, подкрепленный рюмкой и жестами, выпить за мир и дружбу. После этого действа дальнейший разговор и братание пошло свободнее: каждый говорил на своем языке. Неизвестно, чем бы закончилась мирная конференция народов, если бы к нам не подошел патруль и на понятном языке не спросил, не желаю ли я окончить переговоры на гауптвахте для младших офицеров? Я не пожелал, и конференция окончилась без подписания итоговых документов…
Вторая встреча с живым немецким произошла, когда уже была дружественная ГДР. С Олегом Власовым мы сидели в забегаловке возле санатория «Аврора» в Хосте, где подлечивали хилое здоровье. Пили мы не кефир, и я встрял в немецкий разговор троих мужиков за соседним столом. Говорили мы с ними долго, конечно – на немецком, конечно – за мир и дружбу. Олег хмуро наблюдал за нашим разговором: он, как истинный военный изучал не язык, а Строевой устав. Немцы спросили: «Wer ist er?». Поскольку я знал только одно воинское морское звание на немецком, то я его и употребил: «Er ist ein Kapitan zur See». Немцы неожиданно поднялись по стойке «смирно» и отдали честь слегка обалдевшему Олегу. Он по-русски предложил налить, что иностранцы сразу поняли и согласно закивали.
– Что ты им сказал? – допрашивал потом меня Олег. Мне и самому было интересно, что я им сказал…
Мои встречи с английским языком, очень невеселые, продолжаются по сей день. На моем компьютере установлены несколько программ – переводчиков. Они бодро переводят, но выдают такие перлы, что я даже понимаю больше английский текст, чем русский перевод. Серфинг по англоязычному Интернету для меня то же, что плавание по морским волнам для топора.
Воспоминание об одном столкновении с английским языком для меня особенно тягостно. В Ленинграде гастролировал Кливлендский симфонический оркестр. Когда в форме морского офицера я вышел из Адмиралтейства (там в училище служил мой друг Боря Мокров), ко мне, как к родному, кинулся один из оркестрантов. Он заблудился в городе и ни с кем не мог объясниться, поэтому, естественно, обратился к человеку в морской форме. Его вопрос я не понял, на понятном немецком объяснил ему, что я – немец, дойч, жермен. Он тыкал пальцем в словарь, где было слово «пароход» на русском и английском. «Ну, пароход, понял, а чего ты хочешь? Was wollen Sie?» – допытывался я. Он опять позволял себе дерзость обращаться ко мне и дальше на непонятном английском. Уразумев, что ответа не дождется, он окинул меня взглядом от головы до ног, и презрительно процедил: «Маринер..», что было уже понятно без перевода. Только чудом меня не поглотил асфальт Дворцовой площади… Однажды я попытался облегчить себе жизнь и установил драйвер к цифровому фотоаппарату на немецком языке. Увы, теперь он для меня был еще темнее, чем английский… Учитесь, дети, сызмалу: пенсионерам – некогда!
Будни и каникулы
Вещи бывают великими и малыми не токмо по воле судьбы и обстоятельств, но также по понятиям каждого.
(К. П. № 139)
После первого семестра я поехал на каникулы в Деребчин: хотелось увидеть маму и Тамилу. Им без меня было, конечно, тяжеловато. Вдоволь наговорились, от души намахался «наследственным» топором, кое-что подремонтировал. Вечером пошел на завод, «в свет». Даже встречался со своей «пассией»: она болела, я был у нее дома. Все скучно, господа. Я уже другой, – они – прежние. Чувство такое, какое должно быть у парохода, винт которого неожиданно оказался в воздухе. Немного оттаял с ребятами, у них такие же чувства.
Из Деребчина выезжаем вместе. В Рахнах – полный завал: стоит огромная очередь за билетами, которые будут давать за 10 минут до прихода поезда, останавливающегося всего на одну минуту. Шансов купить билет – практически нет. Совещаемся, разрабатываем план. Занимаем, как большие, очередь в кассу, – стоим в самом конце вдоль совершенно гладкой зеленой стены. Касса – маленькая, но глубокая, амбразура посредине стены. Я стою во главе своей очереди – на острие атаки. За 10 минут до прихода поезда в глубине амбразуры слышится стук открываемых запоров. Семеро наших, используя мою грудь как таран, сдвигают всю очередь вдоль стенки. Я еле успеваю вдвинуть в кассу обе руки с деньгами и кричу туда: «Восемь билетов до Киева!». Возмущенное начало очереди пытается меня вырвать из окошка, но мои тылы уже надежно прикрыты. Билеты получены, ребята меня отрывают от кассы, и, под ругань оставшихся, мы выбегаем на перрон к подходящему поезду. Конечно, этот способ покупки билетов не очень гуманный, но я видел и похуже. Оставаться же нам еще на сутки – нет никакой возможности…
В общежитии перестановки. Кто-то уехал, кого-то выгнали. Меня из шестой комнаты на первом этаже переселяют в угловую комнату на третьем; эта подробность спустя несколько месяцев для нас окажется прямо таки роковой. Теперь в комнате нас трое из одной группы: Серега Бережницкий, Коля Леин и я. С Колей мы при первом знакомстве поцапались: чем-то я ему не понравился, что он не преминул показать, саркастически обозвав меня «деятелем». Я тоже как-то огрызнулся. Все изменилось при более близком знакомстве. Я не знаю человека более трудолюбивого, обязательного, доброго, готового поделиться последним, забыть о себе, чтобы вытащить из беды друга. Рост у Коли был небольшой, он очень переживал это: девушки ему почему-то нравились все очень рослые. Мы старались никогда не наступать на эту мозоль. Если получалось нечаянно, – Коля смеялся вместе с нами.
Серж Бережницкий был длинным, элегантным и влюбчивым. Это Серега изобрел формулу оценки девушек: «Я бы ей отдался, не требуя за то дополнительного вознаграждения», или: «Мы сегодня же ночью взойдем к ней!», – деловито копируя эмира из «Похождений Насреддина». С науками у Сереги иногда бывали затруднения, но мы с Колей его быстренько выталкивали из колдобин на ровную дорогу. При этом наши скулы очень часто болели от элементарной «ржачки», что весьма облегчает жизнь.
В комнате были еще другие ребята, – задиристый юный тамбовец и другие, но наша тройка была основной. Мы меняли комнаты и даже общежития (надеюсь рассказать об этом), но сохраняли наш триумвират. С этими ребятами я бы пошел в разведку, – если бы меня, конечно, они взяли. Не знаю, как выглядел я в их глазах, поэтому привожу их дарственные надписи на фото при расставании. Хоть и редко, но мы поддерживаем связь до сих времен: у Коли я был в Электростали, Серега посетил меня в Питере.
В группе у нас выделяется Юра Попов. Он тоже живет в общежитии, но в другой комнате. Когда другим ребятам говоришь, что ты со сварочного факультета, то они неизменно спрашивают:
– У вас Юрка Попов учится? – его знают все. При виде человека, незнакомого нам, Юрка издали широко раскрывает руки и издает звуки радости, как при встрече со старинным другом, которого давно не видел. Следует радостный обмен восклицаниями типа «ну, как там?» и такое же радостное прощание. Спрашиваешь у Юрки:
– Кто это был?
– Черт его знает, кажется, он на металлургическом учится.
Больше ничего о «близком друге» он не знает. Попов часто ходит в полувоенной форме, но у него полно всякой модной одежды. Впервые на нем мы видим яркие заморские галстуки и шелковые рубашки с пуговицами до самого низа. У него роскошные наручные часы и два фотоаппарата; большинство моих студенческих снимков сделаны именно ими. В деньгах он тоже не испытывает недостатка: его папа директор крупного цементного комбината в Латвии. На все каникулы и праздники Попов улетает самолетом в Ригу – «маленький Париж», по его словам. По напористости, «арапистости» и нахальству Попов мне напоминает Алика Спивака, но на более высоком уровне. Я подробно расписываю свое понимание Юрки Попова, потому что наши судьбы довольно долго шли параллельными курсами, о чем далее.
Второй семестр начинается без всякой раскачки. Сразу куча заданий выше головы, уйма других забот. Но жить уже неизмеримо легче: мы почти умеем работать быстро и эффективно. Уже можно выкроить время на более приятные дела – кино, концерты, самодеятельность и т. п. и т. д. У выдержавших первый удар первого семестра появляется некоторая наглость и уверенность, что и следующие нагрузки можно выдержать.
У нас очень много практических лабораторных работ по физике, химии и другим предметам. Больше всего нам нравится практика по ручной сварке. Самодельными электродами – на проволоку нанесен мел, замешанный на жидком стекле, – мы учимся держать дугу и выполнять простенькую сварку. Это очень занимательное занятие, – видеть и чувствовать расплавленный тобой металл, слышать ни с чем не сравнимый звук сварочной дуги. Сварка такими электродами проще, чем «качественными», со специальной обмазкой: в расплавленном состоянии металл выглядит так же, как и шлак, и, вместо сварки металла, неумелый заливает все расплавленным шлаком. Никаких теорий по сварке и оборудованию мы еще не изучаем, а практические навыки – на уровне ПТУ или ниже: там ведь проходят сначала теорию. Тем не менее, я готовлюсь провести каникулы не на подаче снопов, а на родном заводе сварщиком.
Внеучебная жизнь протекает бурно. Часто посещаем концерты Бориса Романовича Гмыри. Этот знаменитый бас оставался в оккупации и выступал чуть ли не в ставке Гитлера. Конечно, все это слухи: тогда такие вещи в газетах не печатали. Тем не менее, Гмыре ходу не было. Как-то скрепя сердце его допустили к дням украинской культуры в Москве. Гмыре повезло: его выступление слушал Сталин. Сталин якобы сказал:
– Так это же советский Шаляпин!.
Перед Гмырей немедленно открылись все двери. Я слушал его «вживую» много раз, трудно передать словами то потрясение, которое я испытывал, слушая его «Сомнение», «Песню старого капрала» или украинские народные песни. Собственно, мне впервые в жизни пришлось слышать настоящее пение Мастера. С этого времени часть моей стипендии неизменно уходила на покупку пластинок, в основном – классической музыки, арий из известных опер. Пластинки с такой музыкой, кроме всего прочего, были гораздо дешевле «эстрадных». Правда, эта эстрада – высокая классика по отношению к большинству теперешней «попсы», в которой десятки раз могут повторять примитивную фразу. В этих случаях мне всегда хочется спросить авторов и исполнителей: «Еще хоть какие-нибудь слова вам, прохвостам, ведомы? Так произнесите и их!»
Очень полезными были тематические абонементы в филармонии. Профком их продавал нам по смешным ценам. На очередную лекцию-концерт два-три раза в месяц мы напяливали галстуки, мыли шеи и развешивали уши. Краткая лекция на тему «Кто есть ху», прерывалась музыкальными иллюстрациями: играл симфонический оркестр, пели известные певцы. Гуманитарная информация почти не задерживается в моей голове, но все это, наверное, как-то отесывало наше провинциально-культурное невежество военного времени. Во всяком случае, – на лагерных сборах после второго курса, взвод сварщиков распевал в качестве фирменной строевой песни арию Певца за сценой из оперы Аренского «Рафаэль», о чем я надеюсь еще рассказать.
Начиная с конца апреля, главной базой подготовки к сессии часто ставал левый берег Днепра на траверзе Владимирской горки, – там мы купание, загорание и волейбол прерывали изучением некоторых наук. Иногда свободного времени бывало очень много – целый день. Тогда собиралась компания, которая на Подоле брала напрокат две-три лодки. Эскадра направлялась вниз по течению, одновременно пересекая Днепр. Почти у моста самого знаменитого сварщика – деда Патона лодки входили в Матвеевский залив. Залив – один из рукавов Днепра – летом имел только один этот вход в основное русло реки, поэтому течения в нем не было. Мы на веслах поднимались по заливу несколько километров вверх. Места там привольные, песок и вода чистые. Проводим там целый день, затем волоком перетаскиваем лодки в основное русло и опять вниз по реке спускаемся к лодочной базе.
На Днепре с Н. Леиным
Размышляю сейчас о финансовой стороне наших развлечений. Абонементы, билеты в кино и на спектакли, прокат лодок и многое другое требовали таких смешных денег, что были вполне по карману студенту, получающему только стипендию. Почему сейчас все не так? Кто-то доплачивал тогда за все эти удовольствия? Или кто-то не только не доплачивает, но и сосет деньги сейчас у надежды нации и будущих элитных работников?
11. Институт. Годы второй – пятый
Летний отдых
Начинай от низшего степени, чтобы дойти до высшего; другими словами: не чеши затылок, а чеши пятки.
(К. П. № 77)
Сессию за второй семестр (это конец первого, самого тяжелого, курса) я без особых приключений сдал на «отлично». В кармане – повышенная на целую четверть стипендия, что вселяет приятность неописуемую. Уезжаю на летний отдых, слегка ошалевший от наук. Родные хата, мама и сестра встречают радушно: всем троим нужна моя забота и ласка. День отсыпаюсь, два дня – ремонтирую то, что успело развалиться по хозяйству, на третий день – начинаю скучать. Передают: заводу нужен сварщик. Я еще ничего не умею, но о своем неумении еще ничего не знаю. Иду в заводскую контору, – меня сразу принимают без всяких формальностей: моя трудовая книжка выдана именно заводом.
Моя смена – ночная, с 22 часов. Прихожу немного раньше, чтобы получить задание. Мое рабочее место под навесом рядом с мастерской, которую совсем недавно мы с Мишей Беспятко едва не сожгли. Ремонтировать надо раздолбанные в усмерть вагонетки для перевозки угля в котельной. Специально для меня запускается одноцилиндровый дизель с калильной свечой, который вращает сварочный генератор. Моторист наскоро инструктирует меня, как надо глушить это чудо техники и уходит: его рабочий день окончился.
Темнеет; в мастерской – ни души. Завод на ремонте; основное здание, живое и шумное во время сахароварения, сейчас темное и молчаливое. Начинаю готовиться к работе и сразу же обнаруживаю свои недостатки: у меня нет третьей руки! В одной руке у меня держатель с электродом, левой я держу щиток с темным стеклом. А чем прижать деталь, которую надо приварить? Ногой – не достать, живот – отсутствует. Легко можно прижать пружинящую деталь левой рукой, но тогда глаза не смогут видеть, что я делаю: дуга слепит намертво даже при ярком солнце, не то, что ночью, когда зрачки расширены. Попросить помощи – не у кого: я кажется один на всем заводе. Не сделать – нельзя: это мой первый рабочий день, хотя вокруг уже глубокая черная ночь за пределами яркой лампы, освещающей мое рабочее место. Вблизи громко тарахтит мой допотопный дизель, требуя действий.
Если бы я тогда знал хотя бы в теории, что существуют маски, освобождающие вторую руку! После нескольких попыток обойтись без третьей руки, я изобретаю – не маску, а самоубийственную технологию. Отбрасываю щиток, освобождаю руку, которой прижимаю пружинящий лист, закрываю глаза и начинаю сварку вслепую! Когда открываю глаза, то вижу наплавленные сопли металла совсем не в том месте, куда целился. Попасть удается с четвертой попытки, схватив несколько «зайцев», когда дуга полыхает прямо в глаза. После таких «зайчиков» начинаешь что-то видеть только через несколько минут.
Однако дело сделано: непокорная деталь прихвачена и перестала пружинить. Подбиваю кромки молотком, и начинаю нормальную сварку со щитком. Меня ожидает новая напасть: на яркий свет дуги слетаются тучи невиданных ранее толстенных мотылей с короткими крыльями, – явных сельхозвредителей. Такое толстое туловище можно отрастить только на полезных растениях. Часть вредителей сгорает рядом с горячим швом, другая – успевает залезть мне под щиток, в рот и глаза. Отплевываюсь, отмахиваюсь. Возможно, эти мотыли атакуют меня не только как источник света, но и запаха. У завода нет жидкого стекла, и меловую кашу, в которую окунают электроды, замешивают на патоке. При горении такая обмазка дает дым с сильным запахом горелого сахара, который явно нравится оголтелым вредителям. Я до корней волос пропитан этим запахом, поэтому меня, варилу, они тоже воспринимают как нечто съедобное.
Худо-бедно – одна поломанная вагонетка заварена. Я начинаю прихватывать следующую, опять без щитка…
К 5 часам утра моя технология дает уже не сбой, а «полный звездец»: из красивых глаз непрерывно льются горькие слезы, и я ничего не вижу. Если бы глаза могли смотреть, то увидели бы, что «морда моего лица» обожжена до цвета кирпича и распухла. Кое-как, на ощупь, глушу свою тарахтелку и бреду домой в свете уже восходящего светила. Мама, увидев меня, в ужасе начинает причитания. Твердыми словами прекращаю панику и начинаю руководить спасательными работами.
Заваривается все наличие чая; смоченный заваркой платок укладывается на глаза и лицо. Засыпая, отдаю твердое распоряжение: разбудить меня ровно через один час. Я уже знаю, что для восстановления статуса кво длительность сна не имеет особого значения: главное – количество циклов сон – умывание – сон. Через час мама легонько трогает меня, надеясь, что я не проснусь. Однако просыпаюсь. Глаза открыть невозможно: под веками полно песка. Открываю их обеими руками, умываюсь ледяной водой, специально доставленной с колодца. Когда появляется зрение, то в зеркале вижу распухшую красную физиономию с красными же глазами сытого вурдалака. Опять накладываю чайные компрессы и ложусь.
До вечера я провел около пяти циклов лечения и стал опять способен на новые трудовые подвиги. На работу пошел пораньше. Бригадир ремонтников рассыпался в извинениях, что оставил меня без подсобника. Оказывается, на таких работах сварщику положен был подсобник! Подозреваю, что хитрый бригадир просто испытывал «некоторых, дюже грамотных» на прочность. Теперь ко мне приставлен Степа. Это невзрачный мужичок неопределенного возраста с одним глазом и лицом, похожим на печеное яблоко. Голову Степы венчает большая теплая кепка из толстого сукна, которую позже назовут грузинской. Словоохотливый Степа клянется в любви к сварочному делу и всем сварщикам вообще. Новый помощник дышит густым перегаром, но исправно прижимает железки, переносит кабель и кантует тяжелые вагонетки, чтобы мне было удобно работать…
Недели на две с верным Степой мы перешли в главный корпус завода, где приваривали великое множество крючков из проволоки для удержания изоляции на вертикальных стенках огромных выпарок. «Нахлынули воспоминанья»: работаем рядом с помостом, где три года назад я баловался заводским гудком. Сварка – на высоте, не очень ответственная, но проблема в том, что мне ни разу до этого не приходилось варить в вертикальном положении. Даже заикнуться об этом нельзя, приходится учиться на ходу. К концу первого дня кое-что начало получаться: вместо безобразных металлических соплей – аккуратный блестящий шов. Вопреки канонам, о которых я понятия не имел, варю сверху вниз: к счастью, меловые на патоке электроды позволяют это хулиганство. (Сейчас некоторые продвинутые фирмы выпускают специальные электроды для сварки сверху вниз: наверное, для обеспечения работой своих невежд и неумех). Сам Вася Стопа одобряет мои результаты, тем более – в них поверило руководство.
Окрыленный таким доверием, я пытаюсь совершить еще один трудовой подвиг, как две капли воды похожий на безнадежную глупость. Из завода к жомовой яме на глубине два метра в земле проходила толстенная труба, по которой качали жом. Труба была проложена без всякого понятия: о тепловом удлинении забыли. Из-за этого во время производства труба периодически разрывала стык, сваренный на живую нитку, и жом фонтанировал прямо посреди дороги. Сейчас этот дефект решили исправить раз и навсегда, раз есть такой хороший сварщик.
Трудолюбивые подсобники, чтобы не очень напрягаться, отрыли узенький шурф. Обнажился стык, уже несколько раз оскорбленный безобразной сваркой: вместо сварного шва на стыке висела толстая бахрома металлических соплей. Сейчас я знаю, как исправлять такой дефект: надо вырезать участок трубы, вваривать тепловой компенсатор и т. д. Это работа для бригады монтажников, сварщика, резчика и … экскаватора. О сроках я не говорю: многое зависит от организации и снабжения. Тогда же, наполненный до краев оптимизмом невежества и окрыленный доверием начальства, я решил сделать все один и за считанные часы.
В глубокой дыре я мог только стоять: присесть, тем более – работать, не позволяли стенки. Потребовать, чтобы сделали нормальную яму, мне не позволил комплекс – симбиоз скромности и невежества. Чтобы никого не беспокоить, я придумал нечто цирковое: на ноги надел веревочную петлю и велел опустить меня в шурф вниз головой. Верный Степа с помощником регулировали по команде мое погружение. Под трубой отрыто совсем мало места, щиток не помещается. Тогда я вытащил из него темное стекло и так защитил глаза, пожертвовав опять «мордой лица». Работал я несколько часов, поверх старых соплей наплавляя новые. Весь дым от горелой патоки, прежде чем выбраться из шурфа, проходил через меня: это был мой воздух для дыхания. Этим запахом я пропитался на всю оставшуюся жизнь. Заваренный стык не мог не потечь при испытании, – сейчас мне это ясно, даже не глядя на сварку. Без удаления дефектного металла, насыщенного всякой бякой, такой стык не мог бы заварить даже суперсварщик в самом удобном положении…
Очень тяжелый взгляд из технического будущего. Я занимаюсь сваркой более полувека, участвовал в подготовке тысяч сварщиков, не уставая повторять им простую, как репа, истину. Качество сварки на 80 % зависит от правильной подготовки. Высшая доблесть сварщика – не сваривать то, что плохо подготовлено, закрывая своей грудью амбразуру чужого разгильдяйства: пулемет оттуда будет стрелять еще губительнее. Неопытным говорят: «Если ты хороший сварщик, – заваришь!». Так вот: хороший сварщик тот, кто откажется заваривать такое безобразие. Он потребует или сделает сам сначала правильную подготовку перед сваркой. Сварщик ведь всегда «последний»: он ставит свое личное клеймо, благословляя тем чужой брак.
Мне приходилось очень жестко «причесывать» начальников, которые в спешке и/или по невежеству принуждали молодых сварщиков к такой халтуре. Кажется, при этих разносах у меня из глаз и ушей валил дым с сильным запахом горелой патоки…
Конечно, все эти истины касаются только ручной сварки, где сварщик остается один на один с расплавленным металлом. Если же речь идет о более сложных технологиях сварки, то здесь нужен широкий кругозор инженера, чтобы решить весь комплекс задач по качеству и трудоемкости изготовления всей конструкции. Очень часто приходится начинать изменения с самой конструкции или сооружения. Нормально, когда один инженер экономит или заменяет труд, по меньшей мере, десяти рабочих. Надеюсь, мне удастся рассказать об этом.
Работал я на заводе до самого отъезда в Киев. Мой заработок, значительно обрезанный неудачной «цирковой» сваркой, оставался приличным: на его часть я купил часы, о которых давно мечтал. Это было не просто украшение на мозолистой руке: это был наинужнейший прибор при нашем быстром коловращении жизни. До войны наручные часы были редкостью и даже экзотикой, у ответственных людей преобладали карманные брегеты. После войны появилась наручная «Победа» – весьма точный и чрезвычайно надежный механизм. Стоили эти часы около 400 рублей: цена была с копейками и одна на весь СССР. Это были весьма приличные деньги, но вскоре эти часы были раскуплены и оставались только в магазинах глухих деревень, где доходы были ниже, а время определялось по солнцу. В Деребчине эти часы я и купил. На первых порах я просто наслаждался, глядя на белый циферблат и черные стрелки и поминутно определяя свое положение во времени. Теперь уже можно регулировать темп бега в дальнюю аудиторию, заранее собрать книги перед концом занятий, не опоздать в кино или на лекцию, следующую за «просачкованной», – словом резко повысить качество кипящей жизни… Моими первыми в жизни часами я владел меньше года, о чем дальше. Замена часов была связана с событиями – военными, драматическими и познавательными.
Взгляд из счастливого будущего. Наш сын учится в школе. Английской! Он должен сызмалу научиться музыке, языку, плаванию и еще тысяче вещей, которые не умеет делать его отец. Время для него уплотняется. В обеденный перерыв из Охты я несусь в Автово, попирая ПДД. Там сын выбегает из школы, вскакивает в машину: через считанные минуты занятия в бассейне у Театральной площади. Чтобы сбоев не было, покупаем сыну часы – совершенно необходимый и теперь – не очень дорогой прибор времени. Немедленно получаем выговор от учительницы, ровесницы бабушки сына: для нее часы на руке мальчишки – предмет непозволительной, прямо-таки – безумной – роскоши. А времена уже другие. Сознание масс по-прежнему еле плетется за несущимся вскачь бытием, – ну, прямое подтверждение теории марксизма-ленинизма…
Возвращение в Эдем, который ремонтируют
Весьма остроумно замечает Фейербах, что взоры беспутного сапожника следят за штопором, а не за шилом, отчего и происходят мозоли.