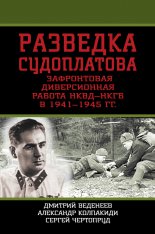И проснуться не затемно, а на рассвете Феррис Джошуа
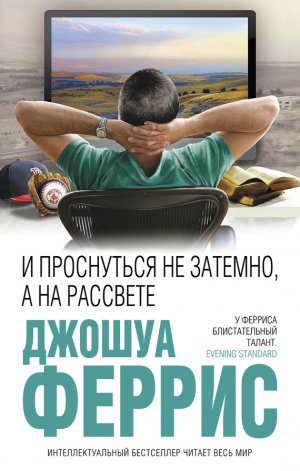
– Если хотите знать мое мнение, то чем больше людей, тем страннее их вера.
– Вы себе представляете, кто такие историки? – спросил Зукхарт. – Со всем уважением к моим многочисленным друзьям, историк – это стервятник, и все его коллеги тоже стервятники. Эта шайка-лейка способна оставить от трупа нового исторического открытия одни кости. Я их не виню, им надо писать научные труды, выступать на конференциях. А теперь, зная это, подумайте над своим вопросом.
Он окинул взглядом рассыпанные на столе документы: распечатки файлов, которые я выслал ему по электронной почте. Кантонменты с моего сайта.
– Кто-то приходит к вам с вестью, что вы принадлежите к некой традиции, к некоему народу. У них есть религия, пусть и весьма схематичная, и они имеют некие этнические особенности. Даже на генетическом уровне. Они образуют расу и могут это доказать. Несмотря на широкомасштабные преследования и гонения, их род просуществовал тысячи лет и жив по сей день. Я правильно обрисовал картину?
Я кивнул.
– Так почему же о них никто не слышал? Почему стервятники с исторических факультетов мира до сих пор не набросились на этот чудесный благоухающий труп и не обглодали его дочиста, выставив на всеобщее обозрение?
– Потому что эти люди вынуждены таиться.
Зукхарт перестал ласкать себя и нахмурился, выпятив розовую губу.
– Откуда вам это известно? – Он взглянул на бумаги. – Вы нашли это здесь… среди этих?..
– Нет.
– Как вы узнали, что они вынуждены таиться? И как им удалось затаиться настолько, что на их след не напал ни один историк?
– Послушайте, я не хочу показаться простофилей. Я, как и вы, твердо убежден, что меня пытаются обжулить. Я даже обратился к адвокату, специализирующемуся на информационном праве. Как только афера будет доведена до своего логического конца, у меня появятся основания для судебного иска. Воровать чужие личные данные запрещено законом. Но быть может… быть может, мы ничего не слышали об этом народе, потому что их почти полностью сжили со света? Выберите любой народ – евреи, индейцы, вальденсы, – никто и в подметки не годится ульмам. Их всегда было мало, считаные единицы, и поэтому они пропали с полей всех радаров.
– Вы слышали про вальденсов?
«Мысли трезво!» – подумал я. Но без толку – я был на крючке. Я потратил столько времени на переписку с самим собой – человеком, называвшим себя Полом О’Рурком, врачом-стоматологом, что теперь знал больше историков. Но действительно ли я хотел поверить? Отчасти я надеялся, что Зукхарт вернет меня на землю, к своему старому доброму «я», которое еще не утратило последних остатков самоуважения, и скажет мне, что вальденсы – тоже вымысел.
– Мне говорили, этот народ подвергался похожим гонениям. И еще чукчи – в России. Они тоже давно живут на грани полного вымирания.
– Как-как вы сказали?
– Чукчи. Их осталось около пяти сотен.
Он записал незнакомое слово.
– Кто вам про них рассказывал?
– Не только про них. Еще про пунанов, инну и энавене-наве, – добавил я.
– А это кто?
– Обездоленные народы, находящиеся на грани вымирания.
– Пожалуйста, перечислите еще раз…
Я произнес названия по буквам, и Зукхарт все записал.
– А почему их преследовали?
– Чукчей?
– Да нет, ульмов.
– Ну, даже язычники во что-то верили. А эти люди не верят ни во что, кроме необходимости сомневаться в существовании Бога. Кому такое понравится? Люди нервничают.
Вновь показался неприличный розовый лепесток его нижней губы.
– Но все-таки, – наконец произнес Зукхарт, – каждый реально существовавший народ оставил за собой хоть какой-то след в истории. Даже эти… – Он бросил взгляд на свои заметки, – …чукчи. А где следы вашего угнетенного народа?
– Прячутся у всех на виду, наверное.
– По-моему, вы недоговариваете.
– Вовсе нет.
– Прячутся у всех на виду?
– А вы почитайте любой учебник истории. Обязательно найдете там пассажи про «массы» и «поселян». Про «коренных жителей». Про «рабов», «местных» и «кочевников». Про «еретиков» и «богохульников».
– Хотите сказать, имеются в виду ульмы?
– Не всегда. Иногда «массы» – это просто «массы».
– То есть в истории человечества им не нашлось даже имени.
– Это лишь предположение.
– Вот этого человека? – Он указал на распечатки. – Этого Пола О’Рурка?
Я кивнул. Он положил ручку на стол и откинулся на спинку кресла.
– Все это можно допустить, но с очень большой натяжкой. И мы по-прежнему не имеем права игнорировать базар под названием «ученый мир».
– Но с таким багажом исторических знаний, как у вас, – сказал я, – разве вы станете спорить, что есть такие уровни подавления, которыми никого не удивишь даже на современном этапе истории?
Зукхарт сделал губы бантиком и задумчиво помассировал щитовидку.
– Но как представить себе народ Бронзового века, сомневающийся в существовании Бога? – наконец сказал он. – Да люди тогда боялись даже туч, молились деревянным тотемам… – Он покачал головой.
– Вот мое предложение. – Я протянул ему чек.
Он изучил его и удивленно вскинул брови. Затем встал и протянул мне руку.
– Что ж… по крайней мере, фомам неверующим никто не платит.
Плотцы знают, кто они и откуда, – написал мне он. – Поэтому я ничуть не удивлен, что ты в них влюбился. Нас всегда манят люди с глубокими корнями и традициями. Однако традиции эти нам неизменно чужды, и результат всегда печален. Но я тебя не виню. Чувствовать свою причастность к чему-то большему, любить и быть любимым – самые естественные желания человека.
Откуда ты знаешь про Плотцев?
Ты сам мне про них рассказывал.
Я никогда не говорил, что влюбился в них.
Я не ясновидящий, Пол. Просто умею соединять точки.
Проблемы со сном у меня начались после смерти отца. Мама задергивала шторы, включала ночник, укрывала меня одеялом, и я поудобнее устраивался в полумраке, надеясь быстро уснуть. Но сон не приходил. Я непременно должен был уснуть первым: если бы первой уснула мама, в квартире остался бы один бодрствующий – я, а это было почти так же страшно, как остаться одному на всем белом свете. Остаться одному – самый большой страх моего детства. Раз уснула мама, значит, уснули и остальные люди в доме, и я буду бодрствовать, пока все взрослые спят. Надо уснуть! Очень надо! Но все было напрасно: что бы я ни делал, ночь разрасталась и темнела. Сон, точно зараза, распространялся от нашего дома по всему кварталу, затем по всему городу, а потом и по всему миру. В целом мире я был единственный, кто не спал.
Мои усердные попытки заснуть окончательно прогоняли сон, и тогда я понимал, что вообще никогда-никогда не смогу заснуть. Ужас быстро охватывал все мое существо, и никакие мамины ухищрения – добрые книжки на ночь, молитвы, несчетное число «спокиночей», которые я заставлял ее говорить перед уходом, – ничто не могло справиться с этим ужасом. Минут десять-пятнадцать я лежал, парализованный, в кровати, а потом начинал звать: «Мам?!» Иногда она отвечала: «Да» или «Что?», но обычно: «Чего тебе?» Немудрено: она пятнадцать минут желала мне спокойной ночи, потом уходила и снова возвращалась, чтобы развеять очередной мой пустяковый страх, и вообще множество раз проявляла нечеловеческое терпение, прежде чем закрыть дверь в мою комнату – и все это после тяжелого рабочего дня, готовки и уборки, – конечно, она уже еле дышала от усталости. И по-прежнему оплакивала отца. Горевала и пыталась смириться со своей участью. Пыталась разобраться в происходящем и одновременно обеспечить мне нормальное детство. Но обеспечивать нормальное детство – это одно, а иметь дело с девятилеткой, который из ночи в ночь отказывается спать, – совсем другое. «Чего тебе?» – раздраженно спрашивала она, словно хватая за руку непослушное дитя. Но я притворялся, что не замечаю ее тона, и игнорировал подступающий ужас перед следующей закономерной стадией нашего еженощного ритуала. Я закутывал этот ужас в обмен любезностями, столь естественными перед отходом ко сну, и кричал сквозь тонкие стены: «Я только хотел пожелать спокойной ночи!» «Спи, Пол», – говорила она. Спустя несколько минут я повторял: «Спокойной ночи, мам!» – и она говорила: «Мы уже сто раз пожелали друг другу спокойной ночи, Пол, сто раз!» Еще спустя несколько минут – все это время я изо всех сил боролся с желанием это сделать, – я кричал: «Спокойной ночи, мам!» – «Мы уже попрощались. Много-много раз. Все: последний раз говорю, спокойной ночи!» Я ни в чем ее не виню, это происходило из ночи в ночь и страшно ей надоело, а поделать она ничего не могла. К тому моменту мы оба уже знали, что нас засасывает в повторяющийся кошмар, и вопросов оставалось только два: сколько я продержу маму без сна и до какого каления ее доведу? Я переставал притворяться и начинал орать: «Мам, ты не спишь?!» Из дальней комнаты доносился ее отчаянный крик: «А-а-а-а!» Еще чуть позже я снова спрашивал: «Ты не спишь?» – и она отвечала: «А ну засыпай!» Потом, много позже, я выкрикивал: «Мам?» – и не получал ответа. «Мам?» – Нет ответа. «Мам! Мам! Мам!» Наконец она отвечала: «А НУ БЫСТРО СПАТЬ! СПАТЬ, Я СКАЗАЛА!!!» Я испытывал огромное облегчение. Раз она так злится, значит, точно не спит, и я не один. Потом она переставала отвечать, сколько бы раз я ни звал, и тогда я подходил к ее комнате и спрашивал уже чуть тише: «Мам, ты не спишь?» Тишина. Я открывал дверь и спрашивал с порога: «Мам, ты не спишь?» Она лежала в кровати с открытыми глазами и смотрела в потолок. Но я все равно спрашивал: «Мам, ты не спишь? Мам? Ты не спишь?» Не поворачиваясь и не глядя на меня, она отвечала: «Сплю».
Утром мы просыпались либо в ее кровати, либо в моей, или же я лежал на диване в гостиной, а она – рядом на полу, укрывшись моим пледом «Ред Сокс».
На следующий день после нашего разговора с Зукхартом в клинику пришел инвестиционный банкир по имени Джим Кавано. Даже банкиры с Уолл-стрит выглядят как дети, когда сидят в моем кресле с голубым слюнявчиком на груди. Я бы не удивился, если бы стоматологов на ранних стадиях обучения учили брать пациентов на руки и укачивать.
От него хорошо пахло. Кажется, я уловил нотки кардамона и белой березы. Люди вроде Кавано, работающие в финансовых организациях и юридических фирмах, всегда источают ароматы дизайнерских парфюмов и лосьонов после бритья. Я представлял, как эти испарения конкурируют – на молекулярном уровне – и вступают в жестокие кровавые битвы со своими соперниками в каждом конференц-зале, каждом коридоре, каждом кабинете и каждом салоне личного самолета. Единожды нюхнув Кавано, я понял, что его свирепые душистые флюиды выходят с каждого поля битвы неразбавленными победителями.
Когда я сел рядом, он читал что-то в я-машинке. Его пальцы гладили и постукивали экран, придавая цвет и объем мельчайшим подробностям его портрета. Он оторвался от экрана, чуть помедлил – какой-то глюк души – и ответил на мое рукопожатие. Затем спрятал машинку в карман, и она еще долго там вибрировала и тренькала. Я включил свет и взял протянутый Эбби зонд. Опасения миссис Конвой оправдались: в одной из моляров внизу справа зиял черный кариес, на десне вспух огромный свищ. Я убрал свет.
– Вам больно?
– Да, желчный пузырь побаливает. И спина ни к черту. Но я над этим уже работаю.
От него просто обалденно пахло. Лишь самые реакционные гетеросексуальные импульсы не дали мне уткнуться носом в его шею.
– Я имел в виду зубы.
– Зубы? Нет, с зубами все в порядке. А что?
Я постучал по кариозному зубу.
– Не больно?
– Нет.
– А здесь?
– Нет.
По идее, он должен был испытывать адскую боль. Выходит, он принимал какие-то анальгетики – а то и все существующие разом.
– Вы что-нибудь принимаете?
– Только то, что доктор прописал.
– Когда вы последний раз были у стоматолога?
– Полгода назад?.. Нет, вру. Лет пятнадцать назад? И я не пользуюсь зубной нитью, можете не спрашивать. И питаюсь отвратительно. Выпиваю двадцать банок «колы» в день, и то – в лучшем случае, обычно больше. Это ведь полезней, чем нюхать кокаин, правда? Хотя для зубов вряд ли. Я знаю, что метамфетамин вреден для зубов, но кокаин – не метамфетамин, так ведь? В плане зубов? А почему вы меня допрашиваете? Я начинаю нервничать. У меня ни разу в жизни не было кариеса.
– Теперь есть.
– Но я к вам даже не собирался!
– А куда вы собирались?
– На эту проблему можно закрыть глаза?
В общей сложности я насчитал у него шесть кариесов, а десны были поражены пародонтозом.
– Также наблюдается некоторая подвижность, – сказал я. – Вот здесь и здесь.
– Подвижность?
– Зубы у вас шатаются.
– Зубы?!
– Возможно, удастся их спасти…
– Возможно?!
– Но тянуть с этим нельзя.
– Ничего не понимаю, – сказал он.
Иногда я встречаю такую реакцию у пациентов. Растерянность. Это что, правда случилось? Со мной? А как же мое образование, моя карьера, моя национальность? Я голосую за республиканцев! У меня полная медицинская страховка, включая стоматологию! Нет, ваш диагноз определенно нужно пересмотреть, доктор.
Я не получаю удовольствия от того, что открываю пациентам глаза на правду: их зубы в опасности, здоровье ослабло, и впереди – очень много боли. Но мне нравится наблюдать, как испаряется их чувство собственного превосходства. Высокое положение в обществе больше ничего тебе не дает, ты ничем не отличаешься от простых смертных. Ты смертен, и это ужасно. Ты – маленький человек, а мир огромен, небо безгранично, и нормальная еда – очень-очень далеко, тебе не дотянуться. Добро пожаловать в новый мир, он уже никуда не денется. Да и не девался, он всегда был здесь, ты просто не видел его за плечами водителя, швейцара и того азиата, что подает тебе еду навынос.
– Послушайте, – сказал я. – Спасти ваши зубы можно. И десны тоже. Вы избавитесь от неприятного запаха…
– Какого неприятного запаха?
– И если после всех этих процедур вы будете ежедневно пользоваться нитью и ирригатором, полоскать рот, дважды в день осторожно чистить зубы мягкой электрической щеткой, правильно питаться, то ваши зубы станут как новенькие, и вы сможете забыть об этих проблемах навсегда. После пятнадцати лет полного пренебрежения собственным здоровьем это самое настоящее чудо, правда?
Первую половину дня я убил на лечение банкира. Его я-машинка то и дело вибрировала, но ответить он не мог, потому что сидел в кресле стоматолога.
– Слава богу, он послал меня, а не кого-нибудь другого! – сказал Кавано, когда я закончил. – Будь моя воля, я бы никогда не пошел к стоматологу. Думаете, он все знал?
– О ком вы говорите?
Он сел, и на меня вновь пахнуло райскими кущами, этими дивными fleurs буйной маскулинной весны.
– О Пите Мерсере.
– Миллиардере?
– Да. И моем боссе. Он просил передать вам это.
Кавано вручил мне конверт. Внутри была записка:
Мне бы хотелось с вами побеседовать. Я поручил Джиму дать вам номер моего мобильного. Пожалуйста, позвоните как только сможете. П.М.
Мы еще не говорили о суициде твоего отца, – написал он. – Если бы он знал о своем месте в мире, возможно, он бы не покончил с собой. Грозит ли тебе такая опасность? Мысли о самоубийстве закрадываются? Как часто? Я знаю, что ты заблудился, но друг мой! Ты ведь потомок великого народа!
Чего тебе от меня надо? – ответил я. – Чего тебе надо, чего тебе надо, чего тебе надо?
Чтобы ты помог мне возродить этот народ.
Городской воздух колыхался и дрожал от зноя. Солнце было везде и нигде, оно дышало в шахтах и коридорах города, заполняя улицы обессиливающим жарким пульсом. От этого я и остальные пешеходы испытывали дискомфорт на уровне кожных пор. Пот скапливался над каждой губой и в каждой впадине. Такси ослепительно сверкали на солнце. Тенты и навесы потрескивали. Асфальт, которым заливали ямы на дорогах, плавился, а листья деревьев замерли от ужаса в неподвижном воздухе.
Я договорился встретиться с Питом Мерсером в Сентрал-парке. Он не хотел беседовать в офисе.
Я не знал, чего ждать. В жизни не встречал ни одного миллиардера. Наверно, это очень дисциплинированный человек. Встает на рассвете, занимается спортом – четкая, повторяющаяся изо дня в день последовательность силовых упражнений и кардио, – и успешно поглощает необходимую дозу клетчатки. Больше всего от такого строгого режима выигрывают его ЖКТ и банковский счет. Каждая его минута расписана, даже количество выпитой жидкости строго отмерено заранее. Он бреется каждый день, независимо от настроения, а заодно посещает маникюршу, душится и умащается лосьонами, надевает свежий костюм и галстук. Словом, это такой человек, которым я бы никогда не стал – даже если бы в запасе у меня оказалась тысяча жизней.
Однако на скамейке меня поджидал человек в поношенных камуфляжных штанах и туристических ботинках. Он ел пятидолларовый сэндвич, купленный у уличного торговца. Невозможно сохранять достоинство, поедая такую штуку. Ему приходилось наклоняться вперед, роняя капли соуса на землю между широко раздвинутыми ногами. Он держал в горсти штук шестнадцать салфеток разной степени загрязненности, и еще полдюжины смятых валялись рядом на скамейке. Завидев меня, он вскочил и, еще дожевывая, принялся вытираться, чтобы пожать мне руку хоть сколько-нибудь чистой частью тела.
Я сел на скамейку. Волосы у него были пострижены коротко и расчесаны на консервативный пробор. Единственное, что выдавало его возраст, – пакетики «Эрл Грея» под глазами и чуть дряблая кожа на шее. Словом, выглядел он совершенно непритязательно – но при этом мог скупить весь Манхэттен к югу от Канал-стрит.
– Спасибо, что согласились встретиться. Я с большим интересом читаю ваши твиты. «Мы обрели утешение в интимности маргинализации». Когда это было? Сегодня?
Мои твиты! Он решил, что это пишу я!
– У меня сложилось впечатление… – начал я. – Вы публично опровергли…
Он пожал плечами.
– А что мне опровергать? У них нет задокументированной истории и каких-либо сведений о прошлом. Мифы противоречат Библии. Только сказки о чудесном спасении, не подкрепленные никакими фактами. Как вы писали… «угнетенные донельзя»? Что-то в этом духе. В лучшем случае мы располагаем неким генеалогическим древом и не внушающими доверия образцами ДНК. Неужели этого достаточно, чтобы заставить кого-либо что-либо опровергать?
– Но ваша контора только что опровергла подозрения…
– Если бы по миру пошли слухи о том, что я дышу кислородом, я бы попросил своих подчиненных опровергнуть эти подозрения. Я ценю свою личную жизнь.
– Я тоже.
Он вручил мне пакет с сэндвичем.
– Купил вам обед.
– Спасибо.
– Я, правда, не знал, вегетарианец вы или нет. Они вроде все вегетарианцы.
Интересно, кто это – «они»?
– Нет, я слишком люблю мясо.
– Я тоже, – сказал он.
Я открыл пакет. Из пробоины в фольге сочился горячий соус.
– Спасибо, что согласились встретиться, – повторил Мерсер. – Вы наверняка очень занятой человек.
– Не занятее вашего, – сказал я.
– И спасибо, что полечили Джима. За это вам признательна вся контора.
– От Джима очень хорошо пахнет, этого не отнять, но ему стоит всерьез заняться своим здоровьем.
– Как и нам всем, – сказал он. – Почему вы решили стать стоматологом?
– Все оральная фиксация виновата.
Он громко расхохотался. Далеко не все находили эту шутку смешной. Да это и не шутка вовсе, просто обычно люди ждут от меня более приличного ответа. Они не любят, чтобы им напоминали о потенциальных извращенских замашках их врача, особенно врача-стоматолога, который регулярно засовывает руки им в рот. Реакция Мерсера мне понравилась. Люблю людей с чувством юмора.
– В юности я влюбился в одну девушку, – сказал я. – Ее рот стал для меня откровением.
– Я тоже любил пару ртов, однако же стоматологом не стал.
– Мой труд оплачивается куда хуже, чем ваш. Вам бы не понравилось.
Он снова засмеялся.
– Да уж. Но делание денег – это пустая трата времени.
– Вы еще не пробовали убедить пациента пользоваться зубной нитью.
– Непростая задача?
– Я сам иногда сомневаюсь в пользе зубной нити. Но сомнения быстро проходят.
– Я раньше никогда не пользовался нитью, – сказал Мерсер, – а потом вдруг начал и обалдел, сколько всякой дряни скапливается у меня во рту. Типа: ого, да это ж целая голяшка! Ни фига себе! А тут полведра попкорна!
– Наверно, у вас глубокие десневые карманы.
– Что, они так и называются – десневые карманы? Какая гадость.
– Гадость? В следующий раз я вас позову на удаление ретинированного зуба. Надо крепко схватить щипцы, потом сделать ими несколько «восьмерок» и рвануть изо всех сил. Иногда, бросая зуб на поднос, мне кажется, что нервы еще шевелятся.
Мерсер вытаращил глаза от ужаса.
– Лучше делайте деньги, – подытожил я.
Он встал и отнес мусор в урну. Я не ожидал, что он мне понравится.
За день до этого я посмотрел в Интернете видеоролик. Мерсер выступал перед Комитетом США по надзору и правительственным реформам – рассказывал о финансовом кризисе 2008 года. Тогда он поставил все против системы и выиграл. Безо всякой иронии Мерсер заявил, что этот парадокс лишь доказывает эффективность работы системы. Представитель Калифорнии выразил несогласие и настойчиво попросил Мерсера объяснить свою «удачу». «Удача тут ни при чем», – ответил Мерсер и подробно описал ход своих мыслей на конец 2007 года. Мы слишком долго позволяли себе безрассудную роскошь – выдачу ипотечных кредитов без первоначального взноса, мы пытались защититься от рисков посредством неконтролируемой торговли кредитными дефолтными свопами. Мерсер сделал нелогичный ход, который – и вот еще один парадокс рыночной экономики – на самом деле оказался вполне логичным. «В этой стране умные люди всегда делали деньги на эксплуатации правящих сил. Кто находится у руля – либералы, консерваторы, демократы, республиканцы, – совершенно неважно. Пусть они действуют, а мы изучим их действия и найдем благодатную почву для эксплуатации. Дают беспроцентные кредиты? Взвинтим цены на активы. Индексируют курс валют? Спекулируем на внешнем долге. Правящие круги призваны защищать капитализм, особенно в Америке. Мы должны быть умнее правящих кругов», – сказал Мерсер представителю правящих кругов.
«Если позволите провести аналогию, мистер Уоксмэн, которая сейчас покажется вам весьма натянутой, я замечу, что экономическая система Америки – да и всего развитого мира – своей концентрацией власти и коррупционностью напоминает Католическую церковь в века, предшествующие Протестантской Реформации. Эту систему контролирует небольшая группа инсайдеров, которые охотно пойдут на все, что поможет им получать огромные прибыли и ни с кем не делиться. Впрочем, на этом сходство заканчивается. Почему страдающие от такой системы до сих пор не взбунтовались? Если в случае с церковью люди боялись вечных мук, то сейчас люди – я имею в виду тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, сдает машину в автосервис, сам ходит в супермаркет и все такое, – просто не знают, сколь велики масштабы надувательства. Те же, кто хоть чуть-чуть догадывается, безропотны. И вот пока они несведущи и безропотны, их будут эксплуатировать, а они будут терять и терять».
Под роликом была пара сотен комментариев, полных бессильного гнева.
Я выудил из пакета сэндвич и принял на скамейке ту же позу с широко раздвинутыми ногами. В такую жару я почти не ем, но обижать Мерсера не хотелось. Он вернулся к скамейке и, пока я жевал куриную шаверму, поведал мне свою историю.
Он поехал на могилу матери в Рае. На кладбище, когда он уже возвращался к машине, к нему подошел человек с туго набитым саквояжем. Мерсер решил, что это журналист, но потом увидел, что человек совсем не похож на журналиста.
– А как выглядят журналисты? – спросил я.
– Легкомысленными. Или заносчивыми.
– А Грант Артур какой?
– Он выглядел как человек, принесший себя в жертву делу.
Первым делом Артур сообщил ему, что знает, кто он такой – Пит Мерсер, – но этот самый Пит Мерсер не знает, кто он такой. Быть может, эти слова показались Мерсеру любопытными или даже задели его за живое – как бы то ни было, он остановился и решил выслушать Артура. С какими только просьбами не обращались к Мерсеру: основать стипендию для изучающих внеземные цивилизации, пожертвовать деньги на освобождение живущих в неволе слонов, поддержать кампанию по включению рыцарского поединка в число олимпийских видов спорта, подкупить российский парламент и помочь слепой женщине со слепой собакой купить дом в Хэмптонсе. В обычной ситуации Мерсер не усадил бы незнакомца в машину и не стал бы слушать пространных сказок о великом истребленном народе и утраченном наследии. Но на сей раз он именно так и сделал; исследования Гранта Артура его потрясли.
– До встречи с ним я ничего не знал о своей семье. Ну, понятное дело, кроме имен родителей и бабушек-дедушек. Некоторые документы, собранные Артуром, датировались шестнадцатым и пятнадцатым веками. Минут сорок ушло только на то, чтобы их выложить. Потом мы расстались, и первым делом я отдал все бумаги независимому специалисту по генеалогии. Попросил проверить все имена и даты. Она не нашла ни единой ошибки или фабрикации до тысяча шестисот пятидесятого года.
– А потом что?
– Она зашла в тупик. Последний документ Артура датировался тысяча четыреста семьдесят четвертым годом. Оказалось, это очень приятно – узнать, что твой род уходит корнями в такое далекое прошлое, – произнес Мерсер. – Вы испытали похожие ощущения? Или у вас было по-другому?
Я почувствовал себя… не у дел. Фруштику выложили всю информацию о его роде, теперь вот и Мерсеру. А я чем хуже?
– На меня у них другие планы, – сказал я. – Мне ничего такого не показывали.
– Ничего?
– О моей генеалогии – ничего.
– А анализ ДНК у вас взяли?
Я помотал головой.
– Тогда откуда вы знаете?..
Я рассказал ему про сайт клиники, страничку на Фейсбуке и аккаунт в Твиттере.
– Они сделали вам сайт без вашего разрешения?
Я кивнул.
– И все эти твиты писали не вы?
Неужели он был так любезен, купил мне сэндвич, смеялся над моими шутками и вообще решил со мной встретиться исключительно из-за моих твитов?
– Боюсь, что нет.
– Так вы, возможно, и не принадлежите к ульмам. Они вас просто используют!
– Возможно.
Он отвернулся и посмотрел вдаль. Затем хлопнул себя по ляжкам и встал.
– Что ж…
– Вы уже уходите?
– Не хочу отнимать ваше драгоценное время. – Он протянул мне руку. – Огромное вам спасибо за помощь.
Я наконец-то встал и пожал ему руку.
– Разрешите поинтересоваться, чем же я вам помог?
– Серьезные люди не занимаются хищением личных данных других людей, не пропагандируют свою идеологию от чужого имени. На вашем месте я бы нанял хорошего адвоката. Боюсь, вы стали жертвой аферы, и я тоже. Любопытная вышла история… – добавил он, прежде чем уйти. – Жаль, что она так быстро закончилась.
Он наверняка прав, подумал я. Это всего-навсего афера. Стремительный уход Мерсера из парка напомнил мне, что можно мыслить здраво, оставить всю эту смехотворную чушь позади и никогда к ней больше не возвращаться.
В выходные я отправился в торговый центр – надо было многое обдумать. Что я чувствовал? Облегчение? Разочарование? Опять гнев?
Когда несколько лет назад я прекратил покупать вещи, сэкономленные деньги я стал копить – с намерением сделать что-нибудь хорошее для мира. Вместо того чтобы приобрести некую вещь, я записывал ее цену в блокнот, а в конце года складывал все цифры и жертвовал получившуюся сумму на какое-нибудь хорошее дело. Гаити. Борьба с голодом. Молодые семьи, отважившиеся жить вместе с рогатым скотом в какой-нибудь богом забытой глуши. Насколько я могу судить, толку от моих денег не было никакого. На Гаити по-прежнему царит нищета, голод тоже никуда не делся. Я не ждал, что смогу избавить мир от всех болезней и напастей, однако все мои попытки привели лишь к одному: к увеличению спама в моем почтовом ящике. Поднимать экономику и тем самым повышать уровень жизни – это одно, а пытаться сделать мир лучше посредством нескольких пожертвований – совсем другое. Я лишь убедился в ничтожности своих усилий и оттого впал в тоску.
После встречи с Мерсером я решил начать покупать. Причем теперь я мог покупать с чистой совестью, шопинг меня ободрял и утешал. А после того как мне открыли глаза на собственную наивность, я очень нуждался в ободрении и утешении. Но, бродя по коридорам торгового центра, я никак не мог найти того, что мне действительно нужно – и чего у меня до сих пор не было. Я решил не завышать планку и вошел в магазинчик «Холлмарк», чтобы испытать на себе натиск сентиментальных открыток, вазочек в форме сердца и табличек с вдохновляющими афоризмами (А вот и табличка, которую вы искали! – «Возлюби Бога»). Потом я отправился в «Брукстоун», магазин дорогих новомодных изобретений, и посидел там в массажном кресле. Заодно испытал какую-то навороченную супертехнологичную подушку. Но массажное кресло у меня уже было – давным-давно, пока я от него не избавился, – а когда речь заходит о подушках, новым технологиям я все же предпочитаю старые.
После «Брукстоуна» я зашел в «Поттери барн». В детстве, когда мой дом был обставлен дешевой, обшарпанной и до боли знакомой мебелью, сходить в «Поттери барн» было для меня все равно что оказаться в раю. Чтобы люди полюбили ходить в церковь, думал я, надо чтобы в церкви все выглядело и пахло, как в «Поттери барн». У меня даже была мечта: в один прекрасный день окружить себя всем, что продается в этом магазине, всеми этими плетеными корзинками, ароматизированными свечами и фоторамками из матового серебра. Но это было давно. Я уже прошел ту фазу, когда моя квартира выглядела точной копией магазина «Поттери барн» – через некоторое время я полностью сменил мебель и декор. Все, что там продавалось, теперь казалось мне дешевым ширпотребом. Покупать такие вещи – значит умалять собственное достоинство и благородные порывы души. Нет, мне хотелось не купить их, а просто вернуть то ощущение – острое желание скупить весь «Поттери барн».
Примерно то же самое постигло меня и в музыкальном магазине. Надо прикупить новой музыки, решил я. Помнится, были времена, когда новая музыка не раз выводила меня из депрессии. Но уже на букве «Б» я нашел то единственное, что хотел купить. Альбом «битлов» «Rubber Soul» 1965 года выпуска. Понятное дело, этот альбом у меня уже был – сначала на виниле, затем на кассете, на диске, а теперь и на айпаде, мини-айпаде и айфоне. Я мог в любой момент достать свой айфон, подключить его к магазинным колонкам и послушать «Rubber Soul» от начала до конца. Но я хотел не этого. Я хотел купить «Rubber Soul» как первый раз в жизни. Переставить иглу с выводной канавки на вступительную часть «Drive My Car» и впервые услышать эти звуки. Но, понятно, это было невозможно. Зато я мог купить это ощущение для другого человека. Я взял с полки диск, оплатил его на кассе и вышел из магазина, обновленный и взбудораженный. Первый же подросток, которому я предложил любимый альбом, – пухлый парень, с тоской разглядывавший витрину магазина «Гейм стоп», – отказался и заявил, что ему больше пригодятся наличные. У двух других ребят не оказалось CD-плейеров. В итоге я оставил «Резиновую душу» на скамейке рядом со списанной в утиль урной, в которую кто-то бросил клок припорошенных перхотью волос.
Наконец я вошел – как делают рано или поздно все посетители торгового центра – в зоомагазин «Лучшие друзья». Большинство лучших друзей – невероятно крохотные щенята биглей, корги и немецких овчарок – были заперты в белые вольеры, где они целыми днями спали от безделья, почти не шевелясь, и лишь изредка лизали себе лапы. Что может быть лучше для подъема настроения, чем вот такой очаровательный щенок? Который развеет тучи цинизма своим безудержным восторгом и умением радоваться даже сущим мелочам? Вот зачем я приехал в торговый центр: за собакой. Освобожу одного из этих красавчиков из камеры № 9 и больше никогда не буду одинок.
А потом я вспомнил пору, когда мы с Конни – готовясь к семейной жизни и рождению детей, – решили завести собаку. Мы привезли ее домой, и у меня началась паранойя: я только и думал о том, сколь короток собачий век. Разговаривать об этом с Конни, когда она смеется и играет с щенком, было неправильно, однако я ничего не мог с собой поделать. Мне хотелось радоваться новому щенку, пока он еще щенок, ведь щенята так быстро вырастают. Это меня и тревожило: сначала он быстро вырастет, а потом быстро состарится. Человеческому глазу этот процесс незаметен, но с каждым днем пес начнет неминуемо приближаться к смерти. Когда он умрет, мы с Конни будем скорбеть – а это худшее из всего, что может случиться с человеком (после смерти, естественно). Так зачем самому на это напрашиваться? Что мы натворили?! Поддались импульсу и купили собаку, не подумав о ее скорой кончине? Я сказал Конни, что хочу вернуть щенка в магазин. Я не мог даже опуститься на корточки и поиграть с ним – только сидел на диване и рыдал, умоляя Конни отвезти собаку обратно. У меня язык не поворачивался назвать щенка щенком и тем более Бини. Бини, ага! Я называл его просто «собакой». Конни залезла на диван и изо всех сил постаралась меня понять. Разумеется, она решила, что это как-то связано с моим отцом. Но Бини Плотц-О’Рурк и Конрад О’Рурк не имели друг к другу никакого отношения. Вряд ли Бини когда-нибудь застрелится в ванной после неудачного курса электрошоковой терапии. Бини хотел лишь радоваться сущим пустякам. Вы представляете, каково это – видеть чужой восторг от сущих пустяков, когда тебе самого пожирают мысли о смерти? В итоге Конни оставила Бини в своей квартире. Иногда я гладил его, когда заходил в гости, но не больше того. И магазин «Лучшие друзья» я покинул с пустыми руками.
К тому времени остальные посетители центра начали действовать мне на нервы. Они были не просто странные, а какие-то больные, увечные, изъеденные диабетом и вечными долгами. Поначалу я пытался убедить себя, что таких людей не большинство, что это просто место неудачное и скоро мимо непременно пролетят духи здоровья и красоты, с голыми грудями, раскинутыми руками и шелковыми знаменами на плечах. Однако мимо проходили лишь одинаково неполноценные уроды, жирные свиньи и тощие крысы, за которыми плелись неказистые дети и шаркающие глухие старики. Вот они, мои соотечественники. Я нашел утешение в единственной привлекательной женщине, которая, несомненно, пришла сюда за дорогой сумочкой или парой дизайнерских туфель. Она шагала решительно и бодро, не обращая внимания на калек и орущих детей, и через мгновение скрылась из виду. Я сдался и пошел ужинать в «Ти Джи Ай Фрайдис».
Официант, принимавший мой заказ, был с ног до головы в форменной одежде. Этот прикид часто становится поводом для насмешек в любом уголке Америки, но мне было отрадно его видеть, потому что я не забыл, как мальчиком радовался редким ужинам в «Ти Джи Ай Фрайдис». Видя эту форму, я вспоминал, с каким воодушевлением мама, папа и я принимались выбирать самые недорогие блюда в меню. Теперь у меня были деньги, я всегда заказывал несколько закусок, самый дорогой стейк, десерт и пару коктейлей ядовитых цветов. Есть не хотелось. Я вообще больше не испытывал чувства голода, но не мог отказать себе в этом удовольствии. Оно никогда не приедалось. «Поттери барн» и «Резиновая душа» приелись, однако возможность не ограничиваться куриными пальчиками с медово-горчичной заправкой в «Ти Джи Ай Фрайдис» приносила мне чувство морального удовлетворения по сей день.
За едой я стал гадать: можно ли мое отношение к «Поттери барн» и «Резиновой душе» перенести и на людей? Пришлось признать, что с семьей Сантакроче так и случилось: когда-то они были для меня всем, а теперь стали ничем. Произойдет ли то же самое с Конни и Плотцами? Мне не нравилось думать о Конни как о некой использованной и выброшенной за ненадобностью вещи, и обычно я мог сказать себе, что это не так. Но в тот день, меланхоличный и пресыщенный чересчур богатым ассортиментом товаров, я решил, что больше не знаю, чего действительно хотел когда-то от Конни – самой Конни или этого чудесного ощущения потери собственного «я», влюбленности в нее, в ее семью и иудаизм – все это я потерял, если вообще когда-то мог назвать своим.
По дороге домой я остановился выпить пива в пивной лавке. Оказываясь в такой лавке, я всегда ищу «Наррагансетт» – его пил мой отец, когда смотрел по телевизору бейсбол. В поисках нужного напитка на пыльном стеллаже с редкими сортами, я наткнулся на теплую упаковку пива «Ульм», сваренного в Ульме, Германия. «Так, значит, не афера?» – подумал я.
Слушай, да такое постоянно случается. Можешь не извиняться, – написал он. – Думаешь, ты первый сказал: хммммм, как-то это все подозрительно? Нет, ты не первый и не последний. Мы все в какой-то момент давали задний ход. Никто не хочет остаться в дураках. Мы были бы горсткой легковерных идиотов, если бы нас никогда не мучили сомнения. Это испытание твоей веры, Пол. Испытание, которое ты с честью выдержал. Испытание, которое сделает тебя сильнее. Парадокс, не правда ли, что религия, основанная на сомнении, требует от своих адептов столько всего принимать на веру?
Я ответил:
Сколько вас? Сто? Двести?
По моим приблизительным подсчетам – около двух-трех тысяч. Но все разбросаны по миру.
Когда миссис Конвой встала в открытых дверях и позвала: «Маккинси?» – Конни вдруг повернулась ко мне и сказала: «Я должна кое в чем признаться».
Я придвинулся ближе. В замкнутом пространстве приемной, в окружении крутящихся офисных стульев и стеллажей с папками, придвинуться ближе означало просто обернуться. Конни сидела на стуле, одетая исключительно в оттенки серого – серую юбку, темно-серые и светлеющие книзу колготки, серую футболку с темно-серой птицей, – а шею повязала объемным полупрозрачным синим шарфом. Еще на ней были синие теннисные туфли, ни в коей мере не претендующие на звание спортивной обуви. Волосы она собрала сзади с помощью невидимок – казалось, смотришь на железнодорожное депо с высоты птичьего полета.