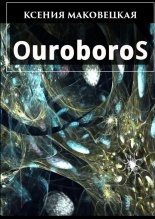Есенин глазами женщин Антология

С приходом Есенина у взрослых менялись лица. Кому-то становилось не по себе, кто-то умирал от любопытства. Детям все это передается.
Первые его появления запомнились совершенно без слов, как в немом кино.
Мне было пять лет. Я находилась в своем естественно-прыгающем состоянии, когда кто-то из домашних схватил меня. Меня сначала поднесли к окну и показали на человека в сером, идущего по двору. Потом молниеносно переодели в парадное платье. Уже одно это означало, что матери не было дома – она не стала бы меня переодевать.
Помню изумление, с каким наша кухарка Марья Афанасьевна смотрела на вошедшего. Марья Афанасьевна была яркой фигурой в нашем доме. Глуховатая, она постоянно громко разговаривала сама с собой, не подозревая, что ее слышат. «Вы котлеты пережарили», – скажет ей мать в ухо. Она удалялась, ворча под общий хохот:
– Пережарила… Сама ты пережарила! Ничего. Сожрут. Актеры все сожрут.
Старуха, очевидно, знала, что у хозяйских детей есть родной отец, но не подозревала, что он так юн и красив.
Есенин только что вернулся из Америки. Все у него с головы до ног было в полном порядке. Молодежь тех лет большей частью не следила за собой – кто из бедности, кто из принципа.
Глаза одновременно и веселые и грустные. Он рассматривал меня, кого-то при этом слушая, не улыбался. Но мне было хорошо и от того, как он на меня смотрел, и от того, как он выглядел.
Когда он пришел в другой раз, его не увидели из окна. Дома была и на звонок пошла открывать Зинаида Николаевна.
Прошли уже годы с тех пор, как они расстались, но им доводилось иногда встречаться. В последний раз они виделись перед отъездом отца за границу, и эта встреча была спокойной и мирной.
Но сейчас поэт был на грани болезни. Зинаида Николаевна встретила его гостеприимной улыбкой, оживленная, вся погруженная в настоящий день. В эти месяцы она репетировала свою первую роль.
Он резко свернул из передней в комнату Анны Ивановны, своей бывшей тещи.
Я видела эту сцену.
Кто-то зашел к бабушке и вышел оттуда, сказав, что «оба плачут». Мать увела меня в детскую и сама куда-то ушла. В детской кто-то был, но молчал. Мне оставалось только зареветь, и я разревелась отчаянно, во весь голос.
Отец ушел незаметно.
З. Н. Райх
И сразу вслед за этим возникает другая сцена, вызывающая совершенно другое настроение. На тахте сидят трое. Слева курит папиросу Всеволод Эмильевич, посередине облокотилась на подушки мать, справа сидит отец, поджав одну ногу, опустив глаза, с характерным для него взглядом не вниз, а вкось. Они говорят о чем-то таком, что я уже отчаялась понимать.
В шесть лет меня стали учить немецкому, заставляли писать. Я уже знала, что Есенину принадлежат стихи «Собрала пречистая журавлей с синицами в храме…»[9], что он пишет другие стихи и что жить с нами вовсе не должен.
У нас появилась первая «бонна» – Ольга Георгиевна. До революции она работала в той же должности ни больше ни меньше как у князей Трубецких, в том великолепном особняке, который стоял на Новинском рядом с нашим домом и где потом расположилась Книжная палата.
Ольга Георгиевна была суховата, грубовата и начисто лишена чувства юмора. А по ночам она рыдала над детскими книгами. Как-то я проснулась от ее всхлипываний. Над книгой она держала полотенце, мокрое от слез, и бормотала: «Господи, как безумно жаль мальчишек».
Детской нам служила просторная комната, где мебель почти не занимала места, посередине лежал красный ковер, на нем валялись игрушки и возвышались сооружения из стульев и табуреток.
Помню, мы с братом играем, а возле сооружений сидят Есенин и Ольга Георгиевна. Так было раза два. Ему не по себе рядом с ней, он нехотя отвечает на ее вопросы и не пытается себя насиловать и развлекать нас. Он оживился, лишь когда она стала расспрашивать о его планах. Он рассказал, что собирается ехать в Персию, и закончил громко и вполне серьезно:
– И там меня убьют.
Только в ресницах у него что-то дрожало. Я тогда не знала, что в Персии убили Грибоедова и что отец втихомолку издевается над княжеской бонной, которая тоже этого не знала и, вместо того чтобы шуткой ответить на шутку, поглядела на него с опаской и замолчала.
Один только раз отец всерьез занялся мной. Он пришел тогда не один, а с Галиной Артуровной Бениславской. Послушал, как я читаю. Потом вдруг принялся учить меня… фонетике. Проверял, слышу ли я все звуки в слове, особенно напирал на то, что между двумя согласными часто слышен короткий гласный звук. Я спорила и говорила, что, раз нет буквы, значит, не может быть никакого звука.
Как-то до Зинаиды Николаевны дошли слухи, что Есенин хочет нас «украсть». Либо сразу обоих, либо кого-нибудь одного. Я видела, как отец подшучивал над Ольгой Георгиевной, и вполне могу себе представить, что он кого-то разыгрывал, рассказывая, как украдет нас. Может быть, он и не думал, что этот разговор дойдет до Зинаиды Николаевны. А может быть, и думал…
И однажды, забежав к матери в спальню, я увидела удивительную картину. Зинаида Николаевна и тетка Александра Николаевна сидели на полу и считали деньги. Деньги лежали перед ними целой горкой – запечатанные в бумагу, как это делают в банке, столбики монет. Оказывается, всю зарплату в театре выдали в тот раз трамвайной мелочью.
– На эти деньги, – возбужденно прошептала мать, – вы с Костей поедете в Крым.
Я, конечно, гораздо позже узнала, что шептала она во имя конспирации. И нас действительно срочно отправили в Крым с Ольгой Георгиевной и теткой – прятать от Есенина. В доме было много женщин, и было кому сеять панику. В те годы было много разводов, право матери оставаться со своими детьми было новшеством, и случаи «похищения» отцами своих детей передавались из уст в уста.
В 1925 году отец много работал, не раз болел и часто покидал Москву. Кажется, он был у нас всего два раза.
Ранней осенью, когда было еще совсем тепло и мы бегали на воздухе, он появился в нашем дворе, подозвал меня и спросил, кто дома. Я помчалась в полуподвал, где находилась кухня, и вывела оттуда бабушку, вытиравшую фартуком руки, – кроме нее, никого не было.
Есенин был не один, с ним была девушка с толстой темной косой.
– Познакомьтесь, моя жена, – сказал он Анне Ивановне с некоторым вызовом.
– Да ну, – заулыбалась бабушка, – очень приятно…
Отец тут же ушел, он был в состоянии, когда ему было совершенно не до нас. Может, он приходил в тот самый день, когда зарегистрировал свой брак с Софьей Андреевной Толстой?
В декабре он пришел к нам через два дня после своего ухода из клиники, в тот самый вечер, когда поезд вот-вот должен был увезти его в Ленинград. Спустя неделю, спустя месяцы и даже годы родные и знакомые несчетное число раз расспрашивали меня, как он тогда выглядел и что говорил, потому и кажется, что это было вчера.
В тот вечер все куда-то ушли, с нами оставалась одна Ольга Георгиевна. В квартире был полумрак, в глубине детской горела лишь настольная лампа, Ольга Георгиевна лечила брату синим светом следы диатеза на руках. В комнате был еще десятилетний сын одного из paботников театра, Коля Буторин, он часто приходил к нам из общежития – поиграть. Я сидела в «карете» из опрокинутых стульев и изображала барыню. Коля, угрожая пистолетом, «грабил» меня. Среди наших игрушек был самый настоящий наган. Через тридцать лет я встретила Колю Буторина в Ташкенте, и мы снова с ним все припомнили.
На звонок побежал открывать Коля и вернулся испуганный:
– Пришел какой-то дядька, во-от в такой шапке.
Вошедший уже стоял в дверях детской, за его спиной.
Коля видел Есенина раньше и был в том возрасте, когда это имя уже что-то ему говорило. Но он не узнал его. Взрослый человек – наша бонна – тоже его не узнала при тусклом свете, в громоздкой зимней одежде. К тому же все мы давно его не видели. Но главное было в том, что болезнь сильно изменила его лицо. Ольга Георгиевна поднялась навстречу, как взъерошенная клушка:
– Что вам здесь нужно? Кто вы такой?
Есенин прищурился. С этой женщиной он не мог говорить серьезно и не сказал: «Как же это вы меня не узнали?»
– Я пришел к своей дочери.
– Здесь нет никакой вашей дочери!
Наконец я его узнала по смеющимся глазам и сама засмеялась. Тогда и Ольга Георгиевна вгляделась в него, успокоилась и вернулась к своему занятию.
Он объяснил, что уезжает в Ленинград, что поехал уже было на вокзал, но вспомнил, что ему надо проститься со своими детьми.
– Мне надо с тобой поговорить, – сказал он и сел, не раздеваясь, прямо на пол, на низенькую ступеньку в дверях. Я прислонилась к противоположному косяку. Мне стало страшно, и я почти не помню, что он говорил, к тому же его слова казались какими-то лишними – например, он спросил: «Знаешь ли ты, кто я тебе?»
Я думала об одном – он уезжает и поднимется сейчас, чтобы попрощаться, а я убегу туда – в темную дверь кабинета.
И вот я бросилась в темноту. Он быстро меня догнал, схватил, но тут же отпустил и очень осторожно поцеловал руку. Потом пошел проститься с Костей.
Дверь захлопнулась. Я села в свою «карету», Коля схватил пистолет…
В гробу у отца было снова совершенно другое лицо.
Мать считала, что, если бы Есенин в эти дни не оставался один, трагедии могло не быть. Поэтому горе ее было безудержным и безутешным и «дырка в сердце», как она говорила, с годами не затягивалась…
1971
Н. Д. Вольпин
Свидание с другом
От автора
Сохранить для младших современников, передать в будущее ценителям поэзии Сергея Есенина его живые слова, его суждения, пронесенные памятью сквозь всю мою долгую жизнь со дней далекой юности, – такова была моя задача. Задача и долг.
Поначалу я думала обойти молчанием все личное мое, отступить в глухую тень, показать только поэта. Но в ходе работы поняла: это неосуществимо. Да и не нужно: ни к кому не обращенные, повисшие в пустоте, слова останутся мертвы и непонятны. Да и как уйдешь от себя самой?
Знаю: возникающий в моих записях образ поэта далек от привычного канона сегодняшней Есенинианы. Но, может быть, тем лучше?
Впрочем, надо помнить: в записях моих Сергей Есенин встает более молодым, чем тот, изучаемый… С последней нашей встречи ему оставалось жить шестнадцать месяцев. Шестнадцать месяцев роста и жадного творчества.
А эта книга… Пусть ее примут какой она есть. Перестраивать ее у меня уже не достанет ни сил, ни отпущенного срока жизни.
Москва, январь 1984
Часть первая
Береги огонь
(1919–1920)
Я все о том же. Все в котомке
Воспоминаний горький хлеб.
Белый и «зеленые»
Итак, наша молодежная группа при Союзе поэтов оформлена. Назвались «Зеленой мастерской». «Сейчас, – поясняет Яков Полонский, – иначе нельзя: куда-нибудь в Малаховку и тo не проедешь. А тут – выписал командировку, пришлепнул печать и езжай хоть в Кемь!»
В группе, кроме самого Полонского, студента-медика, трогательно влюбленного в поэзию (он и сам пишет стихи, даже выпустил в свет сборничек «Вино волос»), числятся: молчаливый и зябкий Захар Хацревин (для меня он брат двух прехорошеньких девочек-малышек, учившихся, как и я, в гимназии Н. П. Хвостовой), талантливая Наталья Кугушева (в прошлом княжна Кугушева) – горбатенькая, с красивым лицом, длинными стройными ногами (они показывали, какой ее задумала природа), синими печальными глазами и чуть приглушенным чарующим голосом. Через четыре года она выйдет замуж за прозаика из «Кузницы» Михаила Сивачева (кузнец и княжна!). А в 1957 году я с горечью узнаю, что давняя моя подруга, уже овдовев, лишилась зрения. Назовем еще Евгения Кумминга (тоже брат «хвостовки»): весьма деловитый и, как мы полагали, безусловно одаренный юноша. И, наконец, тот, кого назвать бы в первую голову, кто прочнее нас всех войдет в литературу: младший друг Кумминга и его подопечный – Веня Зильбер. В группе он всех моложе. Веню мы снисходительно поучали, разбирая его стихи, что у него несомненно есть обнадеживающие задатки, но… не поэта: пусть пытает силы в драматургии, в прозе… И судили мы правильно. В дальнейшем наш Веня покажет себя и как литературовед – В. Зильбер, и как прозаик – Вениамин Каверин. А его самонадеянный покровитель Кумминг года два спустя смоется за границу, и в начале двадцать второго года я прочту на страницах белоэмигрантской газеты подписанный его именем рассказец, даже для этого издания несосветимо пошлый! Делец взял верх над поэтом и драматургом, каким мы его мнили.
Шла осень девятнадцатого года. Холод и голод. Мне передан приказ по группе: сегодня читаем в «Литературном особняке». Явка обязательна – придет послушать молодых сам Андрей Белый!
Собиралась наша «Мастерская» чаще всего на квартире у Полонского (и тогда нас робко слушала его сестра-подросток, с годами пришедшая в литературу как редактор, и совсем юная ее подруга Сусанна Жислина – в дальнейшем известная фольклористка). Реже у меня, и тогда нас приходил послушать старый друг моей семьи Яков Яковлевич Рогинский – антрополог, в ту пору только лишь начавший свой славный путь в науке. Иногда мы всей группой выступаем по разным клубам, литкружкам.
И вот приказ: явиться в «Литературный особняк». Это где-то на Поварской или Молчановке… или в Борисоглебском? Точней не помню. Я пришла, не захватив тетрадки. Читаю всегда на память. Едва ли не последней. В группе меня считают сильной, вот и приберегли «под занавес». Белый слушает очень внимательно. Я читаю свою «урбанистическую рапсодию» («С седьмого этажа»). Поэт слушает, помечая что-то на листике. Волнуюсь. Даже мой слабый голос окреп – от возбуждения: мы-де еще поспорим! Ваше дело – критика, наше – отпор! Эх, услышать бы что-нибудь ценное, по существу… Пусть разругает в разнос. Нет, исправлять не стану. Но… для дальнейшей бы работы!
Разноса не было. Андрей Белый, когда разговоры кончились, подошел ко мне и… поцеловал мне руку. Сказал, как рублем подарил:
– Спасибо! Такого пятистопного ямба я не слышал и у зрелых наших поэтов. Понимаете… ведь пятистопник в русской поэзии разработан куда меньше, чем четырехстопный ямб. Уже и то приятно, что ни разу не сбились на шестистопник. Но главное… У вас на полсотни строк («сорок четыре», – уточнила я) в одиннадцати встретилось ускорение[10], на третьей стопе – самый редкий прием! А эти ваши хориямбы на многосложных словах!
Я стою растерянная. Решив (и справедливо), что я незнакома с его терминологией (о его анализах в книге «Символизм» знаю только по пересказу подруги), Белый процитировал из прочитанного мною (бог ты мой, ведь записал же!):
- «Город затих. Шестой этаж и выше.
Или это:
- Огненно музыка росла волнами…
Тут и хориямб и ускорение на третьей стопе!
Или вот это:
- Простерлось комнате… – как там у вас дальше?»
Забегая вперед, расскажу: полгода спустя, прочитав у меня в тетради мой «Седьмой этаж», Сергей Есенин остановился на этом же двустишии:
- Простерлось комнате, ложась на крыши
- Плавучей ночи лунное крыло, —
и сказал:
– А вот это образ! Зримый образ!
Каждый отметил свое. С позиций своей школы. Однако ни тот ни другой ничего не сказал «зеленой» поэтессе по самой сути! Вескую критику от старшего поэта я услышала (впервые за весь год!) только раз: от Вячеслава Иванова – летом 1920 года, когда шел набор в Литературную студию (развернувшуюся далее в Литературный институт). На вступительном коллоквиуме я, вообразив, что мой судья – строгий классицист, прочитала давнее свое квазиреволюционное стихотворение с крепко проработанной строфой, но по содержанию поверхностное, трафаретное. И выслушала заслуженную отповедь.
Первое знакомство. Молочный брат
В Союзе поэтов – то есть в кафе почти насупротив Главного телеграфа, но несколько ближе к центру (в те годы – Тверская, 18, бывшее кафе «Домино») – отмечается вторая годовщина Октября. Я пришла, прихватив кое-кого из друзей «не-поэтов» – уж очень напрашивались.
Идут выступления. Имена почти неизвестные. Кто-то из распорядителей подходит к столику в зале.
– Сергей, выступишь?
– Да нет, неохота…
– Нехорошо. Ты же на афише.
– А меня не спрашивали… Так и Пушкина можно поставить в программу.
Из молодежи почти никто не выходит читать. Да и мало у кого нашлись бы соответственные стихи, не читанные многажды с этой эстрады. Я набралась храбрости и, едва одолев смущение, подошла к неизвестному мне до того светловолосому завсегдатаю «Домино» (как в шутку называла я Кафе поэтов).
– Вы Есенин? Прошу вас от имени моих друзей… и от себя. Мы вас никогда не слышали, а ведь читаем, знаем наизусть…
Поэт встал, учтиво поклонился.
– Для вас – с удовольствием!
И взошел на эстраду.
Тут же уместно пояснить. Незадолго до того, недели за две, я с этой же эстрады читала стихи (к сожалению, не помню, что именно я тогда прочла), и после выступления мой брат Марк рассказал мне, что меня внимательно слушали среди прочих Мариенгоф с Есениным и оба очень расхваливали. Есенин в те годы был широко известен, но еще не знаменит. Я попросила брата показать мне в публике Есенина, брат не захотел.
– Да ты сама узнаешь, он тут постоянно… И не понимаю, что ты с ним носишься… рядовой поэт, не слишком искусный…
Да, широкое признание еще не пришло к нему. Но все же на слова брата я рассмеялась: я-то знала цену Есенину уже и тогда, хоть и не ставила его выше Маяковского (перед которым преклонялась).
Итак, Есенин вышел читать.
Поднимаясь на эстраду, он держал руки сцепленными за спиной, но уже на втором стихе выбрасывал правую вперед – ладонью вверх – и то и дело сжимал кулак и отводил локоть, как бы что-то вытягивая к себе из зала – не любовь ли слушателя? А голос высокий и чуть приглушенно звонкий; и очень сильный. Подача стиха, по-актерски смысловая, достаточно выдерживала ритм. И, конечно, ни намека на подвывание, частое в чтении иных поэтов (даже у Пастернака!). Такое чтение не могло сразу же не овладеть залом. Прочитал сперва из «Иорданской голубицы» – «Мать моя – родина, Я – большевик!»; потом – «Песнь о собаке» («Утром в ржаном закуте…»).
Вот так оно и завязалось, наше знакомство. Но в «Домино» я заглядывала нечасто. Здесь самое интересное начиналось поздненько, чуть не за полночь. А я жила в комнате, сданной мне по знакомству, и приходилось соблюдать поставленные хозяйкой условия: мне не дали ключа – «звоните, стучитесь, Агаша откроет». Но бесконечно преданная хозяину (и крепко недолюбливавшая хозяйку) домработница Агаша просила приходить либо до одиннадцати, либо… совсем поздно, после двух, – а первый сон у нее уж больно крепок. Я, бывало, пока ее докричусь в окно, весь свой Всеволожский разбужу, да заодно и хозяев своих. Но к исходу декабря я устроилась на работу в «ЦУТОП» – благо там давали фронтовой паек. На обратном пути (пешком!) от Красных ворот на Остоженку заходила нередко в Союз поэтов – узнать программу на ближайшие вечера и кстати пообедать: членам Союза полагалась изрядная скидка; а где же еще можно было на обесцененную зарплату получить сытный «дореволюционный» обед? И вот, обедая в СОПО, я нередко здесь же, в «Зале поэтов», видела и Есенина. Но я не была уверена, что он меня запомнил. Останавливало и то, что мне он часто казался то ли нетрезвым, то ли очень уж ушедшим в себя. Чувствовалось, что он проходил в ту пору нелегкую полосу жизни. Не только подойти – поклониться не решалась! А между тем сам он, бывало, уставится в меня издалека, словно с осуждением… За что – за то ли, что не кланяюсь первая? Так и оказалось.
Мой друг детства (с двух лет) Саня К. попросил меня устроить и ему удешевленные обеды в нашем кафе, и я – каюсь! – посчитала возможным отобрать два-три старых своих стихотворения (написанных в канун первой мировой войны), какие можно было перелицевать на мужской род («Я одна на каменном балконе…»), и дала ему. Его приняли на их основании в Союз поэтов (так это было тогда просто!).
И вот однажды сижу я вдвоем с Саней К., обедаем… а с дальнего столика на нас посматривает Есенин. Саня спешил, ушел раньше меня. И тогда Есенин подсел к моему столику.
– Не узнаете меня? – спросил. – А мы вроде знакомы. – И осведомился, кто этот «красивый молодой человек, что сидел тут сейчас с вами».
– Молодой поэт. Недавно принят в Союз, – ответила я и ложь и правду. – Мой молочный брат.
– Молочный? Обычно девицы в ответ на непрошеное любопытство называют приятеля «двоюродным». А у вас молочный!
Завязался разговор.
– Почему, когда входите, не здороваетесь первая?
– Но ведь и сами вы ни разу мне не поклонились…
– Я мужчина, мне и не положено. Разве ваша бабушка вам не объясняла, что первой должна поклониться женщина, а мужчине нельзя – чтобы не смутить даму, если ей нежелательно признать на людях знакомство.
Я рассмеялась.
– Боюсь, хорошему тону меня учили не бабушка и не мама, а старший брат. Тут на первом месте было: не трусь! не ябедничай!
С этого дня я частенько при встречах беседую с Есениным. Как-то он, словно бы вскользь (на вопрос «Почему пригорюнились?»), сказал: «Любимая меня бросила. И увела с собой ребенка!» А в другой раз, месяца через два, сказал мне вскользь: «У меня трое детей». Однако позже горячо это отрицал: «Детей у меня двое!»
– Да вы же сами сказали мне, что трое!
– Сказал? Я? Не мог я вам этого сказать! Двое!
И только через четыре года, уже зная, что и я намерена одарить его ребенком, сознался мне, что детей у него трое: дочка и двое сыновей. «Засекреченным» сыном был, по-видимому, Юрий Изряднов. От Кости он при мне никогда не открещивался.
Нередко после программы в СОПО Есенин идет теперь меня провожать – на мою Остоженку.
Н. Вольпин
Весна 1920. В СОПО перевыборы. Погода мучительно жаркая. Закрытое голосование. На инвалидной машинке со стертой лентой, через синюю копирку печатаются списки кандидатов в правление. «Все как у взрослых», – смеюсь я. И прошла с моим листком в третью, совсем маленькую комнату правления. Туда же за мной и Есенин.
– Восемь, три? – спрашивает.
– Нет, – поправляю, – всех десять: семеро в члены правления и трое кандидатами…
Ох и весело же он рассмеялся!
– Я не о выборах. Всеволожский переулок – а номера?
Ого! Напрашивается в гости. Я до сих пор, когда случалось Есенину меня провожать, прощалась не доходя до места – не желала, чтобы он знал, каких трудов мне стоит докричаться Агаши или полуглухой соседки Сони Р.
Что он думал при этом? Верно, подозревал, что меня караулит ревнивый друг – уж не молочный ли брат?
Оберегая мою нравственность – или свое добро? – хозяйка квартиры так и не дала мне ключа!
Умён
Усиленное внимание ко мне Есенина не прошло незамеченным.
– Ну вот, Надя, – говорит мне Наташа Кугушева, – ты теперь сдружилась с Есениным. Какой он вблизи?
– Знаешь, – отвечаю, – он очень умен!
Наташа возмутилась:
– «Умен!» Есенин – сама поэзия, само чувство, а ты о его уме. «Умен!» Точно о каком-нибудь способном юристе… Как можно!
Наташа, понятно, имела в виду то, что Есенин через два года выразит колдовской строкой о «буйстве глаз и половодье чувств». Но сейчас, окинув мыслью лучшее, что у него написано к тому дню, я кинулась в жаркий спор.
– И можно, и нужно! Вернее было бы сказать о нем «мудрый». Но ведь ты спросила, что нового я в нем разглядела. Так вот: у него большой, обширный ум. И очень самостоятельный. Перед ним я курсистка с жалким книжным умишком.
Не одной Кугушевой, так многим думалось, что в Сергее Есенине стихия поэзии должна захлестнуть то, что обычно зовется умом. Но он не был бы поэтом, если бы его стихи не были просветлены трепетной мыслью. Не дышали бы мыслью.
– Конечно, – продолжаю, – я и раньше понимала, по самим стихам его… Помнишь:
- Я еще никогда бережливо
- Так не слушал разумную плоть.
Ты вслушайся в это двустишье!.. Но, только тесней сдружившись, я узнала, насколько ум Есенина глубок и самобытен.
Наташа не приняла моих объяснений.
А что сам Есенин зовет умом?
Выскажешь ту или иную мысль и услышишь:
– В книжках вычитали? – И значат эти слова у Есенина: «Пустое! Не стоит и раздумывать над твоим замечанием».
Зато, если в ответ на что-то он спросит: «Это вы сами надумали?» – прими уже и самый вопрос как высокую оценку своей мысли.
До всего дойти своим умом, самостоятельное суждение, новый подход к вопросу, неожиданная новизна мысли – только это и ценно для него. И как же я бывала рада, когда могла честно ответить:
– А нигде не вычитала – да, сама надумала.
Рада и горда!
«Сестра моя жизнь» в СОПО
Ранней весной 1920 года у нас в «Зеленой мастерской» на квартире у Полонского живший отшельником Борис Пастернак прочитал еще не опубликованную «Сестру мою жизнь». Кроме юных поэтов нашей группы – Захара Хацревина, Полонского, Кугушевой, меня, Кумминга (Зильбера не было) – пришли послушать Сергей Буданцев с женою (поэтессой Верой Ильиной) и Борис Пильняк (этот, правда, в самом начале чтения ушел). Пастернак считал, что книгу необходимо читать всю подряд, одним духом от начала до конца. Вот так, как была она им написана. «На меня, – рассказывал он, – накатило». Но в этом был опасный просчет: большинству оказывалось не под силу с неослабным вниманием прослушать столько стихов. Все же после чтения мы договорились с Борисом Леонидовичем о его таком же выступлении в СОПО. Особенно рьяно взялась за устройство вечера Вера Ильина. Помогала в хлопотах и я. Зарождалась дружба моя с Пастернаком, и за вечер в СОПО я чувствовала себя перед ним в ответе.
А вечер шел неладно. Я как приклеенная сидела в зале перед эстрадой. Народу собралось поначалу немало, но поэт читал и читал, а ряды редели и редели.
Есенин бросил слушать сразу же. Время от времени он показывался под зеркальной аркой и подавал мне знак, чтобы я шла ужинать. Но слушателей оставались уже единицы: «многостульный пустозал», незаметно не уйдешь. А Сергей, возникая под аркой, все резче проявлял нетерпение.
Наконец он решительно подошел ко мне, взял за руку и увел во второй зал.
– Ведь вам не хочется слушать, зачем же себя насиловать?
Мои объяснения, что я-де не могу и не хочу обидеть Пастернака, Есенин начисто отверг.
– Сам виноват, если не умеет завладеть слушателем. Вольно ему читать стихи так тягомотно. Сюда приходят пожрать да выпить, ну и заодно стихи послушать.
Несет себя как личность
Теплой майской ночью мы идем вдвоем Тверским бульваром от памятника Пушкину. Я рассказываю:
– Встретила сегодня земляка. Он меня на смех поднял: живешь-де в Москве, а н разу Ленина не видела. Я здесь вторую неделю, а сумел увидеть. Что же, Ленин им – экспонат музейный?
Есенин резко остановился, вгляделся мне в лицо. И веско сказал:
– Ленина нет. Он распластал себя в революции. Его самого как бы и нет!
Вместо ответа я прочла:
- …вам я
- душу вытащу,
- растопчу —
- чтоб большая! —
- и окровавленную дам, как знамя.
Так, что ли?.. Из Маяковского. Не узнали?
Я нарочно поддразниваю спутника этим именем.
– Узнал, конечно… Из «Облака…» – И, возвращаясь к сути разговора, повторил:
– Ленина нет! Другое дело Троцкий. Троцкий проносит себя сквозь историю как личность!
– «Распластал себя в революции» и «проносит себя как личность»! Что же, по-вашему, выше? Неужели второе?
И слышу в ответ:
– Все-таки первое для поэта – быть личностью. Без своего лица человека в искусстве нет.
(Вот оно как! Политика, революция, сама жизнь – отступи перед законами поэзии!)
Сейчас, весною двадцатого, Сергей Есенин еще очень далек от замысла во весь рост дать в поэзии образ Ленина. Пройдут годы. Отойдет в глухое прошлое религиозный строй образов. «Распластал себя в революции!» Этой мысли своей поэт не отбросит. Но расценит по-новому. И мы прочтем в «Анне Снегиной»:
- «Скажи,
- Кто такое Ленин?»
- Я тихо ответил:
- «Он – вы».
Львов-Рогачевский
Лето двадцатого года. Сидим с Есениным у меня, в Хлебном, – кажется, по приезде его из Харькова. Сергей в разговоре помянул Львова-Рогачевского. Помянул, как мне показалось, уважительно. А я в ответ рассказываю о его литкружке, где некая «Каэль» (то ли Ксения, то ли Клавдия, то ли Львова, то ли Лаврова), дама в длинных локонах а-ля Татьяна Ларина с надменным лорнетом в руке, так строго спросила меня, написала ли я в жизни хоть одно рондо.
– Но, допустим, – говорю я Есенину, – за своих кружковцев он не в ответе. У меня к их наставнику другой счет, поважнее.
Год назад я как студийка неких «Курсов экспериментальной педагогики» по его заданию делала доклад о роли в поэзии параллелизма образов. Исходить мне предложено было из статей (он дал мне их сам) Веселовского и чьих-то еще. Я не ограничилась перекладом источников, привлекла и собственные соображения, подсказанные своим же поэтическим опытом и сравнительно приличным знанием новых и старых поэтов, русских и нерусских. Мой доклад именитый критик высоко одобрил, но добавил с укором: «Только почему же такие несерьезные примеры?» В докладе наряду с Пушкиным, Тютчевым, Гейне прозвучал в обильных цитатах Маяковский. Напомню: тогда, летом 1919 года, только что вышел большой сборник «Все сочиненное Владимиром Маяковским», и приобрести его было проще простого.
Не прошло и трех месяцев, как на каком-то докладе самого Львова-Рогачевского я услышала его восторженный отзыв о… «большом современном поэте Владимире Маяковском». Я восприняла это не как запоздалое принятие только теперь вдруг открывшегося критику «большого поэта», а как явную беспринципность – или хуже того: старание подладиться под советскую идеологию. Да так ли еще он верит в прочность новой власти!
Есенин слушал меня очень внимательно. Не заступаясь за критика по существу – то есть с позиции этики художника, – он отверг только последнее мое замечание.
– Выходит, верит! – И остановился на другом, видно, сильнее задевшем его: – Так-таки назвал Маяковского большим современным поэтом? И вы считаете – не по убеждению?
Мой гость призадумался: вот оно как глубоко сейчас, признание мощного его соперника в литературной среде! И не только в ней. Держись, Есенин Сергей!
Кобыльи корабли
Весна двадцатого. Работаю библиотекарем в Белостокском военном госпитале – прямо напротив Художественного театра. Работу заканчиваю в шесть, но еще задерживаюсь поужинать (в зарплату входит взамен «сухого пайка» обед и ужин).
В тот вечер, едва выйдя из госпиталя, я увидела караулившего меня Есенина: ходит с тротуара на тротуар (движение по Кузнецкому и Камергерскому было отнюдь не бойкое). На лице и во всей осанке радостная взволнованность. И нетерпение.
– Вот и вы наконец! Я вам приготовил свою новую книжку.
– О, спасибо! А я ее уже успела купить!
Сказала и тут же осеклась: глупо как! Он же мне сюрприз готовил. Вот и лицо сразу угасло…
– Но разве вы не хотите, чтобы я вам ее надписал? Я вас провожу – позволите?
– Конечно.
Бог ты мой, как сразу изменился тон, стал непривычно церемонным. Неужто вкось истолковал мои слова?
Направляемся ко мне, по моему новому адресу, то есть в Хлебный переулок. Перед витриной книжной лавки у консерватории призадержались. Разговор, естественно, заходит о стихах.
– Скажите, – спрашивает вдруг Есенин, – какое из моих стихотворений первым привлекло ваше внимание… понравилось вам?
Отвечаю без колебания:
– В «Скифах», вот это:
- Скучно мне с тобой, Сергей Есенин,
- Подымать глаза!
Он испуганно глядит на меня, на ходу весь ко мне повернувшись, голубизна глаз сгустилась в синеву. Верно, подумал: «Смеется, что ли, девчонка!» Но, проверив мой ответный взгляд, сразу успокоился. (Недаром старший брат мой внушал мне еще двухлетней, чтобы я никогда не врала: он через ноздри все прочтет, что у меня, курносой, в мозгу написано!)
Но вот мы и в Хлебном. Сергей, оценивая, обводит взглядом комнату. Очень большая, в два окна – и неплохо обставлена. В углу у входа красивые куранты башенкой. Против света глаза у гостя стали впрямь васильковыми.
Простившись взглядом с курантами, гость подходит к столу у левого окна – квадратный раздвижной обеденный стол, но для меня он «письменный». Присаживается, первым делом выводит надпись на даримой книге. Это, помнится, была «Трерядница», а надпись такая:
Надежде Вольпин
с надеждой.
Сергей Есенин.
Что ж, подумала я, пожалуй, лестно, если его «надежда» относится к творческому росту. Но поэт имел в виду другое.
Вручив мне «Трерядницу», Сергей принялся рыться в моем «книжном шкафу» – стопках книг на столе: почти сплошь стихи – главным образом, новые: Маяковский, Каменский («Звучаль Веснеянки»), Рюрик Ивнев, Максимилиан Волошин («Иверни»), Михаил Кузмин. Есть и «полное собрание сочинений» экспрессиониста Ипполита Соколова (на шестнадцати страницах). Есть немецкие и даже латинские (гимназический мой Гораций). И целая стопка книжек Сергея Есенина.
Из нее он выдергивает тоненькую квадратную, чуть меньше школьной тетради книжечку: сиреневая обложка, сверху крупными печатными буквами: «ХАРЧЕВНЯ ЗОРЬ», внизу буквами поменьше имена трех авторов: Сергей Есенин, Анатолий Мариенгоф, Велимир Хлебников. 1920. Москва.
На оборотной стороне обложки посередине анонс:
Печатается сборник «ИМАЖИНИСТЫ».