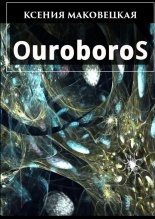Есенин глазами женщин Антология

Это брезгливое, брошенное в порицание «русофил» твердо мне запомнилось – и недаром. Скоро пойдут споры о том, вправду ли Есенин антисемит. Но может ли для антисемита слово «русофил» обернуться ругательной кличкой?
Больно было думать, что Сергей скитается бездомный и некуда ему приткнуться, если не к Гале Бениславской, с которой, видно, ему и впрямь тяжело.
А Сергеи стоит, припав спиною к стене. И вдруг разражается длинной хлесткой руганью.
Странное дело, я не из чистоплюев, иной раз и сама загну крепкое словцо. В те годы женщины нередко из особого кокетства прибегали к непечатному слову. Но меня оглушило, что Сергей, пусть нетрезвый, позволил себе так распустить язык при мне: давно ли он не позволял подобных вольностей своим приятелям при юном Сереже Златых, работавшем в их книжной лавке на Никитской! Мальчишку оберегал, а при мне… не стыдится!
И я убегаю, простившись только с Грузиновым. Тот смотрит мне вслед с осуждением. И, конечно, прав. Не должна я была бросать Сергея вот такого: растерянного, бесприютного. Это было для него как предательство. Которому есть оправдание – ему, однако, не известно.
Но здесь опять в бег моих воспоминаний должна вступить Адалис. Айя Адалис, как зовут ее в тесном поэтическом кругу.
Блудный сын
Да, мне стыдно было и больно, что накануне я отказала Есенину в ночлеге. Но совестно было и ему.
– Я, кажется, нес несусветное! Очень был пьян. Не сердитесь.
Мы сидим с ним в «Стойле» – не в «ложе имажинистов», а среди зала, поодаль от оркестра. От вина я твердо отказалась, прошу и его воздержаться. Честно пьем кофе. Кто-то подходит из малознакомых «друзей».
– Идем же, Сергей! Нам пора…
– Не пойду! Вечно куда-то тащат… Дайте мне посидеть с моей женой!
Приглашавший удаляется с группой ждавших приятелей.
Близ нас остановилась Адалис. Сергей, извинившись, отлучается уладить счет. Адалис, осмелев, подошла:
– Надя, я не в первый раз наблюдаю: удивительное лицо у Есенина, когда он рядом с тобой! Успокоенное и счастливое. Нет, правда! – Она завращала своими прекрасными, продолговатыми, голубыми в прозелень глазами, как будто выписанными на очень белой эмали. И добавляет (ох, и любит она высокопарные слова!):
– Лицо блудного сына, вернувшегося к отцу!
Передо мной возникает рембрандтовский образ. Сын на коленях. Широкая спина и на ней кисти отцовских рук. Голые посинелые ступни. А лица мы почти не видим. Только эти стертые ступни, и они выразительнее всяких глаз.
Спасибо, Айя, мне дороги твои слова. Прощаю им высокопарность. Ты все-таки истинный поэт.
По-своему
Поздняя осень двадцать третьего. Мы вдвоем на извозчике. Морозно. Но не сани – еще пролетка.
– Почему у нас с вами с самого начала не задалось? Наперекос пошло. Это ваша была вина, – уверяет Сергей. – Забрали себе в голову, что я вас совсем не люблю! А я любил вас… По-своему!
«Видно, уж слишком по-своему!» – подумалось мне. А вслух отвечаю:
– Наоборот. Я всегда это знала. Будь иначе, уж как-нибудь нашла бы в себе силу начисто оборвать нашу связь. Если не иначе, то вместе с жизнью.
И вспомнилось памятное для меня признание, которое услышала я от Сергея в ту ночь, когда С. Т. Коненков привез меня «знакомиться с Есениным».
Божественный напиток
На этот раз я все-таки решилась привести Есенина в мой каменный чулан. Не откажешь бездомному в ночлеге. Не забыты и слова Грузинова: «Тяжело ему с Галей».
– Что это? Куда вас загнали? Бардачная дыра!
Объясняю: временно, пока идет ремонт; выбора не было – селили по трое в комнату, по четверо; хочешь быть одной, так сюда.
На улице зима. В моем чулане тоже. Я вмиг растопила печку – кирпичную самоделку, накрытую чугунной плитой. Стало сразу жарко. Чайник вот-вот закипит. Но от чая Сергей отказывается, просит воды. Новая задача: в кувшине в углу чулана не вода, а лед. Через минуту, отогрев, наливаю стакан. Сергей жадно глотает эту едва оттаявшую воду. И рассказывает мне восточную притчу: о богаче, избалованном всеми благами мира.
– …И однажды подали ему утолить жажду что-то новое.
«В жизни не пивал ничего прекраснее, – сказал он, великий знаток всех вин на свете. – Божественный напиток! Как он называется?»
И ему ответили: «Вода».
Есенин о Дункан, о ее танце
Мы снова вдвоем, в каменном моем чулане, перед жарко пылающим огнем. Снова Есенин, как вошел, жадно выпил ледяной воды. А сейчас перебирает вслух свои заграничные воспоминания.
– Расскажите, как и почему вы там перебили зеркала в парижской гостинице?
Бил не он, уверяет Сергей, била Дункан. Приревновала, ну и вошла в раж. На шум явилась администрация. Я как джентльмен взял вину на себя.
«Как джентльмен?» – подумалось: – А может быть, того же требовали и деловые соображения? Как ни крути, главою фирмы «Всемирно знаменитая танцовщица и ее молодой русский муж» не он, а она.
По возникшей ассоциации спрашиваю, считает ли он, если по совести, свою Изадору крупной величиной в искусстве?
Он отвечает охотно и обстоятельно. Видно, давно сам это обдумал.
– Поначалу, – говорит, – искренно считал. Но потом, когда увидел танец другой тамошней плясуньи (имени он не назвал), недавно вошедшей в славу, я понял, что почем. Дункан в танце себя не выражает. Все у нее держится на побочном: отказ от тапочек балетных – босоножка, мол; отказ от трико – любуйтесь естественной наготой. А самый танец у ней не свое выражает, он только иллюстрация к музыке. Ну, а та, новая – ее танец выражает свое, сокровенное: музыка же только привлечена на службу.
Вспоминая сейчас это объяснение, я думаю о нынешних фигуристах, о танцах на льду, о роли и выборе музыки у них.
Суд над четырьмя. На большой полянке
Ко мне подходит Евгения Давыдовна Шор, дочь известного музыковеда и бывшая жена Вадима Шершеневича. У имажинистов она пользовалась искони неизменным и глубоким уважением. Они держались правила: долой поцелуи женских рук! Но для нее – исключение. Я видела сама, как склонялись к ее руке и Есенин, и Анатолий Мариенгоф. И вот Женя Шор, как ее зовут в нашей семье, подходит ко мне возмущенная:
– Надя, что это? Я видела вас вчера с Есениным! Мы все, все должны от него отвернуться. Все его друзья евреи, все просто порядочные люди: русский, советский поэт, как какой-нибудь охотнорядец…
Передо мной, однако, Есенин уже успел оправдаться: «тот тип», то есть незнакомец, которому он в пивной влепил пощечину, окрестив «жидовской мордой», назвал-де Есенина мужиком.
– А для меня «мужик» все равно как для еврея, если его назвать жидом. Вы же знаете, не антисемит я, у меня все самые верные друзья – евреи, жены все еврейки!
Да, я знаю, слышала не раз: он и Райх зачислял в еврейки, и Дункан. Но то было в двадцать первом году. С той поры немало воды утекло. Предстоит общественный суд (в Доме печати) над четырьмя поэтами: Алексей Ганин, Сергей Есенин, Сергей Клычков, Петр Орешин. Главный ответчик именно он, Есенин. И Есенин взял с меня слово, что я приду на суд. Он еще не знает, что я жду ребенка. Не спешу его о том уведомить.
Для меня был оставлен пропуск. Но народу набилось невпроворот, я пришла поздновато, меня не впустили, сказали, что Есенин провел с собою целую толпу девиц, хватит, мол. Что я и сама принадлежу к клану имажинистов, было оставлено без внимания. Пробую доказать, что я не со стороны Есенина, а должна высказаться в оправдание Клычкова (хотя скорее могла бы ему только навредить, вспомнив есенинское «ну его, он русофил»). Не помогло. Да и надо ли мне лезть в пекло? Еще сделается дурно в духоте. Я сейчас склонна к обморокам. Так и ушла ни с чем.
После суда Есенин ходит как оплеванный. Друзья вдвойне к нему внимательны, заботливы: еще совсем сопьется, вот и стараются оттянуть его подальше от тех троих. А мне особенно больно, что тень пала и на Клычкова. Я его всегда считала человеком большой и чистой души, ценила его дарование (и еще выше оценю, когда он перейдет на прозу!). Но им владела какая-то странная к Есенину ревность. Он и раньше, и позже не раз выказывал, что я ему очень нравлюсь, а у меня возникало чувство, точно склонность эта не лично ко мне, а к «девушке, полюбившей Есенина».
Попеняв мне, что я так и не пришла в зал суда, Сергей при новой встрече сообщает, что скоро ляжет в санаторную больницу. Уже все улажено: больница где-то в Замоскворечье, «то ли Пятницкая, то ли Полянка… Ну, Галя будет знать точно». И берет с меня слово, что я непременно там его навещу. «Адрес возьмете у Гали».
Так-то! Ей он доверяет, а как дошло до дела, Галина Артуровна не захотела сообщить мне адрес, не передала Есенину мое письмо…
Незадолго до больницы я сказала наконец Сергею, что будет ребенок. Это его не порадовало – у него уже есть дети, и с ними он разлучен. Я заодно даю понять, что отнюдь не рассчитываю на брачные узы: вряд ли, говорю, возможно совместить две такие задачи – растить здорового ребенка и отваживать отца от вина. И вот теперь, когда ему ложиться на лечение, я спрашиваю, очень ли его угнетает мысль о моем материнстве. И добавляю: «Если так, ребенка не будет». Боюсь, он угадал и заднюю мысль: «ни ребенка, ни меня». Он уверяет с жаром: дело не в нем. «Мужчина всегда горд, когда женщина хочет иметь от него дитя» (он сказал именно «дитя» – не «ребенка»). Если же он меня отговаривает, так это, твердит он, с думою обо мне: вряд ли, мол, я со всей ясностью представляю себе, насколько ребенок осложнит мне жизнь.
На том и простились до поры.
Я в своем ледяном чулане. Рвусь повидать Сергея – Бениславская упорно не дает адреса. Не знаю, где Грузинов… да, может, и он не знает. И выручает… сон.
Вижу во сне: я иду какой-то замоскворецкой улицей, то ли Ордынкой, то ли Якиманской или Полянкой; улицей, ведущей от Садового кольца к реке. Медленно так иду и слышу за спиной голос Сергея: «Обещала, а не приходишь». С горьким упреком. Решила в тот же день найти больницу – по указанию сна. И нашла. Прошла по Малой Полянке, по Ордынке, по Большой Полянке. Эта больше всего похожа на «улицу сна». Зашла в аптеку, справилась, есть ли поблизости больница или санаторий «с нервным уклоном». Мне очень любезно разъяснили, что есть: в конце Большой Полянки, почти у самой площади – «…по правую руку. Вы сразу увидите!»
Пошла разузнать. Да, лежит у них такой… Меня легко пропустили – тут без особых строгостей.
Долго ждать не пришлось. Вижу спускающегося ко мне со второго этажа по широкой внутренней лестнице Есенина. Легко, радостно. Сейчас, когда сама несколько уже отяжелела, я вдвойне остро ощущаю эту легкость, эту его природную грацию.
– Наконец-то явилась! – говорит Есенин. – Ну, идем же ко мне.
Я не стала объяснять, как узнала засекреченный адрес. Оставила на совести у его «ангела-хранителя» Галины. Она, небось, сама перед собой оправдывается тем, что сейчас встреча со мною будет ему во вред!
У Есенина большая, просторная, светлая комната, которую с ним разделяет только один пациент. Тот, увидев гостью, поспешно удаляется. Сергей говорит:
– Повезло с сожителем: как увидит, что ко мне гость или что сажусь писать, тут же уходит.
Сергей за этот короткий срок очень посвежел, окреп. Поясняет: «скучновато, конечно». Еще бы! Непривычно затянувшаяся трезвость. А вот долго ли ты ее стерпишь, мелькает в уме.
Он прочел мне два новых стихотворения – оба написаны здесь, в больнице. Сперва «Вечер черные брови насопил». Дочитал. Я повторяю на память:
- Слушать песни дождей и черемух,
- Чем здоровый живет человек!
Обсуждать не хочу. Но Есенин требует критики. Я заметила, что зря он ломает язык ради рифмы: «насопил – пропил». Можно оставить обычное «насупил» – и дать диссонансную рифму. Сама я нередко так делаю. Или «насопил» – это рязанская форма? (Была ли я права? Навряд. Есенинское «насопил» в оборот не вошло, но для данного стиха принято всеми как должное.)
Оставив мой вопрос без ответа, Сергей спешит перейти ко второму стихотворению.
Его упорно во всех публикациях относят к 1925 году. Возможно, какие-то мелкие доделки внесены позже, но мне ли было его забыть! Да и обсуждали мы его подробно… Это любимое мое: «Вижу сон. Дорога черная».
Скажут: не изменяет ли вам память? Нет, не изменяет. Разве спутает, забудет любящая такие строки:
- И на этом на коне
- Едет милая ко мне.
- Едет, едет милая,
- Только нелюбимая.
Да, я всегда знала: милых вагон, а любимой нет! Может быть, никогда и не было, сколько бы ты не выдумывал, не внушал себе и другим, что знал в прошлом, единожды, большую любовь.
Но лучше всего дальнейшее:
- Спет такой таинственный,
- Словно для единственной —
- Той, в которой тот же свет
- И которой в мире нет.
Я долго потом старалась вспомнить: «У которой тот же свет» или «От которой тот же свет»… Он все не печатал; когда-то еще выйдет наконец – посмертно – четырехтомник, и в нем эти стихи! Недооцененные. А может быть, вариант «Той, в которой» возник позже? В связи с первой публикацией этого стихотворения в Баку? Пусть докапываются литературоведы.
– Ну, – говорит Сергей, – критикуйте.
Понимаю: строчки еще не застыли, можно править.
Я сперва горячо приветствую так смело введенное в строй стиха слово «который». (Тем и себя нахваливаю: сама я еще летом двадцать первого даже на рифму вынесла «который».)
– А к чему прицепитесь? Выкладывайте!
– К метким рукам.
И поясняю: сами по себе «меткие руки» даже находка. Это хорошо.
– А что же неладно?
– Слишком откровенно притянуто ради рифмы. Вот и не веришь находке. Или, может быть, чисто звуковое неприятно: «руками меткими», какая-то возникает «миметка». Но это «ловля блох». Стихотворение как жемчужина в вашей лирике!
Не знаю, почему Есенин так долго его не публиковал. Может быть, хотел что-то подтянуть? Или другое: оно было ему слишком дорого? Так удивительная наша художница Ева Павловна Левина, бывало, договорится о продаже своей картины, а потом все никак не желает с ней расстаться и тянет с оформлением продажи музею. Впрочем, догадка едва ли правильна, никогда я не замечала у Сергея подобной авторской «скупости».
Знаю, многое в моем рассказе покажется не совсем правдоподобным – начиная с приснившейся улицы. Но нет здесь ни слова выдумки. Все вот так и было. И особенно это станет жизненным, когда я расскажу о втором и последнем моем посещении Есенина в больнице.
Я застала у него Галю Бениславскую с подругами. Сергей принимал их – и меня – не в палате, а внизу, под лестницей.
На этот раз он был со мною почти груб. И злобно говорил о Жене Лившиц.
– Вам сколько лет исполнится? (Это было незадолго до моего дня рождения.) Двадцать восемь?
– Расщедрились! Хватит с меня и двадцати четырех.
Я понимала подоплеку спора: он сам себе доказывает, что я достаточно взрослая, что он за меня не в ответе. Но говорится это чуть не со злостью – уж не в угоду ли Галине?
– Ну, да! Все еще, скажете, девочка! Мы же с вами целый век знакомы. Когда встретились?
– Осенью девятнадцатого.
– Вот тогда вам было двадцать три.
– Было девятнадцать. Мои годы просто считать: в двадцатом – двадцать. В двадцать четвертом, в феврале, будет двадцать четыре.
– Все-то она девочка! А уж давно на возрасте!
– Дались вам мои годы. Свои не забывайте.
Разговор перекинулся на Женю Лившиц.
– Она будет мужу любовь аршином отмерять, – усмехнулся Есенин (так и не склонивший Женю на «реальную любовь»). И Бениславская со всей своей стайкой весело и довольно хихикает.
Меня мучит злая мысль: как был он рад мне тогда, совсем на днях! Что же сейчас, при этих девицах, так подчеркнуто груб? И так недобро говорит о Жене? Оправдывается перед Галиной?
И я радуюсь уже созревшему решению переехать в Петербург (еще Ленин жив, и город носит именно это имя – не Петроград). Мне вдруг становится ясно: Сергею до смерти хочется выпить, он еле терпит свою трезвость. Не мне тут решать. Пусть Бениславская сама посоветуется с врачами насчет вина. Хотя бы в самой малой дозе. Из всех гостей я первая поднялась уходить. Сергей с неожиданной – покаянной – теплотой прощается со мною.
Привожу Есенина к Гале
Сергей заявился ко мне на Волхонку. В мой ледяной чулан.
– Едем! – И везет меня, уже в санях, в какой-то новый для меня ночной локаль (много их развелось по Москве!). Где-то между Тверской и Дмитровкой, в переулке. Полуподвал. Знакомых не вижу. Есенина сразу перетянула к себе чужая мне компания: похоже – актеры. А я сижу за нашим столиком, куда нам подали кофе. Грузноватая, игриво-кокетливая, немолодая довольно красивая женщина обволакивает Есенина льстивым вниманием (пошло-эстрадным, отмечаю мысленно). А со мною разговорился некий американец. Журналист, что ли? Обрадовался, что я, хоть и туго, могу отвечать на его языке. Английский у нас в те годы был мало распространен. Подсаживается (откуда взялся?) Иван Грузинов. Просит не оставлять здесь Сергея. («Кроме вас, тут никого из друзей!»)
– А вы?
Грузинов объясняет, что живет не дома, позже двенадцати возвращаться не может. И, как на грех, никого из знакомых вокруг!
Грузноватая фея все еще вьется вокруг Есенина, выламывается гусеницей. Грузинов сбежал, перекинув на меня свой долг добровольной няньки. Американец, по-своему поняв создавшееся положение, горячо объясняет, что мне нельзя оставаться, что я должна показать поэту, что такое женская гордость: «Он привел вас, а сам…»
Откуда только взялись у меня слова! Бегло, уверенно на чужом языке я пытаюсь втолковать иностранцу, что друзьям Есенина сейчас не до личных счетов. Поэт, большой русский поэт гибнет у нас на глазах. Тут не до бабьего мелочного самолюбия. Я сегодня взяла на себя довести его до крова и…
Кончить я не успела. Сергей заметил внимание ко мне американца. Кинулся к нам, схватил меня за руку, бросил коротко: «Моя!» – и уже опять, но как-то поскучнев, ведет игру с приглянувшейся ему пожилой прелестницей. Вижу, и она изрядно перебрала. Ее спешат увести.
– Не пора ли и нам?
Но Сергей вдруг вспомнил, что должен прихватить отсюда ужин для Гали, она больна, он ей обещал. Галя весь день ничего не ела…
Новая задержка. Проходит чуть не полчаса, пока нам выносят пакет со снедью. Мы выходим вдвоем из опустелого зала, Сергей, шатаясь, сует мне пакет.
Я не беру. Пусть сам и несет, раз пообещал. Сильный мороз, а я потеряла одну перчатку. Или во мне заговорила некрасивая злоба на Бениславскую? На улице Сергей, показалось мне, сразу протрезвел. Я не соображаю дороги – куда нам, в Брюсовский? Увы, я ошиблась, на воздухе его и вовсе развезло. Он дважды падал, силенок моих не хватало, чтобы удержать – удавалось разве что немного ослабить удар при падении. По второму разу Сергей, едва сделав несколько шагов, рванулся назад: исчез пакет! Ищем – нигде не видать… Верно, обронил раньше… Мне стало стыдно. Но что уж теперь!.. Да мы почти у дома.
Больная сама поспешила открыть на звонок. Это тем более странно, что дом полон ее подруг. Смотрит на меня. Удивленное:
– Вы?
Не ждала, наивная ревнивица, что я приведу Есенина к ней, не к себе!..
А тот, запинаясь, винится, что не донес ее ужин. Галя с откровенным огорчением всплеснула руками.
Меня Сергей не отпускает – куда ты, надо же хоть обогреться.
И вот он возлежит халифом среди сонма одалисок. А я тихо злюсь: да разве не могли они сварить хоть кашу, хоть картошку своей голодной повелительнице? Или партийное самолюбие запрещает комсомолке кухонную возню? Дубины стоеросовые!
Различаю среди «стоеросовых» стройную Соню Виноградскую и еще одну девушку, красивую, кареглазую, кажется, Аню Назарову.
Идет глупейшая игра, еще более пошлая, чем та, давешняя, с пожилой дивой в обжорном ночном притоне. «А он не бешеный?», «Пощупаем нос. Если холодный, значит, здоров!» И девицы наперебой спешат пощупать – каждая – есенинский нос. «Здоров!», «Нет, болен, болен!», «Пусть полежит!».
Есенин отбивается от наседающих «ценительниц поэзии».
– Нет, ты, ты пощупай! – повернулся он вдруг ко мне, и сам тянет мою руку к своему носу.
Прекращая глупую забаву, я тихо погладила его по голове, под злобным взглядом Галины коснулась губами век… и заспешила на волю: мне еще ползти на Волхонку в свою промерзшую конуру, печку топить, а завтра вставать чуть свет.
Сергей пытается меня удержать.
– Мы же не поговорили… о главном.
– Успеем. Я не завтра уезжаю.
(Получила заказ: перевести с немецкого повестушку. Обещают «деньги на бочку». Придутся куда как кстати – в дорогу.)
У меня трое детей!
«О главном» – это о моем решении сохранить ребенка и переехать в Петербург, где, кстати, и с жильем легче будет устроиться. Но важней другое: для душевного равновесия мне нужно резко переменить обстановку.
Есенину трудно поверить, что я и вправду решила сама уйти от него. Уйти «с ребенком на руках», как говорилось встарь.
(Через полгода я узнаю, что в салоне небезызвестной «мамы Ляли» сложили частушку – начала не знаю, а конец такой: «Надя бросила Сергея без ребенка на руках». Есенин будто бы на меня же сетовал.)
Если Есенин, впервые услышав от меня о ребенке, так горячо сказал мне те слова про мужскую гордость, то в дальнейшем разговор пошел совсем иной. После суда, после больницы на Полянке.
– Зря вы все-таки это затеяли. Я хотел просить Бениславскую, чтоб она поговорила с вами…
– Что ж! Я б направила ее для объяснений к Сусанне Map.
Есенин:
– Понимаете, у меня трое детей. Трое!
Ага, сознался наконец, что есть еще ребенок, кроме двух у Зинаиды Райх!
– Так и останется: трое. Четвертый будет мой, а не ваш. Для того и уезжаю.
Все разговоры эти велись как-то бегло – Сергей не нашел в себе мужества самому прийти ко мне и толком объясниться: видно, понимал, что я не сдамся, на аборт не пойду.
Но главное не понимал – что ребенок мне нужен не затем, чтобы пришить Сергея к своему подолу, но чтобы верней достало сил на разлуку. Окончательную разлуку!
Однажды привелось услышать и такое:
– Но смотрите, чтоб ребенок был светлый. Есенины черными не бывают. (Узнаю позже: он говорил так и жене, Зинаиде Райх!)
Я ответила:
– Blonda bestia[25]? Ну, нет. Если сын, пусть уж будет в мать, волосы каштановые, глаза зеленые. А если дочь, пусть в отца – желтоволосой злючкой. Счастливей сложится жизнь. Знаете небось народную примету![26]
Сергей слушает и усмехается. Чудно знает, каким рисуется мне сын.
В последние дни перед отъездом наблюдаю: друзья Есенина озабочены подыскать ему «сильную подругу», такую, чтоб могла удерживать от пьянства. Сейчас возлагают надежду на Анну Абрамовну Берзину. Во мне Грузинов изверился. И не стесняется обсуждать со мной эти планы!
Ценитель веснушек
Я со дня на день уезжаю. Поздно вечером в сильный мороз (пресловутые «ленинские морозы») захожу в «Стойло Пегаса», где мне должны передать кое-какие письма и петербургские адреса. За сдвоенным столом справа от входа – наискосок от «ложи имажинистов» – сидит с друзьями Есенин. Он и меня зазывает к столу, но я отказываюсь: пить не намерена, нельзя! Высокий человек постарше прочих – я сразу узнала его, хоть видела только раз, прозаик Пимен Карпов – внимательно вгляделся в меня.
– Постой, Сергей, это же та девушка, с которой ты еще в двадцатом году, среди лета, познакомил меня на улице. Ну, конечно, вы шли вдвоем по Тверской. Да тебя высечь надо! Что ты с ней сделал? Ведь она была прямо красавица!.. А сейчас…
Красавицей я никогда себя не мнила, – разве что хорошенькой, и только. А все же приятна была мысль, что в тот год нашей первой влюбленной дружбы я старшему другу Сергея показалась красавицей. Да еще «среди лета», значит, сплошь усыпанная веснушками! Я засмеялась.
– Видно, вы большой любитель веснушек! Зачем же Сергея-то ругать? Да, сейчас я сильно подурнела – болею. Но даю вам слово: к июню месяцу расправлюсь с хворью, наберу опять целый воз веснушек – «канапушек», как няня моя говорила, – и стану куда лучше, чем была в то лето. Если занесет вас в Петербург, прошу навестить меня и убедиться самому.
Есенин довольно посмеивается, рвется меня проводить. Я решительно отклоняю.
Знакомься, Нюра
Двенадцатое февраля двадцать четвертого года.
Приехав наконец-то в Ленинград, я поначалу остановилась у родных.
Один из первых моих визитов – к Сахаровым.
Александр Михайлович встречает меня очень дружественно. У него мечта – перетянуть Есенина в Ленинград «насовсем», – и, видимо, он обольщается мыслью, что в этом я окажусь его помощницей. Представляет меня жене, Анне Ивановне.
– Знакомься, Нюра: поэтесса Надежда Вольпин. Самая теплая привязанность Сергея.
По лицу жены пробежала тень.
Слова Сахарова отозвались во мне радостью (уж ему ли не знать! «Самая теплая!»). Но и больно стало: впору добавить – «была».
У Сахаровых два мальчика – старший, лет пяти, Глеб (так его дома и зовут без уменьшительных), и меньшенький, Алик (кажется, от «Олега»), – этому нет и трех. У него сразу ко мне вопрос: «Что ты мне принесла?» Родители смущены, но все выправляет нашедшаяся в моей сумочке шоколадная конфета.
Много хорошего сделали для меня Сахаровы – особенно Анна Ивановна. И самое важное: она сосватала мне няню к ребенку – удивительную, добрую, честную, умную, очень опытную (хотя всего на пять лет старше меня!), с прирожденным, казалось, воспитательным тактом – Анну Николаевну Амбарову. Позже, когда Сахаров съездит на время в Москву, Анна Ивановна станет меня уговаривать снять у нее в квартире те самые две комнаты, которые муж приберегает для Есенина. Не очень ей улыбается, чтоб Есенин у них жил! Предложение было бы соблазнительно во всех смыслах (недаром через год мы с Сахаровой поселимся вместе на даче). Но я не могу ставить подножку Сергею. Да и как он это истолкует: не иначе как попытку уцепиться за него!
И никто, как Анна Ивановна, выручит меня, когда обнаружатся нелады с моим «удостоверением личности», или как он там назывался в те годы, – документ, в дальнейшем замененный паспортом.
Ленинградские имажинисты
Год двадцать четвертый, апрель. Квартира Сахаровых. Сижу, работаю: отделываю свой «Разговор с ангелами»:
- Дорогие покойники!
- От походки моей….
Стук в дверь. Входит Владимир Ричиотти (в прошлом матрос, революционер, сегодня «воинствующий имажинист»). Начал застенчиво:
– Пройдемте в столовую. Мы будем сейчас все читать стихи… Обсуждать… Есенин велел мне привести и вас.
Все на месте: Григорий Шмерельсон, Семен Полоцкий, Вольф Эрлих, Афанасьев-Соловьев. Ну и я с Ричиотти. Идет чтение, потом разбор. Критикуют робко, поверхностно. Боятся, что ли, задеть друг друга? Где же их воинственность? Истинно живым и веским словом легло замечание Есенина:
– Поэзия не терпит лжи. За ложь всегда отомстит.
Что еще запало мне в память из той беседы? Эрлих завел речь о «Письме к матери», мною еще не слышанном. Есенин успел прочесть его своим ленинградским приверженцам раньше, без меня. Тем внимательней вслушивалась я в дальнейшее. Есенин заговорил о бабушке, которая его растила с двух лет, заступив малышу родную мать. Татьяну Федоровну Есенину, разлученную с мужем и сыном нелегкой судьбой. О ней, о бабушке, поэт рассказывал с глубоким чувством. Объяснил, что в «Письме…» и внутренно, и внешне обрисована не мать, а бабушка. Это она выходила на дорогу в старомодном ветхом шушуне – для внука, прибегавшего за десятки верст из школы. (И будет выходить десятки лет вперед – для почитателей поэта.) Запомним же это имя: Наталья Евтеевна Титова, женщина, согревшая материнской лаской сиротливое детство маленького Сережи.
И не забыла я те слова, сказанные дедом Титовым зятю: «Не тот отец, кто породил, а тот, кто вырастил». Однако же за все годы дружбы и близости моей с Есениным я не слышала от него ни слова осуждения об оскорбленном его отце. Напротив, он даже уверял меня, что как раз отцу обязан своим поэтическим даром: тот любил стихи и сам сочинял частушки. Однажды Есенин прочел мне две-три из них. Как я потом жалела, что не постаралась их запомнить!
Ну, а мать, по его словам, любила народные песни, знала их множество, распевала. И знала наговоры от всех бед, какие только могут выпасть человеку.
В зале Лассаля
Я сижу за столом, гоню заказ Сметанича (Валентина Стенича: перевод Честертона – «Жив Человек»). Выйдет под его именем, получу половину гонорара. Да, таковы были тогда литературно-издательские нравы! Я «с чистой совестью» позволяю себе оставить заказчику хоть четверть работы – а по неопытности оставляю чуть что не три четверти! Зато совместный просмотр и правка начальных глав оказались для меня первой и очень много мне давшей школой перевода! Срок поджимает, но дальше я перевожу и смелей, и лучше – так расценит заказчик успехи своего «негра».
Мою работу прерывает Есенин. Входит, приглашает поехать «со всеми» (то есть с группой ленинградских «воинствующих имажинистов») на его вечер в Зале Лассаля.
Мне и самой хочется. А уж это его – «непременно, непременно!» – прозвучало для меня приказом.
«Воинствующие» сидят не в президиуме на сцене, а где-то в ложе. С ними и я. Сергей не сразу приступает к чтению стихов. Сперва – разговор с аудиторией. Сказать по правде, довольно бессвязный. Поэт на взводе. Говорит он, если все увязать, примерно следующее: страна на новом пути, вершится большое и небывалое, а вот он, Сергей Есенин, на распутье, не знает, чего требует от него поэтический долг, чего ждет Родина от своего поэта. «Понимаете, я растерян, вот именно, растерян». Слова о растерянности прозвучали не раз и не два. Оратор топчется на месте. То встанет, то снова сядет на эстраде к столу, боком к слушателям: те в нетерпении. Да уж ладно, кричат ему, все понятно, прочитайте лучше стихи.
Это было то, что М. Ройзман назвал в своей последней книге неудачной первой половиной вечера. Но, возможно, именно неудачное начало определило тем больший успех выступления: стихи Есенина прослушаны были с жадным вниманием, с восторгом. Хмель, казалось, рассеялся, поэт читал с подъемом и при огромном ответном жаре аудитории. К сожалению, не помню, что именно было им прочтено – для меня все уже знакомое, верно, потому и не запомнилось. Я хотела в тот час понять, почему он так настойчиво звал меня. Просто ли заговорила все та же «неизжитая нежность»? Или так уж дорого казалось присутствие каждого благосклонного слушателя? Он опасался холодного приема – ленинградцы слывут в Москве поборниками классицизма… Но «недоброжелатели», если они ему чудились, предпочли отсиживаться дома. Так или иначе, это была большая победа поэта. Он сошел с эстрады с сознанием, что город – Петербург его юности – покорен.
Возвращались всей дружной поэтической семьей. Подрядили двух «центавров», как любили здесь называть извозчиков, и уже собирались рассеяться, когда к Сергею пробилась женщина с просьбой об автографе – невысокая, с виду лет сорока, черненькая, невзрачная… Назвалась по фамилии: Брокгауз.
– А… словарь? – начал Есенин.
– Да-да, – прерывает любительница поэзии (или автографов), – это мой дядя!
– Здесь неудобно. Едем с нами! – решает Есенин и втаскивает «Брокгаузиху» в пролетку, и без того уже переполненную. Чуя щедрые чаевые, «центавр» не спорит.
Мы давно на Гагаринской, в просторной кухне Сахаровых. Подав чай, хозяйка, Анна Ивановна, удалилась к себе. Идет сбивчивый и счастливый разговор о вечере. Кто-то – не Семен ли Полоцкий? – читает стихи. Без всякого внимания к молодому имажинисту, наша гостья подходит ко мне, к единственной женщине. Просьба о гребенке. Я даю. Приведя прическу в порядок, она словно бы из вежливости спрашивает:
– А вы тоже пишете стихи?
Что-то в ее тоне не понравилось Есенину. Не дав мне ответить, он вдруг прикрикнул на гостью:
– Вы ее не задевайте! Она очень умная! Она слово скажет – как ярлык приклеит!
Никогда раньше я не слышала, как Есенин расценивает меня с этой стороны. Считает очень умной? И меткой в оценках? Заслуженно ли?
…Гостья распрощалась. Никто не вызвался ее проводить. Видно, «воинствующие» ленинградцы не лучше воспитаны, чем москвичи, всегда толкующие женское равноправие в мужскую пользу. Вольф Эрлих спрашивает Есенина, с чего ему вздумалось прихватить «эту дуреху».
Ответ несколько неожиданный:
– Знаешь, все-таки… племянница словаря!
Ты в уме, Сергей?
Май двадцать четвертого. Квартира Сахаровых. Я все еще связана с этим жильем. Сижу у себя, гоню – надо бы кончить до родов – свой «негритянский» перевод. Меня перебивают на полуфразе: входит Есенин с Александром Михайловичем.
Я встаю. Сергей развалился в кресле. И бросает мне несколько злобных слов. Я молчу. У Сахарова перекосилось лицо.
– Ты в уме, Сергей? – и уволакивает его.
А через несколько часов Есенин подкараулил меня, когда я собиралась выходить.
– Пойдем вместе, – роняет он.
Точно и не было давеча его грубой выходки. Я говорю о пустяках.
– Какая у вас и сейчас легкая поступь, – замечает Сергей.
Я думаю о своем. И через минуту слышу:
– Все-таки вы удивительная женщина!
Промолчала. Думаю про себя: чем же «удивительная»? Что ничего от тебя не требую, ничем не корю? Но ведь я с самого начала так поставила: ребенок будет не твой, не наш, а мой.
Вспыхнуло в уме: а всю ли ты правду сказал, что стихи о бабушке? Они и о ней, о родной твоей матери, тоже!
Ну, Есенин!
Лето двадцать пятого года. Я на даче. Под Ленинградом, в Вырице. Это чуть не в шестидесяти километрах от города. Зато здесь хоть сухо. Дачу сняли вместе с Сахаровой – она заняла верх, я внизу. Анну Ивановну соблазнило, что я держу «живущую» няню – можно будет, уезжая в город, оставлять на нас детей. А ездить ей часто – у нее что-то вроде волчанки, лечится. И странное дело: без этой огромной язвы на лице она воображается просто красавицей! Так во всяком случае кажется моей маме (она гостит у меня на даче). Лицо у Анны Ивановны очень милое, но вряд ли даже в первой молодости была она впрямь красива.
Где-то во второй половине лета приехал навестить семью и сам Александр Михайлович. Привез новую песню Есенина. Все напевает неожиданно приятным голосом: