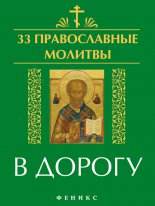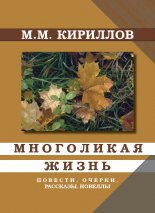Ящик Пандоры Курик Юрий

– И не забудь вспомнить про Конкордию.
– А это, извини, не моя инициатива, и потому не приписывай мне ее…
– А я хотела тебя проверить, и ты клюнул. Развратник, я тебя ненавижу, и плевала я на тебя, – и она в самом деле плюнула и угодила ему слюной в глаз.
– Кобра, плюющая змея… и где только такие рождаются, – Дарий почувствовал как земля уходит из-под ног, видимо, где-то в ее толщах назревал грандиозный разлом. – А то, что сегодня было, тоже проверка на дорогах? Не-е-е, милая моя девочка, такой номер не пройдет. И тогда ты меня тоже проверяла, когда в пять утра смылась к своему хахалю? Я всю ночь провел на морозе, а ты через балкон и по клену спустилась и дала драпака. А я, как дурак, как последний козлотур, как осел Апулея, как орогаченный Отелло… ждал, когда ты, как порядочная, отправишься на работу.
– Ты думаешь, я не знала, что ты дежуришь возле дверей… Мне позвонила соседка и сказала… Да, представь себе, и тогда я тебя проверяла.
– Проверяла – отверну я тебе голову или нет? Жаль, что тогда я этого не сделал.
– Можешь сделать это сейчас, – и Пандора, приняв осанистую позу, вызывающе взглянула на него, и во взгляде ее не было ни страха, ни раскаяния, ни любви – голая степь с засохшими ручьями и песчаными, растрескавшимися от зноя проплешинами.
Это была патовая позитура, и Дарий понял, что ничья – это его поражение. Или же Zugzwang, то есть абсолютный пипец-ц-ц, когда любой ходильник ведет к фиаско. Он почувствовал полную раздвоенность, ощущая в себе плющеватую парность: Отелло-Яго, человек-конь, Адам-Ева, Буш-Бен Ладен, Путин-Басаев и, наконец, плюс-минус… Никто из них никогда не в состоянии договориться, поскольку на каждый аргумент одного следует железный контраргумент второго, и так до скончания… или начала нового мира… «Надо сдаваться, – сказал себе Дарий, – но сначала неплохо бы подпустить немного тумана с нотками возможного примирения…»
– Ладно, давай решай – или разбегаемся вот с этого места, – он резко ткнул пальцем в сторону покалеченного временем тротуара, – или все же доковыляем до дому и там все обсудим?
– Я не знаю… Если ты не будешь… Если все как-то… Если мы все же… Ну хорошо, я согласна, но сначала мне надо в туалет…
«Ага, – робко возликовала душа художника, – цитадель-то не так уж и неприступна… Еще один навал – и стены дрогнут…»
– Не буду, я тебя прекрасно понимаю, и если чем-то обидел – прости… Но и ты будь хорошей девочкой, знай, что только сильные отважатся любить тебя, ибо, по правде сказать, ты им в этом не помогаешь.
Но блекотания Дария насчет любви были безвозвратно смазаны литературным или каким-то другим заимствованием. Когда нечего сказать, шпарь цитатами.
Зашли в 00. Затем, не минуя еще две или три забегаловки (где было принято еще 500 гр. «Кампари» и 0,4 л. коньяка), они дошли до остановки маршрутного такси, откуда более или менее благополучно добрались до пункта назначения. А потому «более или менее», что, когда микроавтобус отъехал от остановки, из придорожного дома неожиданно выбежала молодая женщина, на которой были только трусики и браслетик на левой руке, и едва не угодила под колеса… Выскочивший из машины шофер так матерился, так кричал на чудом спасшуюся мамзель, что Дарию пришлось вмешаться. Он тоже вышел и сказал водителю несколько ласковых слов, против которых водитель так же возвел изгородь из крутого, русско-площадного мата. А девица, прижав к голым грудям руки, вскочила в подъехавший «мерседес», который хамски посигналив, удалился в сторону Риги.
Между тем на Сиреневой, куда они прибыли через десять минут, застылыми кубами нагромождались отчужденность и обреченность. Еще пару недель назад радужно глядящий в небо палисадник поник, как будто сопереживая людям, утратил свою бесподобную яркую пестроту, и даже всесильная черная смородина, словно уши побитой собаки, опустила свои листья, а девясил – этот гигант бессмысленного взращивания – спутался, переплелся, превратился в хаотический контекст беды. Скамейка была пуста, окна Медеи – темны, безжизненны, словом, заброшенный дом, в котором завелся призрак убийцы.
Они зашли в дом, и их встретила Найда. Подняв свою девичью мордочку, она вопросительно глядела на людей, да и как не глядеть, если со вчерашнего дня у нее во рту не было ни крошки. Хозяева забыли, увлеченные… Дарий насыпал ей сухого корма, после чего отправился к мольберту. На нем стояла недописанная картина, и он, ощутивший вдруг прилив вдохновения, взялся за плоскую кисть № 4 и стал крупными мазками усугублять сумрак над морем. Пандора же, несмотря на загнанность и трепку нервов (об угрызениях совести и речи нет), начала творить блины, и вскоре до ноздрей Дария донесся их сковороднический душок. Видно, масла не пожалела. Однако крупные поспешные мазки не удовлетворили художника, и он окунул кисть в баночку с ореховым маслом. Снял с мольберта неоконченный этюд и вместо него поставил портрет рыжей бестии, то бишь Конкордии. И, глядя на ее роскошные холмы, почувствовал теплоту и вместе с тем напряжение в пахах и с горечью подумал о предстоящем походе к хирургу. И еще он думал о том, как он стоял в кустах коринки, подкарауливая момент для атаки, и укорял себя за глупость. Чего не видел – того нет… А так – увидел, принял позор и теперь надо платить местью.
Блины были тонкие, сквозь них вполне можно было смотреть на солнечное затмение, и очень переслащенные. И все равно Пандора к ним подала остатки меда и баночку джема, сохранившегося с прошлого года, когда у них еще был достаток и быт протекал, как у нормальных людей. Ели молча, ибо были нагружены алкоголем, и лишь чудом можно было объяснить царившее за столом безмолвное сосуществование. И только когда он брал банку с кофе и нечаянно задел рукой сахарницу и обернул ее, Пандора, сверкнув своими аметистами, отчитала: «Проснись, ты что, не знаешь, что нельзя просыпать сахар… плохая примета…» И он опять свалял дурака: «А с чужими мужиками ебаться можно? Это хорошая примета?» И Пандора, словно проколотый воздушный шарик, лопнула и кинула в него чайной ложкой…
– Ты же обещал…
– И ты обещала быть весталкой, а что я сейчас вижу? – он стер с лица брызги сметаны с вареньем и вышел из-за стола. – Фигня все это, меня ждут Флориан и Снежная королева с Улиткой…
– Иди и подумай, как дальше будем жить.
– Душа в душу, – но, сказав это, Дарий почувствовал, как блины в нем перевернулись жирным комом, и он едва сдержался, чтобы не сблевать.
Когда после горяче-ледяного душа он уходил работать к мошеннику, в коридоре встретилась Медея.
– В среду похороны, – сказала она, и Дарию показалось, что это была речь трезвого человека. – Григориана похоронят рядом с моим Мусиком, я отдала свое место, – прослезилась.
– А где зароют Олигарха?
– Не знаю, этим занимается его бывшая жена… У него есть кому хоронить. Дочери, откуда-то приехал сын… Не мое дело, – однако в голосе Медеи равнодушия к Олигарху не проглядывало.
Дария интересовала Модеста, но, чтобы не сбивать в себе настрой на работу, он обошел эту тему, ибо душевное спокойствие – Эльдорадо, вечно живой маяк, к которому стремятся все мотыльки…
Флориан его встретил косым взглядом и надутыми губами. Впрочем, Дарию наплевать, он, словно зомби, прошествовал мимо главы теневого кабинета и вошел в детскую. Оторвался, изолировался, прикрылся тишиной и независимостью Розы и Улитки. И тверда была его кисть, точны сочные мазки, и ни одного волоска неучтивости к тому, что было перед ним. А время… Ах, это пресловутое время: не успел как следует вникнуть, как на тебе – два ночи… А стена почти готова, что вызвало в нем крутое сожаление: придется уходить из прекрасной сказки в серую, мразную Пандоро-Конкордия-Хуа-но-Омаро Шарифа-Монгола и, возможно, безвременно усопших Григориана-Олигарха, пропившего глаза Легионера, его апатично-невзрачной Лауры и в предосенних небес несносную повседневность… Но, с другой стороны, мудрее всего время, ибо оно раскрывает все. И бутон розы, и кинжал, извлеченный из бархатных ножен, и человеческую подкладку, на которой столько же пятен и дыр, как в цыганской кибитке, съехавшей с колеи в кювет…
С территории Флориана его выпроводил сонный охранник, у которого на боку желтела кожаная кобура с торчащей рукояткой. Флориан с такой охраной всегда был в опасности, хотя сам об этом не догадывался.
Горели фонари, сияли звезды, вдали, в перспективе улицы, белели стволы берез… Мир сонный, но никогда не смыкающий глаз. И, наверное, от того неимоверно усталый, обремененный человеческой глупостью и зараженный этой глупостью, отчего и сам делал гигантские и малые ошибки, начиная от зарождения человеческой клетки и кончая тектоническим разломом, который только тем и занимается, что готовит рождественский сюрприз человечеству…
Пандора была теплая, даже горячая, возможно, приснившийся пожар поднял в ней температуру, и она, попискивая, распустив губы и насупив брови, страдала на той стороне сна. Ему стало жалко, слишком беспомощным и сиротливым было ее мышиное попискивание, и Дарий, взял ее за голову, придвинул к своему плечу. И она моментально отреагировала: закинула на него свою теплую ляжку, чем затруднила его дыхание, но он стерпел и даже еще сильнее прижал ее к себе.
Он долго лежал с открытыми глазами, слушая в наушниках «В парке Чаир распускаются розы…», и с ними уснул, не выключив приемника. И спал щекой на металлическом ободке наушников и, когда проснулся, почувствовал саднящую боль у глаза.
Разбудила его Найда, старающаяся лапкой заскрести то, что еще только должно было из нее выйти… Поднявшись, Дарий сходил в туалет и вернулся с губкой и лентой бумаги, чтобы убрать за кошкой ее колбаски и вынести лоток с ее водичкой.
Засыпая, Дарий услышал голос Элегии: она о чем-то просила его… Но он был далеко, возле заснеженного дома, в котором то ли спала, то ли бредила юная Пандора…
Глава тринадцатая
О похоронах Григориана сообщество Сиреневой улицы попросило озаботиться Дария, как наиболее жизнедеятельную единицу. Легионер, пребывая в больнице да еще с покалеченными глазными нервами, естественно, для этой роли не подходил, и Медея тоже, поскольку была опять в запое и в горестных воспоминаниях о Мусее и Олигархе. Жена Григориана Модеста, узнав о смерти своего верного спутника жизни, исцарапав себе лицо в кровь и надломив пальцы, впала в прострацию и целыми днями не вставала с дивана-развалюхи. И там же, на ложе, отправляла нужду, отчего в комнатах и в коридорах дома стоял практически непереносимый для человеческого обоняния дух. Да и как ей было не страдать: шестьдесят… подумать только, шестьдесят лет нога в ногу, глоток в глоток, ниточка с иголочкой, и вдруг – связь прервалась со смертью главной, неразрывной части ее существа. Казалось, вечного, на столетия законсервированного Григориана – сына архангельского помора, дожившего до ста с гаком лет и еще находящегося в здравой памяти и с крепким желудочно-кишечным трактом. Так, по крайней мере, обстояли дела в Архангельской губернии, если, конечно, верить словам самого Григориана.
Дарий с Пандорой, которая по его велению самоуволилась с работы, поехали в морг, где заказали гроб и все остальное, что необходимо человеку для последнего, самого наипоследнего пути в сторону того света. Мрачно и безысходно было в тех стенах, и Дарий, глядя на стоящие у стен гробы, никак не мог отогнать мысль о смысле, вернее – о полной бессмысленности жизни. И как тут не поверить, что в жизни больше пустого, чем полезного, и все возникшее погибает, все растущее старится. Пандора в эту чепуху, конечно же, не верит, ей все кажется значительным и важным, даже цвет губной помады или оттенки колера для волос. И пусть, бедняжка, остается в неведении – для того чтобы жить на полную катушку, надо иметь или разум, или петлю. А вот что касается первого, то тут у нас с ней полный дефицит, на двоих полмерки…
…В бельевом шкафу Григориана с помощью Медеи они нашли его выходной костюм образца 1951 года, пошитый из модной по тем временам ткани глория, цвета морской волны. Отрез… Костюм висел на вешалке полстолетия, и Григориан надевал его всего несколько раз, оставляя и сберегая до особого случая, который наконец неотвратимо наступил. И рубашку нашли, тоже доисторических покроев и расцветок, и к ней – большие мельхиоровые запонки, которые ему подарила родная милиция на его тридцатилетие.
После морга они поехали на кладбище, заплатили за место, катафалк, договорились о дне и часе похорон. Пандора всю дорогу не проронила ни слова и была очень сдержанна в жестах и взглядах. Только после того, как они вышли за ворота кладбища, она сказала: «Ты не боишься, что тебя похоронят живым? Я этого очень боюсь, говорят, когда люди в летаргическом сне, нельзя разобрать…» «Ерунда, разобрать можно. Когда Элегия умерла, я поднес к ее рту зеркало и… Никакого затуманивания, и пульс не бился… Нет, смерть нельзя спутать ни с чем другим…» Да, было дело: когда многострадальная Элегия попросила его принести «горячего чайку» и он пошел на кухню исполнять ее просьбу, все и произошло. Вернувшись в комнату, еще не доходя до кровати, понял, что ее жизнь оборвалась. Понял по внезапно наступившей безмерной глубины тишине. По недвижным ресницам и вдруг пожелтевшему лицу. И тогда паническом приступе он схватил лежащее на тумбочке зеркальце, в которое она по утрам смотрелась, приводя себя в порядок, и поднес к ее сжатым, помертвевшим губам. Экая инфантильность растерянного человека. И даже успел взглянуть на висевшие на стене электронные часы: было 9.05. После ее смерти он не мог смотреть на эти часы и с приходом в дом Пандоры заменил их на другие.
Гроб с Григорианом поставили в каплице, куда собралось несколько человек и каждый из них мог заметить, какую разительную метаморфозу совершает с человеком смерть. Вернее, те люди, которые ее обслуживают… Да, вместо живой неприбранности в гробу лежал ухоженный труп с аккуратно причесанными седыми волосами, со сложенными на груди большими руками, на запястьях которых выпячивались белоснежные манжеты с потускневшими чечевицами запонок. Его грудь обременял «Знак отличия», которым его наградили в милиции за участие в разгроме банды, которая в послевоенные годы терроризировала Тукумс и Талсинский районы. На лбу – бумажная ленточка: мало ли кому придет в голову поцеловать чело усопшего, однако таковых в тот день и час не нашлось. Дочь Григориана, видимо, смерть отца не сочла уважительной причиной для своего появления, и только соседи… с предельной скромностью, с абсолютным пониманием неизбежного пасмурно сопроводили Григориана до его постоянного предела. И среди них – подавленная своей физической немощью Медея, которую под руки держали соседки. Модесты среди них не было, она потихоньку сходила с ума на своем одичалом и утратившем человеко-мебельный облик диване. И даже чуть живой Асаф плелся за гробом, все время снимал старую и тоже давно минувших эпох кепку, и вытирал рукавом вспотевший, лысый череп. И женщины из соседнего дома, потраченные жизнью, с нездоровым цветом лица и беззубыми ртами, в старых, почти поголовно одетые в секондхендовские одежды, тащились с жалкими цветочками, тихо переговариваясь и посматривая на идущих впереди. Тени песенно-бархатно-оранжево-розовых революций. Неслышный шаг в бренное небытие.
Хоронили Григориана в среду, в два часа, после внезапно пролившегося дождя, и потому воды в могиле набралось чуть ли не до половины. Гроб несли двое кладбищенских рабочих, Дарий и какой-то незнакомый ему мужчина, худой, смуглолицый, одетый в замасленную ветровку, в черном берете с фестонами. И, когда гроб опустили, вода хлюпнула и покрыла его, как покрывает сходящаяся волна подлодку, решившую спрятаться в морскую пучину. И женщины из племени беззубых охнули, ибо погружение гроба с Григорианом в воду показалось им чистым кощунством, издевательством над прахом. И не было музыки, не было священника – накладно, и не было залпов салюта, шелеста знамен, речей о «верном товарище, соратнике, безвременно ушедшем и покинувшем нас на произвол судьбы». Но зато были слезы: за всех выплакалась Пандора, что стоило Дарию больших нервных треволнений. Он давно не видел ее в столь подавленном виде.
И каждый из пришедших на похороны, когда они закончились, пошел по своей колее дальше, таща на себе неимоверно скорбный груз повседневности.
Дарий с Пандорой после траурной церемонии перешли на могилу Элегии, где Пандора, дабы отвлечься, принялась за уборку. Подмела, убрала с надгробия хвою, старые цветы, упавшие с деревьев сухие ветки, вытерла случайной бумагой небольшой памятник и, опять поплакав, потащила Дария за ворота общежития мертвых. Из царства теней – в мир тайных и несбывшихся надежд, олицетворением которых… Будь они прокляты и не к месту упомянуты – игровые автоматы… аты-баты, шли солдаты, чтобы из мертвых превратиться в оловянных…
Но, перед тем как зайти в салон, они как следует выпили, что было кстати и, более того, гиперманиакально воздействовало на отравленную похоронами душу. На контрасте ощущений всегда ясней и обнаженнее представляется порядок вещей и смысл сотворяемых дел. Им было тепло, томило ароматами кофе, расслабляло тихой музыкой, и вино, которое они пролили в свои нутра, создало ощущение безоговорочного и как бы навечно выданного комфорта. Но человек живет в мире случайностей, совпадений, и вряд ли кто-то ответит на вопрос: что есть случайность и какую роль она играет в житии марлоков?
Через витрину кафе Дарий увидел подъехавший к ювелирному магазину «кадиллак», из которого вышли охранники Хуана Гойтисоло, а за ними выполз из задней двери и сам Босс. Испанец был в темном распахнутом плаще, его бордовый галстук полоскался на плече, закинутый туда ветерком, и волосы его в сумрачном свете дня отливали особенно чистым оттенком платины. Чертовски красив, хоть и старая коряга. Видимо, поглощает доброкачественную, экологически чистую жратву, пользуется массажем, подводным душем, умащивает тело облепиховым маслом и много употребляет пищевых добавок типа антиоксидантов Bio-C-Zinc или заменителя тканевого энзима Q10 и прочей лабуды, придуманной американскими мошенниками. Но несколько мгновений спустя из передней дверцы вышла великолепно сложенная, с подсиненными волосами женщина, и когда она повернулась лицом к Хуану, Дарий чуть не упал со стула. Это была Октябрина, юрмальская шлюха… то есть бывшая шлюха, ибо в один високосный год ее подобрал известный гроссмейстер, затем она перекочевала к уголовному авторитету Рэму (Революция, Электрификация, Механизация), и вот – пожалуйста, Октябрина плечом к плечу с Омаром Шарифом. А когда-то эта женщина, бледанув с загранморяком, подхватила сифон и несколько месяцев лечилась в венерологической больнице. И, несмотря на это, ее захомутал Кефал, когда отдыхал в Доме творчества художников, и несколько месяцев валандался с ней по кабакам, демонстрируя свою независимость от злых языков и однажды, когда Дарий зашел к нему, чтобы одолжить денег, Кефал угостил его Октябриной. И запомнились ее духи, особенная ухоженность кожи, ногтей на руках и ногах и только что выбритого лобка, что, по предрассудкам местной шпаны, было вернейшим признаком венерической заразы. Мол, когда трепак или сифон, врачи всегда обривают эту высотку… Но грудь… Восторг, изюм в рахат-лукуме, и даже по прошествии стольких лет одно воспоминание об этой части ее тела взбурлило гормоны, и Дарий почувствовал надсадное движение в зоне Артефакта. Но дело, как про себя оценил ситуацию Дарий, не в этом. Дело было в той свежей ране, которая еще саднила в его груди и которую без прикосновения нанес ему этот престарелый красавчик Хуан тире Омар Шариф тире… пикадор…
– Сиди здесь, я сейчас вернусь, – сказал он осоловевшей от вина и тепла Пандоре и вышел на улицу.
Выйдя, закурил. Легче творить задуманное. Вразвалочку, как он и его кодла ходили в юности, подошел к направлявшимся в ювелирный магазин Октябрине с Хуаном и сказал так, чтобы только слышали те, к кому его слова относились.
– Декабрина! – окликнул Дарий женщину, специально переврав ее имя. – Или, как там тебя, Январина, Августина… можно тебя на минутку?
Обернувшийся на его слова Хуан сначала вроде бы даже улыбнулся, но, разглядев, кто стоит перед ними, сбледнул с лица, и на его смуглых, подсушенных испанским солнцем щеках заходили желваки. Он даже сунул руку в карман плаща, словно прося защиты у пистолета, зыркнул на своих волкодавов, но сразу же дал отмашку, дескать, оставайтесь на месте, ситуация под контролем. И когда Дарий подошел на расстояние, с которого можно безошибочно разобрать, чем пахнет собеседник и чистил ли он сегодня зубы и не поел ли случайно чеснока, Октябрина, ничуть не тушуясь и даже, наоборот, изображая благодушие и улыбку, спросила:
– Вы ко мне? – этакая пресвятая дева непорочности.
– Разумеется, к тебе… Когда я могу тебе отдать твой портрет? – сказал и, сожмурив глаз, затянулся сигаретой.
И дура Октябрина, вместо того чтобы занять неприступную позу и по-королевски ретироваться, задала ему совершенно глупый вопрос:
– Какой еще портрет? Я что-то не припоминаю…
– А это не обязательно, если он тебе не нужен, что ж, извини… – Дарий развернулся и…
– Постой! – услышал он взбешенный голос Гойтисоло. – Пожалуйста, вернись и объясни, о чем идет речь?
– А ты у нее сам спроси. Да, кстати, знаю женщину, которая при оргазме кричит: «Ой, мамочка, сейчас умру»… У нее под пупком вырезанная липома, кажется, шрам три на два с половиной сантиметра…
Вот и вся вендетта. Просто и без особых трудозатрат. Он развернулся и пошел назад в кафе.
И то, что озвучил на улице Йомас Дарий, было сущей и неопровержимой правдой: сначала Октябрина была натурщицей у Кефала, после знакомства с ней Дарий приручил ее, и года полтора они неплохо художественно сосуществовали… А липома… Обыкновенный фурункул, который она расчесала ногтем и который едва не привел к общему заражению крови. Не знал Дарий только одного: Октябрина уже три года была законной женой Гойтисоло, что, разумеется, в смысле мести имело еще более разрушительный эффект.
Уже сидя за столом, Дарий видел, как Октябрина бегом возвращалась к машине и как за ней, красный, как кумач, с развевающимися полами плаща и порхающим за плечом галстуком, устремился Хуан и что-то вдогонку ей кричал. Опекаемые охранниками, они залезли в машину, и «кадиллак», круто развернувшись, рванул в сторону поперечной улицы Лиенас.
– Ну что ж, первый тайм мы уже отыграли, – неопределенно выразился Дарий и поднялся из-за стола. – Так что сегодня об автоматах забудь, не то настроение…
– Напрасно, у меня интуиция… Можно выиграть много денег…
– Хорошо, будешь играть ты, а я посижу рядом. Но недолго, надо готовиться к выставке, да и у Флориана еще работы начать и кончить…
Пока сидели в кафе, снова пошел дождь, и было очевидно, что осень заявилась окончательно. Листья, хмурое небо, циклоны, приходящие с Запада, со стороны Гольфстрима, который, если верить газетам, радикально меняет течение и скоро в Северной Европе начнется ледниковый период.
Дарий, когда они подошли к остановке, долго взирал на небо и думал о чем-то своем, чего ни Пандоре, ни какому-либо другому существу он сказать не мог. А думал он о бессмысленности своих потуг, каком-то незримом регулировщике, который, как бы ты ни старался, все равно повернет в другую сторону, опростит озарение, лишит завершенности замысел, и опять знаменателем станет поросшая мхом повседневность…
Их заход в «Мидас» был своего рода дежавю: все, что они сразу же засунули в орало автоматов, было съедено, проглочено и без намека на благодарность. Как всегда и как в любую погоду. Кроме них в салоне искала свое счастье мадам Виктория, игравшая на «Пирамиде». Теперь на ней был кожаный плащик, а на руках – темные лайковые перчатки: она была брезглива и боялась подхватить от автоматов какую-нибудь заразу. Но играла по-своему, на каждый ход – новая ставка. Очевидно, такая техника в ее понимании должна была вводить автомат в панику, не давая ему время опомниться. Эх, вдова, вдова, как быстро уплывали оставленные тебе муженьком тысячи… А что потом?
Вместо Бронислава в салоне дежурил его сменщик с греческим именем Созон. Этот парень, фиксируя проигрыши клиентов, на ночь закрывался в салоне и пытался обыграть какой-нибудь особенно обрюхаченный автомат. Да здравствуют злоупотребления служебным положением, ибо, как правило, Созон оставался ни с чем и однажды проиграл только что полученную зарплату. Впрочем, все это не принципиально. И когда у Дария кончились деньги, которые они слили в брюхо «Амиго», Пандора достала из сумочки отступные Хуана, которые тоже тут же сиганули в жерло автомата, после чего Пандора надумала просить у Созона в долг. Даже предложила в залог свои кольца. Но это не Бронислав, доступный и покладистый к своим клиентам. Созон педант и зануда, слова цедил сквозь зубы и, естественно, в кредите отказал (видимо, полагая самому покуситься на «Амиго»). А вскоре в салоне появился Эней, как обычно, плохо выбритый, с сигаретой в потрескивавшихся губах. Он встал рядом с Викторией и начал давать ей советы, которые, видимо, ей совершенно были не нужны. Она отстраненно подняла руку и довольно хамовато осекла таксиста:
– Пожалуйста, отвали, от тебя пахнет псиной…
– Ах ты сучка! – Эней на глазах терял самообладание и Дарий, видя это, подошел к нему и увел на улицу. – Перестань, что она такого сказала…
– А ты не слышал?
– Слышал, ну и что? От меня тоже пахнет всяким дерьмом. Ты лучше скажи, если, конечно, знаешь, где живет Хуан Гойтисоло?
– Это клиент Ахата… Он частенько возит по магазинам его половину…
– Октябрину?
– Не знаю, спроси у напарника. А за эту блядь, я имею в виду Викторию, ты не заступайся, она чистит все салоны. Знаешь, сколько она сегодня сняла?
– Я только что пришел, да и, если честно, мне это поху…
После этих слов Дарий вернулся в салон и, увидев играющую Пандору, очень удивился. Счетчик автомата показывал четыре лата. Оказывается, пока он был на улице, ей все же удалось уломать неприступного Созона (виват блядское обояние!), и она уже доканчивала одолженную у него десятку.
По пути домой они зашли в магазин и на последние копейки купили пиво и чипсы с укропом. В половине двенадцатого, когда Пандора была под душем, позвонили, и когда Дарий взял трубку, понял – Октябрина. Первым порывом Дария было послать ее куда подальше, ибо он, зная ее норов (голодной пантеры), был не готов вести дискуссию. Но, видимо, не ему дано решать – кому с какой карты начинать игру…
– Ты последняя свинья, – начала обличительную речь экс-сифонщица. – Ты, наверное, забыл, сколько я для тебя сделала. Я организовала твою первую выставку, нашла в Штатах покупателя, которому ты продал три полотна, взяла в долг, опять же по твоей просьбе, деньги, которые до сих пор ты не вернул…
– Допустим, – стараясь быть вежливым, сказал Дарий. – Теперь послушай меня. Выставки не было бы, если бы не было моих картин, деньги, которые ты якобы взяла для меня, почти все были потрачены на швейцарские лекарства, устраняющие последствия сифона, и…
– Ну и скотина же ты! – взревела Октябрина. – Как я могла такого циника полюбить?! Нет, я была слепой курицей.
– Вот поэтому перестань кудахтать и говори по существу. Что ты от меня хочешь?
Пауза. Дарий слышал, как чиркнула зажигалка, – Октябрина, реагируя на стрессовую ситуацию, закурила. Это ее повадка.
– Я хочу, чтобы ты сказал Хуану, что все, что ты обо мне ему наплел, неправда. Злостный наговор. Треп пьяного ревнивца. Я прошу тебя сохранить… ну, как тебе сказать… сохранить мой брак… Я верная жена и хорошая хозяйка, и, поверь, я Хуана вполне устраиваю. – Она всхлипнула и разревелась на весь вселенский эфир. Закончила тираду пафосно: – Я всю жизнь провела вот с такими, как ты, оболтусами, и вот, встретив, наконец, настоящего человека, придется…
Дарий услышал, как дверь в ванную открылась, а ему не хотелось, чтобы его телефонный разговор стал достоянием Пандоры. Притушив голос, он сказал:
– Допустим, я отзову свои слова насчет твоего портрета, а как быть с твоими воплями во время ЕБЛ и как быть с твоим шрамом на животе?
– Скажешь, что я тебе об этом сама рассказала… Мне необходима твоя ложь во имя моего спасения. Пойми же ты, грязная скотина, на карту поставлена моя жизнь! Мы же с тобой друзья… Только с врагами можно так поступать…
– Твой Хуан – мой лютый враг, и я всунул в его пасть соску ревности. Пусть сосет и молит Бога, что я его не прирезал, как приканчивают на арене каталонских бычков. Впрочем, он об этом знает лучше меня …
– А как же я? Что же, мне снова идти работать официанткой? Когда-то ты целовал мои ноги, восхищался, говорил, что красивее меня не существует…
– Пожалуйста, не канючь, ты и сейчас очень красива и я бы с удовольствием…
– Так в чем же дело, давай, назначай встречу…
– Я бы с удовольствием тебе помог, если бы речь шла только о моем самолюбии. Что же касается твоего брака с испанцем… Знаешь, скажу как человек, которого не раз и не два увенчивали роскошными рогами… Сделай ему сегодня прекрасную аку… то бишь многовариантный секс, в чем ты безусловная профессионалка, и никуда твой Хуанито не денется.
– А почему ты так думаешь?
– Хотя бы потому, что по нынешним европейским законам при разводе все его имущество от зажигалки до пяти домов и дюжины машин и всех его банковских счетов будет поделено пополам. И ты станешь очень богатой, независимой женщиной. А при твоей-то внешности и разворотливости можно сделать такую партию… Ладно, подумай, а меня ждет моя половина. Кстати, обесчещенная твоим дон Хуаном…
Дарий положил трубку, хотя чувствовал, что Октябрине еще было что сказать. Он вернулся к Пандоре, раскрасневшейся, пахнущей шампунем, но еще не причесанной. Мокрые волосы слипшимися прядями падали на плечи, и это ее не украшало. Но зато, когда она стелила постель и наклонилась, чтобы поправить складки на простыне, Дарий ощутил такое желание, такой озноб, как будто вернулся в юношескую пору, когда похоть побивала все рекорды. Он подошел к Пандоре и, приподняв с попы халатик и не увидев на ней трусиков, начал пристраиваться. И что особенно ему показалось сладостным – это ее спокойствие, покорное ожидание, как будто так и должно быть, то есть застилать постель и в это же самое время заниматься еблей. Впрочем, он помнил моменты, когда они и во время стирки белья… И подумалось ему, что поза «шалашик» была наиболее любимой и Октябриной. Она могла часа полтора, выпятив ягодицы, работая ими и так и сяк, предаваться соитию, и в конце концов возвестить об окончании фирменным вскриком: «Ой, мамочка, сейчас умру», – точь-в-точь как Октябрина. Но Пандора… Она старалась повернуть голову так, чтобы Дарий видел ее лицо, а Дарий, ослепленный ревностью и желанием, несмотря на резкую боль в Артефакте, подобно зубру, охаживал и охаживал ее теплую, объемную, архитектурно безукоризненную плоть, пока не наступила развязка. Впрочем, банальная, как у миллиарда индивидов, занимающихся тем же. Потом Пандора сушила феном волосы, Дарий в другой комнате рассматривал свою крайнюю плоть, которая, увы, требовала незамедлительной помощи… И это был непреложный факт, однако ничуть его не опечаливший, ибо в ту минуту он ощущал себя поблизости от райских кущ и озер Эдема…
Преподобная мученица Фомаида Египетская предпочла смерть супружеской неверности… Спаси и сохрани тех, кто на такое способен…
Глава четырнадцатая
На похороны Олигарха Дарий не поехал. Наверстывая упущенное время, он с пяти часов утра работал у Флориана. Снежная королева… Когда он ее писал, то рука невольно, деталь за деталью, черточка за черточкой, штрих за штрихом повторила лицо Пандоры. Прекрасное лицо славянки в ледяных, опушенных инеем, но проникновенно сказочных одеяниях.
Уходя на работу, закрыл Пандору на ключ и оба ключа (свой и ее) взял с собой. Кто бдит, тот не спит. Во время перекуров он звонил домой, на городской телефон и, когда слышал голос Пандоры, клал трубку.
В три позвонил и попросил ее приготовить голубцы, которые в ее исполнении – шедевр кулинарного искусства. А чего удивляться, она от природы и в самом деле по-хозяйски очень даровитая и ловка руками. Однако сказка так увлекла, что он забыл об обеде, тем более, ему казалось, что работы осталось немного и к часам двенадцати ночи он все закончит. Но тут, как водится, вмешалось провидение: позвонила Пандора и сказала, что к нему пришла какая-то женщина с собакой, но поскольку она не может ее впустить в квартиру, посоветовала подождать на лавочке. Дарий вытер скипидаром руки, положил кисти в банку с растворителем и отправился домой. Что то ему подсказывало: к нему явились с плохой вестью. Когда он вошел во двор, женщина, сидящая на лавочке и держащая в руках коричневую таксу, поднялась, и Дарий, пока шел по дорожке, успел посетительницу разглядеть. Не более сорока, рано поседевшая, с большими карими глазами и полными, слегка подкрашенными губами. В общем довольно приятная внешность, хотя и с печальным выражением на лице. Она представилась свояченицей Кефала, и когда начала говорить, заволновалась, лицо зарделось и оттого стало еще симпатичнее.
– Вы, пожалуйста, не волнуйтесь, идемте в дом, и вы все там расскажете, – Дарий уже догадывался, с чем к нему явилась посланница.
Но женщина наотрез отказалась и снова села на лавочку.
– Говорить-то, собственно, не о чем, художник Кефал умер, и в записке, оставленной на столе, было указано ваше имя и адрес… Просил собачку отдать вам, хотя я не знаю, как вы к этому отнесетесь…
– Когда это случилось?
– Три дня назад, и если бы не она, – женщина погладила таксу по голове и прижала к себе, – она так плакала, что соседи вызвали полицию, а потом уже позвонили нам. Он на даче покончил с собой, выпил титановые белила…
– Когда похороны?
– Будет кремация, кажется, в следующий четверг.
– Но, насколько мне известно, он не хотел быть кремированным, – Дарий почувствовал пустоту и абсолютное несоответствие их диалога с его настроением. – На этот счет Кефал ничего не оставил?
– Нет… По-моему, ничего такого ни в записке, ни на словах не было. Хотя он необычный человек, и не всегда его слова были однозначны. Впрочем, это решать его жене, хотя последние годы они вместе не жили… да и дочь есть… Они просили узнать насчет выставки. На даче нашли две картины, на которых были приклеены записки – «для выставки»…
– Это не проблема, выставка еще только готовится и, очевидно, раньше Рождества не откроется. Вы мне позвоните, или пусть позвонит его жена, и мы договоримся о встрече. Но можете и сами отвезти полотна в Дом культуры. – Дарий нагнулся и взял в руки таксу. Сказал: – Иди, малышка, ко мне, я тебя познакомлю с Найдой, будете с ней дружить… – И к женщине: – Найдой зовут мою кошку, но вы не беспокойтесь, она смирная, я думаю, они поладят, но пока поживут в разных комнатах.
Женщина указала на лежащий на лавочке целлофановый пакет:
– Здесь сухой корм, на первый случай, и ошейник с поводком. Они совершенно новые, я только что купила. Ее надо два раза выгуливать, и желательно на поводке. Она еще глупая, а тут близко улица. Мне жаль, что доставляем вам лишние хлопоты.
– Это не хлопоты, хлопоты у вас. Жалко старика, хотя жил он в свое удовольствие.
– Что, кстати, не всем нравилось, – женщина поднялась и, отряхнувшись от собачьих ворсинок, протянула Дарию руку. Она была теплая и сухая. – Вы будете на похоронах?
– Не думаю, я только что был на двух… и больше не могу. Да и, насколько мне известно, Кефал сам никогда не ходил на такие церемонии.
– Это верно, он даже не хоронил собственного сына… Да ему на все было наплевать, он никого не жалел и не любил. Только себя и свои картины.
– Я думаю, что и себя он не очень любил, а вот картины… Вы сказали, что на даче нашли только два его полотна, но, насколько мне известно, в его рижской квартире был целый склад.
Женщина отвлеченно посмотрела на низкое хмурое небо и так же отвлеченно сказала:
– Говорят, хотя в это трудно поверить, за день до смерти он все картины привез на дачу и там сжег. Я сама возле дома видела следы от костра. Да, да, припоминаю, даже фрагмент рамки с металлическими петельками. Какой-то девчонке он завещал рижскую квартиру, а картины уничтожил. Не оригинал ли?
Дарий ужаснулся. Не мог поверить и вспомнил их последний с Кефалом разговор, когда тот просил сжечь его картины. Но тогда его слова показались эпатажем, совершенно не обязательными, чтобы к ним прислушиваться.
Когда женщина ушла, Дарий принес таксу в дом и, не спуская с рук, познакомил ее сначала с Пандорой, которая, щебеча ласковые слова, погладила ее, поцеловала в нос, затем поднес к сидящей на кресле Найде, и та, зашипев, сжалась, но не видя опасности, вытянула шею и дотронулась усами до собаки. А такса и глазом не повела, понюхала Найду и, лизнув ее ухо, уставилась на экран телевизора. Художник опустил ее на пол, после чего приготовил посуду для воды и корма. Так в его доме прибавилась еще одна четвероногая душа. Но когда где-то что-то прибывает, то оттуда, как правило, что-то и убывает. Но случится это не в тот день и даже не через неделю, но случится обязательно и неотвратимо…
Через пару дней Дарий сдавал работу Флориану. И немного волновался, ибо не мог допустить, что кто-то, тем более мошенник, может его творение не принять или поставить качество работы под сомнение. Но именно это и случилось. Долго Флорик ходил по периметру комнаты, осматривая изображенные на стенах сюжеты, многозначительно морщил лоб, курил и, экономя слова, снова останавливался, чуть ли не вдавливаясь своим длинным шнобелем в стену и наконец, замерев у розы с улиткой, изрек:
– Тебе не кажется, что улитка очень похожа на напившегося крови питона? И раскраска у нее какого-то змеиного цвета… Ребенок может насмерть испугаться.
– Возможно, ты прав, но идея сказки в том, что роза отдает себя всю до последнего лепестка людям, чтобы своей красотой облагораживать мир, а улитка… это и впрямь откормленный брюхоногий моллюск, живет только для себя и думает только о себе.
– Да? – Флориан выжал из себя улыбку, и Дарий поразился его белозубому оскалу. Хищник с искусственной челюстью. – Тогда вопросов нет, каждый должен жить только для себя. В этом смысл жизни… Что же касается розы, то ты ее изобразил довольно реалистично, хотя, где ты видел, чтобы у цветов были глаза и рот?
– В сказке и не такое бывает… Это называется одухотворенностью. А как же иначе – улитка, значит, живая, а роза – бесчувственный никчемный кустарник? Нет, они должны быть равны в отношении сказочного присутствия в детском воображении. Это всего лишь метафора, но именно через метафоричность ребенок познает мир.
– Ты так думаешь?
– Я в этом абсолютно уверен. Я этому учился в Академии художеств, и поверь, воображение ребенка гораздо гибче нашего, и он ЭТО воспримет правильно…
Флориан, неверующий антроп, мошенник, жулик, которому в теплых краях, граничащих с Аравийским полуостровом, уже давно бы поотрубали руки и, возможно даже, покусились бы на его Артефакт, сделав кастратом. Да нет, за ту сумму, которую он умыкнул у своего делового партнера, его, пожалуй, скормили бы крокодилам или же сварили бульон для страдающих гастритом каннибалов.
Когда они перешли ко второй стене, Флориан, не стал тянуть время, а напрямик выпалил:
– У тебя Снежная королева похожа на одну шалаву. Такая же красивая, но с явными на лице следами повышенной сексуальной активности.
– А тебе нужен синий чулок? – Дария разозлила столь нелицеприятная оценка Снежной королевы тире Пандоры, с которой он писал сказочный персонаж. – И где, интересно, ты видел такую шалаву?
– Да черт его знает, ощущение такое, что я ее вижу каждый день… Впрочем, королева мне нравится, значит, понравится и ребенку. Тона красивые, и изображенный тобой снежный мир создает рождественское настроение. Я думаю, это как раз то, что нужно для детского восприятия. Только вот почему у тебя солнце зеленого цвета?
– Потому что этот изумрудный цвет очень сочетается с голубым церелиумом и аквамарином. Создается больше таинственности, что для сказочных сюжетов непременное условие.
– Ладно, тебе видней. Спасибо… Что я еще могу тебе сказать?
Флориан замолчал, хотя Дарий после таких дифирамбов рассчитывал на большее. Думал, что за сдачей живописи последует денежный расчет за проделанную работу. Тем более, Флорик договор уже нарушил, не заплатив оговоренные 25 процентов за первую стену.
– Ну, если ты мою работу принимаешь, давай уладим наши финасовые дела, – без напора предложил Дарий, однако с глазами Флориана при этом постарался не встречаться.
Но Флорик опять заткнулся, словно ему зашили рот. И началось барсучье сопение, вздохи овдовевшей матроны.
– Немного придется подождать. Во-первых, приезд жены, а это, ты сам понимаешь… дополнительные расходы, во-вторых, нужно закончить строительство, – Флориан рукой указал в сторону строящегося на другой стороне улицы дома, – а у меня проблема с кредитом. Мы же соседи, чего волноваться? Как только немного утрясу с кредитом, сразу же рассчитаюсь.
– Но договор… Я же тебя не принуждал, – Дарий нервно закурил и стал делать тяжелые затяжки. Ему даже стало трудно дышать, ибо от такой наглости нутрянка его покоробилась. – Ты же знаешь, художники живут только на то, что заработают. Мы же не акционеры какие-то, живем от и до… в пределах возможностей кисти и красок. Так что, будь любезен…
Дарий взглянул на стоящее на полу ведро, в котором он мыл кисти, и на мгновение представил, как он из этого ведра выплескивает на разрисованные стены его содержимое. Подтеки, подтеки, подтеки… Мелкая месть во имя чести и спасения художнической миссии.
Возможно, Флориан этот взгляд правильно истолковал, поскольку, сменив тон, выпалил:
– На следующей неделе рассчитаюсь. Не думаешь же ты, что я хочу замотать заработанное тобой?
Но хоть он и знал, что слова Флориана, отлетающие горохом от его белоснежных зубов, ничего не стоили, спорить не стал. Считал ниже своего достоинства. Сказал только:
– Ходить за тобой и клянчить я не буду, но запомни – скупой платит дважды.
– Это что – угроза? – У Флорика от нервности отвисла нижняя губа. Он уставился в переносицу художника своими промытыми враньем глазами, видимо, ожидая от него еще каких-то реминисценций. Однако напрасно…
Дарий, собрав в газету кисти, не прощаясь, вышел из обновленной детской. И как ни странно, за пределами усадьбы мошенника он почувствовал себя вполне свободным (от злобы и неприятия чужих пороков) человеком, даже остановился посреди улицы и, обратив к небу лицо, несколько минут наслаждался плывущими по нему сахарными, с радужным окоемом облаками… Времена года – это манна и для музыкантов, и для художников. И каждый день что-то приносит неповторимое, не похожее на предыдущие тысячи осенних дней. Липы с березами уже как следует подрумянились, по человеческим мерками – поседели, вошли в зрелость, которую пропустить никак нельзя. И потому, придя домой и пересказав Пандоре разговор с Флорианом, он отправился с ней и мольбертом к морю. И Пандора, и мольберт, будучи разными воплощениями мира, в тот момент были для него одинаково незаменимы и дополняли друг друга. Конечно, скажи он об этом Пандоре, она вряд ли поняла бы его.
На следующий день, вытащив из книги «Кто есть кто?» последний резерв в 100 долларов, он отправился в больницу, благо далеко ходить не надо. Перешел улицу, миновал длинный сетчатый забор, завернул за угол и – приемное отделение. Разговор с хирургом Кальвой был тет-а-тет, в его кабинете. С полками для книг, компьютером и двумя массивными кожаными креслами. Они уселись друг против друга, и Дарий, как на духу, поведал ему о своих заморочках. Когда подступил вплотную к теме фимоза, то бишь болезни крайней плоти, хирург предложил ему предъявить Артефакт, что Дарий и сделал, не вставая с кресла. Тем более, он сидел напротив окна и потому свет… Все как на ладони… и хирургу без труда удалось разглядеть матчасть художника, чьи картины висели в нескольких палатах терапевтического отделения. Да, когда-то там лежала его мать, а потом многократно его Элегия, и он вместо конфет одаривал медперсонал своими картинами. Какие-то они уносили домой, какие-то оставляли в больнице.
Осмотр был в духе блицкрига, и когда Кальва отправился мыть руки, до слуха Дария донесся его в общем-то ожидаемый приговор:
– Ну, ничего не остается, как только обрезать… Согласны?
– Вы же сами сказали, что ничего другого не остается…
– Слово «другого» я не говорил. Я так никогда не говорю. А если серьезно, чем быстрее это сделаем, тем лучше. Я боюсь, чтобы не произошел парафимоз…
Дарий знал, что это за зверюга «парафимоз» – некроз тканей головки с последующими… Спасибо Петронию, просветил…
– Согласен, если деваться некуда.
– Тогда сидите здесь, а я схожу и предупрежу операционную сестричку.
Художник остался один в кабинете. Однако чем больше проходило минут, тем больше он начинал нервничать. Хотелось курить, чтобы унять внутренний мандраж. А черт его знает, чем все это может кончиться? Ведь ненароком могут отхватить не только крайнюю плоть, но и… Дарию стало смешно и горько от своей инфантильности. Он поднялся с кресла и вышел из кабинета. И как раз вовремя: со стороны операционной по длинному, надраенному санитарками коридору, размашисто шагал хирург. Высокий, статный человек, к тому же чем-то смахивающий на американскую кинозвезду Алека Болдуина. Халат нараспашку, под ним – серый, с темно-вишневым контекстом двубортный костюм, кремовая рубашка с оранжевым галстуком. Казалось, каждый его шаг высекал золотистые искры успеха.
– Все в порядке, – сказал он. – Наркозик общий или же обойдемся местным?
– Я думаю, достаточно местного, – Дарий боялся наркозов. Он хорошо помнил, как Элегию, когда ей удаляли два зуба и сделали анестезирующий укол в позвоночник, пора зил анафилактический шок – аллергическая реакция на препарат и ее едва откачали в этой же больнице. Впрочем, если все вспоминать, не хватит вечности, и Дарий покорно потащился за возвращающимся в операционную врачом.
Перед тем как лечь на стол, под гроздь операционных светильников, он вынул из кармана свой тюбик и достал таблетку клонозепама. Для успокоения. И предупредил Кальву, который, кивнув головой, что, дескать, не возражает, уже натягивал на руки резиновые перчатки. Без получасового и наитщательнейшего умывания рук, как это показывают в старой закваски советских фильмах. И когда Дарий уже во всю длину своих метра восьмидесяти двух уложился на хирургическом столе, в операционную вошли две медсестры, которым положено ассистировать главному хирургу. Одна из них, лет пятидесяти, совершенно невыразительная особа, зато вторая… Молоденькая, с симметричными чертами лица, и Дарию даже подумалось, что если бы он был на месте Кальвы, то непременно закрутил бы с ней роман. Тем более его кабинет как раз подходит для теневого секса. Одни кожаные кресла чего стоят – ляжки в стороны, на широченные подлокотники, и люби, сколько душе захочется. И пока он думал эти глупости, Кальва воткнул в его Артефакт иглу и сделал первый анестезирующий укол. По договоренности с Дарием – новокаин. Затем молодая красавица подала хирургу еще один шприц, и – снова жалящий укус в и без того болезненную крайнюю (прощай, старушка!) плоть. И все же, как ни легкомысленна была операция, его с головой прикрыли синим прозрачным пологом, наверное для того, чтобы он не смотрел и не умер от расстройства, когда ему будут обрезать одну из самых заповедных частей тела. Было больно… больновато… но не более того, когда он врезался Артефактом в землю, овладевая своей бедной Пандорой в ее палисаднике. Ах, как давно это было! Впрочем, обман ощущений, это было летом, еще до Медового Спаса, но после Лиго, ибо на рынке еще продавались дубовые венки и веники из камыша и папоротника.
Когда Кальва взялся за ножницы и, двумя пальцами оттянув кожицу, начал ее кромсать, Дарию это показалось почти невыносимым, и он до судорог в челюстях сжал зубы. И пальцы на ногах и руках тоже сжались, да так, что ногти, которые он забыл подстричь, впились до крови в ладони. Медсестры работали (и это называется работой!) молча, и до Дария донеслись всего две-три реплики, которые бросил за время операции Кальва. Больнее всего было тогда, когда Кальва начал обметывать обрезанную плоть нитками. То есть делать оверлочную операцию, чтобы остаток плоти приобрел достойный вид и не болтался позорными лохмотьями. Правда, впоследствии выяснилось, что Кальва, обладая прекрасными способностями мясника, портным был никудышным. Позже, когда Дарий обследовал то, что осталось от крайней плоти, он, к его сожалению, ничего хорошего не увидел: никакой эстетики, словно ее специально кто-то постарался сделать неровной, волнообразной и зигзагообразной. Впрочем, ее пересеченный рельеф мог сыграть и положительную роль, допустим, в момент вторжения в ВЛГ и соприкосновения с мифической точкой «джи»…
Когда все было отрезано и зашито, вернее, оверлочно обметано, с него сняли полог, и Дарий увидел улыбающееся лицо Кальвы.
– Могу вставать? – спросил Дарий и начал спускать со стола ноги.
– Не спешите. Сейчас сестричка проводит вас до палаты, где вы можете до вечера полежать, а я за вами присмотрю.
Вот в таком сугубо будничном ключе и был совершен обряд обрезания, которому на берегах Средиземноморья, и в более отдаленных Индонезиях придают столько значения и что частенько является наилучшим дипломом (свидетельством, аттестатом) национальной принадлежности и религиозной идентичности, а также не менее религиозной лояльности. Дьявол пошутил с неверующим Дарием и посмеялся над предрассудками мусульман, иудеев, гигиенически непорочных европейских педофилов и местных педера… которые обрезание делают исключительно для лучшего проникновения в аномальные зоны анального отверстия. Перечислил стенания и высказал стоны необрезанный и некрещеный ощущая присутствие Ездры вошел в синагогу без шапки нарушив законы в шапке в храм православный крестясь на иконы но за иконостасом не виден престол и в алтарь не решился войти бос и гол необрезанный и некрещеный в переулке крутом к синагоге отверг приобщенья в белокаменном храме Христа над рекой в воскресенье отвергнув крещенье доморощенна вера твоя и кустарны каноны необрезанный и некрещеный…
Не успел Дарий улечься на казенную кровать и познакомиться с двумя постоперационными больными, как в палату заглянула Пандора. И ему показалось, что это солнышко пробилось сквозь пластилиновые кучи облаков, и он даже подумал, что жизнь только-только начинается. Отрада прикоснулась к его надсаженной душе и объединила в один томик любви прошлое и настоящее. Она была с его картиной, будущим подарком для Кальвы.
– Заходи и садись сюда, – он похлопал ладонью по боковине кровати. Дарий улыбался, и Пандора, цветя улыбкой, быстренько уселась рядом. Принесенный пейзаж поставила в ногах, прислонив к спинке кровати, бананы – на тумбочку, а в тумбочку спрятала бутылку кьянти – естественно, по предварительному заказу Дария.
– Болит?
– Пока нет, хотя после отхода наркоза, возможно, и поболит…
– Но все равно мне придется набраться терпения и подождать, пока он окончательно заживет, – и она снова провела рукой по одеялу, под которым, урезоненный ножницами, спал Артефакт.
– Придется, если, конечно, у меня нет дублера…
– Дурачок, с тобой на эту тему лучше не разговаривать, тебе всюду мерещатся… – она не закончила свою вдохновенную, но столь же и бессмысленную тираду – в палату вошел Кальва.
Дарий познакомил его с Пандорой, назвав ее «моя любимая женщина». Не жена, а именно «моя женщина». То есть блудница, шлюха, шалава, куртизанка, ночная бабочка, мотылек с прорезью между ног и т. д., и т. п. – как хочешь, так и понимай. И Кальва тоже заинтересованно заулыбался, раскланялся и даже предложил кофе, разумеется, в его кабинете, и Дарий, приняв предложение и прихватив из тумбочки бутылку кьянти с бананами и принесенный пейзаж, вместе с Пандорой пошел за доктором. А чего много мудрить, операция ведь не на ногах и не на сердце.
Выгадав минуту, Дарий вручил доктору свое творение с приложением в виде стандартного конверта. Черт с ними, со ста долларами, они все равно его не спасут. Однако, когда они собирались уходить, Кальва дал совет, как опекать Артефакт в послеоперационный период: каждый день перевязывать и смазывать зеленкой. И желательно делать содо-солевые ванночки, а если будет очень болеть – вот вам, пожалуйста, рецепт на обезболивающие свечи.
Когда они по лестнице спускались вниз, встретили Легионера, одетого в больничный полосатый костюм, из-под коротких штанин которого выглядывали шерстяные, ручной (Лауры) вязки, носки. Он шел так, как ходят люди, не очень видящие дорогу и чьи глаза напоминают остановившиеся часы, когда стрелки и сам циферблат вроде бы на месте, но никакого движения не наблюдается. Дарий хотел было заговорить, но Пандора (мастер маневра!), шедшая сзади, подтолкнула его, не позволив останавливаться. И уже после того, как они уплатили в кассе деньги, по пути к дому она сделала выговор:
– Зачем лезть к человеку, который весь сам в себе? Для него любое напоминание о том дне невыносимо.
– Много ты понимаешь… Человеку важнее участие…
– Да, конечно, участие собутыльников, которые отравили его и лишили зрения и теперь приходят сюсюкаться. Так же ты поступил и со мной … Если бы не ты, я бы сейчас… – Пандора явно отпускала тормоза, и Дарий попытался в корне пресечь эти поползновения.
– Или прекратишь свою хабанеру, или я…
– Ну что ты сделаешь? Уйдешь? Так я, может быть, только этого и жду. Достукаешься, что в один прекрасный момент проснешься, а в квартире – пустовато. Только Найда и эта косолапая такса. И все, космическое одиночество…
– И куда же ты денешься? Опять к тореадору подашься?
– Возьму и улечу в Италию, там моя бывшая коллега по поезду работает и неплохо зарабатывает…
– В борделе, небось…
– Где хорошо платят, там и зарабатывает.
– Да, но… В Италии вулкан Везувий, коза ностра, и я бы на твоем месте подумал, прежде чем…
– Зато там умеют ценить красоту. Вот скажи, почему ты так потребительски ко мне относишься? Ты даже ни разу не предложил попозировать… Ты можешь рисовать свои пейзажи, какие-то лужи, восходы, закаты… Конкордию, Найду, но только не меня… Ни разу! Подумать только, ни разу не предложил сходить в загс, потому что я для тебя никто. Шлюха… Обыкновенная давалка, – и, кажется, впервые за годы их жития Дарий отчетливо увидел на лице Пандоры осмысленную и, как ему показалось, глубокую обиду. И слова, которые готовы были соскользнуть с его языка, после услышанного были бы неуместными. И он, взяв руку Пандоры, поднес к губам и поцеловал.
– Согласен, я действительно свинья… Но насчет загса ты не права. Мы трижды туда собирались и…
– Ага… То ты, как свинья напивался, то не мог пройти мимо автоматов и меня туда затаскивал…
– Даже не знаю, что тебе сказать… Но это ведь поправимо, верно? Я сделаю такой твой портрет, что любая Мона Лиза тебе в подметки не будет годиться. Подумаешь, надутая с поджатыми тонкими губами старая дева. Для меня это то же самое, что «Черный квадрат», и то и другое – дешевый эпатаж… А загс… он от нас никуда не уйдет… Хоть завтра…
Но для Дария «завтра» – это не ближе, чем бесконечность…
Для выставки он выбрал две картины. Одна из них – «Последний закат», которую Пандора обозвала неслыханной мазней и на которую старый Кефал (царствие ему небесное) молился, как на икону, другая – портрет Конкордии… «Женщина с кошкой».
Выставка компоновалась в двух достаточно больших комнатах, заполненных свечным духом и ароматами осенних цветов. И прямо по ходу, на главной стене, в которую сразу же упирался взгляд, он увидел картины Селима. Три больших полотна, что называется, до краев наполненные буйством красок. Но если при их виде глаз поражался и, быть может, даже восхищался, то душа никак не откликалась. Неодухотворенно помалкивала. Это была так ненавистная Дарию абстракция, беспредметщина, суета пластмассовых чувств, подмена истины сумбуром. Но, дорогой абрек Селим, мода на абст-рр-акц… давно миновала, все, что можно было с ее помощью сказать, сказано титанами, и теперь салоны прокрапливают брызги повторов и потуги имитаторов.
Слева от Селима висели две картины Андрея Горгоца: портрет женщины в черной шляпе с широкими полями и натюрморт с кружкой золотистого пива, раками, судя по красному цвету, уже побывавшими в кипятке, и рядом с ними – тоже золотистые спинки двух рыбин, по замыслу художника – неотъемлемого атрибута пивного пиршества. И Дарию показалось, что кружка, в которой так зримо угадывалась пенистая (не путать с пенисом) каемка пива, немного наклонена и, если ее нечаянно задеть, она непременно перевернется. Явно нарушенные пропорции и преднамеренно искаженная перспектива – тоже уклон в сторону авангардизма…
Их встретила заведующая Домом культуры белокурая Розанна (Роза и Анна), кажется, не в меру пшеничная, особенно по части нижней половины тела. Погрузневшая буренушка, возвращающаяся после выпаса на жирном клеверище. Да и туфли на низком каблуке усугубляли… Впрочем, Розанна и в молодости не ходила на шпильках, мешала ее очаровательная косолапость… И белокурая не от природы – от перекиси водорода или же лондотона… Однако близкая знакомая Дария. Еще по юношеским годам, по танцплощадкам, которых в Юрмале было столько же, сколько насчитывалось здравниц.
Когда им негде было уединиться, они отправлялись в дюны и, найдя берложку, занимались глупостями. Иногда к ним подкрадывались онанисты, и тогда Дарий гнался за ними или же бросал в их сторону пустую бутылку из-под вина. Ее любимая позитура «апате»… «шалашик», но только на природе, в обнимку с деревцом… В помещении же, когда не надо остерегаться гнусных подглядывателей, Розанне больше всего по вкусу «кабаний удар», в чем когда-то Дарий был неплохим исполнителем. А разве во время «бычьего удара» он был другим?
Дарий стоял возле своих картин, когда Розанна произнесла:
– Я что-то не помню этого места. Я вообще не понимаю, что передо мной… – это она о «Последнем закате», который принес Дарий.
Пандора толкнула его локтем: мол, а что я говорила, мазня и только. Но он так взглянул на Пандору, что та мгновенно прикусила язык.
– Это Рижский залив во время заката, – пояснил Дарий, подойдя к Розанне. – А что тебе не нравится?
– Дело не в этом, просто я растерялась… Такое впечатление, будто я попала в детство, когда впервые увидела заходящее солнце… – И глаза у строгой Розанны увлажнились и, видимо, чтобы скрыть нахлынувший сантимент, она отвернулась и вышла из зала. А возвратившись, спросила, где бы Дарий пожелал повесить свои картины – с каким художником рядом?
– С Кефалом. Если, конечно, его тут представят.
– Да, разумеется, мне уже звонила его дочь и обещала привезти две картины…
– Прекрасно, и, если не возражаешь, помести нас вместе. Розанна задумалась.
– Говорят, он все сжег… Я этого никогда не пойму, – она развела руками, словно призывая в свидетели висящие на стенах полотна. – Впрочем, это на него похоже. Был случай, когда одну из чужих картин на республиканской выставке он облил гуашью. Ему показалось, что художник бессовестно скопировал Левитана, и это вывело его из себя. Вообще это был неуправляемый человек.