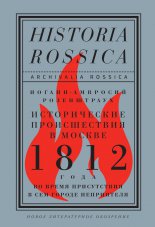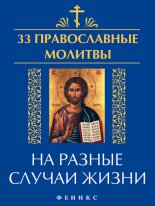Эти странные семидесятые, или Потеря невинности Кизевальтер Георгий
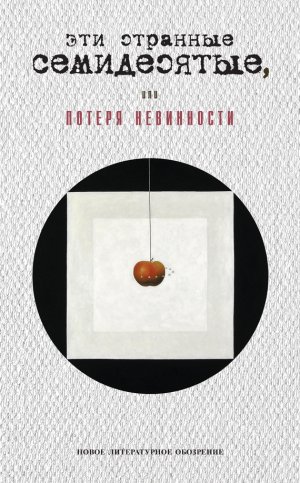
Сегодня понедельник. В среду класс композиции. Его ведет Александр Данилович Меламид. Надо не забыть рассказать ему о нашем походе. На любой вопрос у него горы информации. Он, безусловно, расскажет и о Моне, и об импрессионистах, и о том, как достичь этой импрессионистской легкости. Он построит мир, где каждая замеченная нами деталь приобретет смысл. Александр Данилович – гений!
Год 1972-й. Екатерина Игоревна Арнольд, жена нашего учителя, приводит нас и группу своих учеников в мастерскую Оскара Рабина. Это небольшая квартира, по-моему, на первом этаже. На стенах живопись: «Селедка на орденоносной “Правде”», «Паспорт», «Вид Тарусы»… Екатерина Игоревна с почтением расспрашивает. Мы с почтением слушаем. В душе тоска. С точки зрения живописи это даже не уровень «Бубнового валета». Что старик хочет сказать? Что Советская власть плохая? Мы это и так знаем. Решаем, что это критический реализм.
Возвращаемся в мастерскую Меламида. Комар и Меламид работают над «Лентой». Маленькие деревянные плашки от детского лото, загрунтованные желатином. Их много. Они превращаются в уникальные миниатюры. Каждая в своем стиле. Этих стилей десятки. Комар и Меламид работают над фундаментальной идеей Эклектизма. Живопись перестает быть одним окном в один мир.
Очевидно, что каждое живописное произведение наделено стилем, который выявляет одни стороны мира и затеняет другие, то есть стиль – это интерпретация. Сталкивание этих интерпретаций в одном произведении позволяет нам получить надстилевую структуру исключительной степени свободы. Теперь мы можем сосуществовать в разных мирах одновременно.
Из концепции эклектизма вырос соц-арт, явление, с точки зрения искусствоведения, очень важное для русского искусства и уникальное в мировой культуре. Вместе с тем концепция эклектизма, на мой взгляд, является одной из первых моделей аналитического концептуализма, с точки зрения которого соц-арт – лишь одна из манифестаций гораздо более глубокой концепции.
Глядя назад, я спокойно принимаю и социальность Рабина, и духовность Свешникова, и активность Кукрыниксов. Разные подходы разных художников. Вместе с тем остается гнетущая неудовлетворенность от того, что каждый из этих подходов подразумевает искусство как вид служения неким высшим ценностям, будь они политические или духовные. Поиски Высшего оказываются поисками прикладными.
1974-й год. Мне восемнадцать. Имена художников, которые я слышу: Рабин, Ситников, Борух, Рухин, Одноралов, Чернышев, Юликов. Эти имена я слышу от моего любимого учителя Александра Даниловича Меламида. Эти имена составляют круг художников, к которому мы принадлежим и от которого мы отталкиваемся. Мы принадлежим к этому кругу потому, что каждый из этих художников – это мы, это то, что мы делаем, это то, как мы живем. Отталкиваемся же потому, что фундаментально этот круг занимается пластическими проблемами.
Даже такие мощные художники, как Александр Юликов и Михаил Чернышев, которые в то время произвели на меня огромное впечатление тончайшими интерпретациями геометрического абстракционизма и минимализма, – даже они занимаются проблемами эстетическими. Хотя, конечно, я должен повторить, что это 1974 год. И проблемы нерепрезентативного (абстрактного) искусства уже выросли выше крыши. Фактура мазка, можно ли обводить фигуру контуром – вот проблемы, над которыми работают ведущие художники Союза. Разрыв между левым МОСХом и нами ОГРОМНЫЙ. И все-таки недостаточный для выхода за рамки изобразительного искусства.
Мы также члены другого круга. Круга виртуального, не знающего границ пространства и времени. Джозеф Кошут, Энди Уорхол, Ив Клайн и, конечно, божественный Марсель Дюшан: все это ребята из моей компании. Я их знаю, я слышу их мысли. Мне не нужно объяснять, чт этой работой хотел сказать художник.
При взгляде назад меня поражает, с какой, на самом деле, легкостью произошел перход русского искусства от примата изображения к примату концепции. В 1973 году Комар и Меламид делают первую в Советском Союзе инсталляцию «Рай», 1974-й: кубики – объекты Риммы Герловиной; 1975-й: первый хэппенинг / боди-арт Донского – Рошаля – Скерсиса «Гнездо»…
И пошло!
А всего три года спустя появляются «Мухоморы», для которых акции естественны, как карандаш. Ощущение такое, что там, где мы за два года до этого с героическими усилиями складывали два слова в одно предложение, теперь все говорят стихами.
1977-й год. Общий уровень дискурса о современном искусстве заметно поднялся. В Москве появляется ряд кружков единомышленников, людей не просто интересующихся общими духовными или социальными вопросами, но конкретно современным искусством.
Особенно интересны были вечера в мастерской Ивана Чуйкова. Иван – один из немногих, кто знал английский. Кто-нибудь из художников, часто это был А. Меламид, приносил иностранный журнал или редкую в те времена книжку по искусству. Мы все с интересом смотрели репродукции. Иван сначала переводил подписи, а потом читал прямо с листа одну или несколько статей. Большинство собравшихся были старше и меня, и Рошаля, и Донского. Это были люди со своим багажом, со своим собственным, выношенным пониманием искусства. Вместе с тем никто точно не знал, что происходит на Западе. Поэтому в ходе чтения постоянно возникали дискуссии, обмен мнениями, попытки дополнить недостаточные факты, попытки объяснить выпадающие явления, попытки построить связные модели того, чт есть современное искусство.
Здесь мы должны остановиться и обратить наше внимание на этот последний факт. Чтобы понять, чт означают те или иные явления искусства, нам было необходимо создавать из разрозненных фактов более общую картину, рабочую модель современного искусства. Рабочую потому, что, во-первых, наборы этих разрозненных фактов обычно не совпадали, то есть модели разных художников различались, а во-вторых, эти модели были также нужны, чтобы понять собственное место в искусстве и определить вероятное направление движения в будущем.
Художники обсуждают произведения искусства постоянно. Вопросы о том, как работа сделана (техника), нравится она или не нравится, похожа ли на работы других художников и т. д., – все эти вопросы очень важны и являются частью профессиональной деятельности. Вместе с тем эти вопросы задаются и разрешаются на уровне элементов искусства. Моделирование же структуры искусства в целом есть явление другого уровня – метаискусства.
Модели являются не только объяснением ситуации, но и руководством к действию. А это уже фундаментальный сдвиг: переход от описательной позиции элементарного искусствоведения к проактивной позиции аналитического концептуализма.
Итак, к середине 1970-х годов русское искусство выходит на очень важный рубеж: преобразование искусства изобразительного в искусство умозрительное.
Мы в этом были не одиноки. Так, в это же время американский художник Лоренс Вайнер (Lawrence Weiner) создает классические, с точки зрения этого перехода, работы. Его идея состоит в том, что нет необходимости в изображении объекта (как в живописи) или даже в самом объекте (как в поп-арте). Давая просто описание объекта, художник конструирует этот объект в сознании зрителя. Таким образом, изображение на сетчатке глаза перестает быть не только ведущим, но и необходимым элементом произведения.
Естественно, нечто похожее происходит и в литературе. Наверное, поэтому этот подход оказался так близок романтической ветви «московского концептуализма».
Романтический концептуализм морфологически выходит из литературы. Показательна в этом отношении статья И. Кабакова «Концептуализм в России (Предисловие к выставке “Муха с крыльями”)», где он, мельком упомянув Дюшана как основателя западного современного искусства, говорит, в основном, о литературной традиции Гоголя, Достоевского и Чехова как об определяющем для романтической ветви факторе.
Далее эту линию литературной традиции можно продолжить… Введенский, обэриуты, Сапгир, Холин, Кабаков, Пивоваров, Пригов, Рубинштейн, «Медгерменевты»… Литературные корни русского концептуализма не случайны. После Октябрьской победы социал-демократов (большевиков) буффонада государственного террора стала нашей жизнью. Небольшие очаги авангардизма оставались именно в литературе.
К середине 1970-х накапливается ряд других разработок, особенно в области авангардной музыки, которая становится все более церебральной, а также в исследовании практик восточной философии. Влияние музыки и восточной философии – областей, где идеи передаются не посредством коммуникации, но индуцируются, как индуцируется ток в проводнике, проходящем в магнитном поле, – также ведет к неочевидному искусству. Эти воздействия ведут к третьей – индуктивной – ветви концептуализма.
Таким образом, в московской школе я бы выявил три ветви концептуализма: романтическую, аналитическую и индуктивную. Все три активно формируются в период с 1974 по 1980 год – формируются на базе трех нечетких, но все-таки кругов. Это круг Кабакова, круг Комара / Меламида и круг группы «Коллективные действия».
Первоначально именно аналитическая ветвь была доминирующей. Практически все художники-концептуалисты этого времени так или иначе опирались на аналитические модели современного искусства. Эта практика помогала, с одной стороны, объяснить окружающим, чем же мы все-таки занимаемся, а с другой – придавала художественной деятельности определенную стабильность, что было очень важно, поскольку всех московских концептуалистов можно было пересчитать по пальцам. С точки зрения морфологии аналитический концептуализм возник, когда художники стали задавать все более глубокие вопросы о сущности искусства.
Лишенные информации с Запада, мы старались по картинкам из журналов, по отрывочным сведениям из заведомо негативных критических статей, по рассказам тех немногих, кто имел возможность выезда из страны, реконструировать состояние современного западного искусства. Реконструкции оказались, естественно, неполными. Но сама практика анализа доступного материала и построения на этой основе аналитических моделей современного искусства оказалась очень плодотворной.
К сожалению, как правило, художник, найдя свой собственный стиль или метод работы, переключается с общих тем на конкретные произведения. Вместе с тем, наблюдая вновь и вновь эти поиски и открытия новых подходов на основе общих моделей искусства, мы должны сказать, что этот подход работает, и его нужно изучать и совершенствовать. Более того, нет нужды ограничивать этот процесс созданием одного успешного стиля, нужно превратить его в генератор новых стилей и методов. Создание таких генераторов и есть основная задача аналитического концептуализма, которая остается актуальной и сегодня.
Нью-Джерси,июль – август 2008 года
Леонид Соков:
Москва, семидесятые…
Сейчас очевидно, что 1960 – 1970-е годы были переломными в русском изобразительном искусстве, и некоторым художникам удалось уловить флюиды нового в тогдашнем напряженном московском воздухе. Тогда были заложены те принципы современного русского искусства, которых во многом придерживаются и сегодня.
Если в 1960-х годах инакомыслящих художников называли подпольными, то в 1970-х их перекрестили в неофициальные. Неофициальное искусство было делом нехлебным, им занимались от силы полсотни художников, искренне заинтересованных в изменениях в отечественном искусстве, что очень мало для столицы такой державы, как СССР. Для сравнения, только в скульптурной секции МОСХа состояло 500 человек. Поэтому в наших кругах тогда был моден тост: «Выпьем за успех нашего безнадежного дела».
После окончания Строгановки в 1969 году меня приняли в МОСХ, что давало возможность зарабатывать в системе художественных комбинатов. Я прослыл в скульптурной секции МОСХа хорошим анималистом. Лепил козлов, лосей, медведей, лисиц, журавлей. Сделав из глины очередное животное, можно было спокойно заниматься работами «для себя». Правда, за такую же по размеру фигру Ленина платили в три раза больше, чем за козла.
Это я послужил прообразом стихотворения Пригова «Скульптор лепит козла». Дмитрий Александрович, сам по образованию скульптор, в 1970-х зарабатывал тем, что вместе с Борисом Орловым лепил пионеров. Он, конечно, передавал свои эмоции, когда писал: «Я вам покажу, блядям, как надо лепить козла». Слово козел звучит лучше, чем пионер, – в этом случае. Поэт имеет право на поэтическую интерпретацию.
Я был знаком со многими художниками из левого МОСХа. Там шло пережевывание эстетических теорий Запада, или следование теории немецкого скульптора и философа А. Гильдебрандта – в переводе В. Фаворского, или обращение к Фальку – тогдашнему гуру (Р.Р. Фальк умер в 1967-м), радение по поводу его невнятного сезаннизма. Понаслышке знал о существовании группы Рабина, Немухина, Мастерковой, Плавинского, Рухина, хотя перезнакомился со всеми значительно позднее. В начале 1970-х они были для меня мифическими фигурами, продающими свою «чемоданную живопись» по баснословным тогда ценам иностранцам. Говорили, что за некоторые работы платили по 500 рублей. В то время средняя зарплата инженера была 120 рублей в месяц, а кооперативная квартира стоила 3000 рублей. Это впечатляло.
В конце 1960-х – начале 1970-х Оскар Рабин был легендой московского неофициального искусства: он стоял у его истоков, был его двигателем и организатором «бульдозерной» выставки. Он изобразил самые важные для той ситуации вещи: «Рубль», «Паспорт», «Бутылка водки». Я бы сравнил его с Густавом Курбе, который повалил Вандомскую колонну – символ абсолютизма. Так и Оскар Рабин был ключевой фигурой того неофициального искусства, которое повалило невидимую колонну советского официального искусства.
С Эрнстом Неизвестным я познакомился году в 1972 – 1973-м. По приглашению главного архитектора Ашхабада он делал «лоб» здания весь в рельефах, а я – подвесную скульптуру для пивного бара-ресторана. Эрнст несколько раз приезжал в Ашхабад наблюдать, как ставят рельефы, а я там сидел четыре месяца, пока для меня в зоне строгого режима, куда я ходил каждый день, зэки сваривали скульптуру. По вечерам мы общались. Да и потом в Москве я часто забегал к нему в мастерскую. Разговора не было, с его стороны был сплошной монолог, в котором звучали слова: кентавр, Данте, минотавр, Хрущев, экзистенциализм, Хайдеггер, Сталин, советник Брежнева, Прометей. Я сидел, как Башмачкин, поджав под себя ноги, и узнавал, что Эрнст – гений помола Данте, что он не разлей вода с Генри Муром, ведет диалог с Микеланджело и Сартром и что у него поток сознания, как у Достоевского. От всего этого по спине бегали мурашки, и я был горд, что закусываю с таким великим человеком, который искренне делится со мной-Башмачкиным своими мыслями.
Роясь как-то в Библиотеке иностранной литературы в одном из польских или чешских журналов, обнаружил работу Михаила Рогинского – стена, выкрашенная в грязно-зеленый и в грязно-белый цвет. На зеленой части – керамический штепсель, так же закрашенный зеленой краской, и от штепселя переплетенные провода, уходящие за холст. Все это было правдой, не истиной на западный манер, а тутошней правдой. Так можно было покрасить только в этой части света, в ЖЭКе. В то же время это было искусство, рефлектирующее по поводу окружающей обыденности.
Я знал Рогинского как неофициального художника из группы гроб-арт – так иронически в нашем кругу называли тогда группу Есаяна, Повзнера, Рогинского и Измайлова. Они делали маленькие холстики, очень красивые по живописи, а по сюжетам – могилки, букетики, пейзажики – походившие на живопись крепостных художников XIX века. Все это было написано в «сострадательном наклонении». Я никак не мог ожидать, что Рогинский перед этим делал в Москве мощную, ни на что не похожую живопись. И я напросился к нему в мастерскую.
Мастерская его была за Музеем им. Пушкина, в полуподвале. Стекло при входе было выбито и закрыто холстом, на котором густо, «в упор» был написан кусок стены из керамических плиток, как бы советский Мондриан. Миша работал над маленьким холстиком и начал показ с него, но я попросил его показать мне работы, которые он делал раньше, вроде того холста, закрывающего разбитое окно. С неохотой он показал мне большой «Футбол», на котором полет мяча был обозначен стрелками; «Синий чайник» с тремя буквами по углам, реалистично и пастозно написанный ультрамарином; рассыпанную по столу картошку с надписью «Ебитесь-размножайтесь»; портрет мужчины и женщины с их телефонным номером; серии: «Штаны», «Плитки», «Примусы» и «Красная дверь» – не ready-made, а заказанная столяру, который сделал дверь как рельеф, а потом Миша ее записал красной краской и поставил ручку.
Продуктовый магазин на 2-м Щукинском переулке, где у меня до 1969 года была мастерская и куда я часто наведывался, был написан просто, как будто покрашен серо-желтой краской, с надписью «Продукты». «Трамвай № 21», на котором я проездил все мое детство и который останавливался на Соколе, где я жил; «Зеленая кастрюля» на табуретке – прямо посудина для Гаргантюа; виды заборов из окна электрички. Это были важные вещи для Москвы того времени, бессознательно мифологизированные через живопись Михаила Рогинского. Ничего подобного я еще в Москве не видел. Я только начинал копать в этом направлении, изучая скульптуру народов Сибири и читая Джеймса Джорджа Фрезера.
Стал спрашивать, почему Миша не продолжает работать в этом направлении. Он с неохотой отвечал, что это никому неинтересно и никто это не покупает. Мы были тогда на вы, и разница в возрасте и мой тогдашний статус не позволяли мне делать замечание уважаемому и ценимому художнику. Уже в 1980-х, когда мы подружились и он, приезжая из Парижа в Нью-Йорк, останавливался у меня, я опять спросил его, почему он прекратил период «вещизма» 1960-х годов. «Лёнь, как в рот себе насрал» – был ответ. И еще добавил, что в 1960-е годы, производя в Москве подобные работы, он не встречал минимального понимания и обречен был бы «всю жизнь танцевать сам перед собой».
В 1970-х я общался чаще всего со старыми друзьями, отношения с которыми сложились еще в МСХШ. Местом, где мы пересекались, была квартира Сохранских. Они жили у Рижского вокзала, что недалеко от Большого Сухаревского, где у меня тогда была мастерская. У Славы Сохранского была неплохая библиотека, в основном литература и поэзия. Меня интересовала тогда, да и сейчас тоже, современная мифология, и он снабжал меня книгами по этому вопросу.
Я был без ума от обэриутов. В самиздате появились не детские, а серьезные, взрослые тексты А. Введенского, Н. Олейникова, Д. Хармса. Пытался сам разобраться в этом, выясняя: кто? откуда? почему? – а не просто: «нравится». Но материала о творчестве обэриутов не было, и подсказать было некому. Кое о чем догадался сам. Это был русский неизученный, неучтенный дадаизм. Что говорить об обэриутах в 1970-х в Москве, когда о дадаизме лекции в Сорбонне разрешили читать только в 1960-х!
Еще в 1960-х годах в издательстве «Советский писатель» понемногу стали выходить малыми тиражами книги поэзии: Б. Пастернака, М. Цветаевой, А. Белого. Продолжалось это и в 1970-х. Например, сборник Б. Пастернака в 1965 году в первом издании вышел тиражом 15 000. Можно было купить за большие деньги на черном рынке. Стали выпускать маленькие сборнички переводов Рильке, Рембо, Бодлера. Ходил по рукам тамиздат: Алданов, Замятин, Платонов, Шаламов. В самиздате распространялись перепечатки Мандельштама. В общем, в 1970-х постепенно утолялся информационный голод.
Из живых поэтов любимцем нашего круга был поэт Геннадий Айги. «У Айги две ноги» – так написал о нем Всеволод Некрасов: лучше не скажешь.
Ходили слушать М. Юдину, органиста Браудо, легендарного Святослава Рихтера. Андрей Волконский с семьей Лисициан организовал ансамбль «Мадригал», и они исполняли прекрасную музыку эпохи Возрождения. Слушали камерный оркестр Баршая. Покупал много пластинок классической музыки чешского производства: Бах, Гайдн, Моцарт.
В 1970-х в Москве были популярны фестивали зарубежных фильмов. Среди комедийной чепухи можно было посмотреть французских режиссеров новой волны и итальянский неореализм. Чтобы попасть на просмотр, мы покупали пустые бланки, и на них мои друзья-умельцы подделывали штампы, изготовляя их на картошке, а в серии билета аккуратно исправлялась одна или две цифры.
Изредка проводились выставки художников в клубах научно-исследовательских институтов, которые, провисев несколько дней, закрывались.
Но одним из интереснейших феноменов 1960 – 1970-х годов была культура показа художником своих работ. Я не имею в виду тот показ, когда не очень мытый, бородатый, выпивший автор, обведя рукой грязный свой подвал, на стенах которого висели небольшие холсты с сюрреалистическими потугами, мычал: «Ну, старик, это Лувр».
Обычно приглашались друзья и друзья друзей, но только «свои», посмотреть новые работы. Таким образом, я был в курсе того, что делают И. Шелковский, И. Чуйков, А. Косолапов, Эрик Булатов и Олег Васильев – они работали медленно, писали одну картину в год. Сам тоже показывал. Для того чтобы показать друзьям, работы, собственно, и делались. Это была дружеская, теплая атмосфера. Ты был вынут из липкого болота советчины, окружен теплотой и пониманием.
Несомненным мастером показа был Илья Кабаков. Поднявшись по вонючей лестнице черного хода дома «Россия», зрители попадали в просторную мастерскую на чердаке. Хозяин у пюпитра, на котором альбом «Летающие». «Если быть внимательным, то можно заметить, что большинство людей летает», – звучит в тишине голос автора. Затем медленная перестановка листа, так, чтобы зрители успели посмотреть изображение. Рассчитано все – и тембр голоса, и ритм перестановки листов, и время показа альбома: не длинно и не коротко, так, чтобы не утомить зрителя. Текст и изображение на листах в этой атмосфере являются главной частью театральной постановки, а постановщиком и актером сам автор – Илья Кабаков. Конечно, такие вечера и работы, показанные на них, производили сильное впечатление и запоминались.
Ходили компаниями и к Г.Д. Костаки. У него можно было посмотреть русский авангард 1920-х годов.
Страх 1960-х ослабевал в неофициальном искусстве 1970-х.
В стране был, как сейчас говорят, «застойный» период. По советским праздникам на мавзолее стояли полудохлые вожди и, едва шевеля руками, приветствовали проползающие по Красной площади огромные фаллосы баллистических ракет. Потом проходила демонстрация, крича в рупоры приветствия «партии, правительству и лично Леониду Ильичу». Казалось, Брежнев будет жить вечно. Все было рассчитано на вечность. На папках приговоров стояло: «хранить вечно».
В начале 1970-х выслали Солженицына, показав этим интеллигенции, что с ней церемониться не будут. Повседневная жизнь была полна абсурда и мрака. Спасала теплота дружеских отношений. К друзьям можно было прийти в любое время без звонка, и ты был радушно принят, накормлен и выслушан со всеми твоими проблемами. Такого рода роскошь исчезла из московского обихода, а это было, наверное, самое ценное в 1970-х годах в Москве. Ходило огромное количество анекдотов – этой разменной монеты мифа.
Это был тот фон, на котором я делал тогда свои работы. Меня не устраивало ни то, что делалось в «левом» МОСХе; ни подвальное искусство, состоящее из бородатого пьяного народа, у которого самым интеллектуальным словом было слово «сюр»; ни стерилизованный, без запаха, концептуализм, становившийся модным в Москве в середине 1970-х. Концептуализм – это вообще и везде, а я хотел делать работы, отвечающие на сегодняшние вопросы и в сегодняшней Москве. Старые друзья-художники работали в ином ключе по сравнению со мной, и, несмотря на дружеские отношения, разговоров по поводу искусства возникало мало. Были единицы – попутчики во взглядах, но эти боялись, что у них «украдут идею» – было тогда такое понятие, да у многих сохранилось и до сих пор. Я понял, что придется самому строить свою железную дорогу, класть на нее рельсы и по возможности ехать по ней. Другого пути не было.
Я слышал про Эрика Булатова, про Комара и Меламида, к Кабакову в 1969-м ходил в мастерскую, но общения с этими художниками не было. Оно появилось только после выставки 1976 года у меня в мастерской.
Увлекался я тогда скульптурой народов Сибири. Привлекали принципы, на основе которых были изготовлены культовые или обиходные предметы: идолы, блесны, амулеты. Изготовлялось все это шаманом – духовным лидером примитивной общины. Шаман был кузнец, художник, целитель, предсказатель. Мне хотелось играть такую же роль в обществе, а не просто быть лепилой. Я интересовался народной игрушкой, повторяющимся движением в игрушке. Интересовал принцип покраски дерева, чтобы не просто закрасить, а покрыть краской. От этого рождается абсолютно другой эффект, чем от масляной живописи. Я думаю, что, если поставить людей разной национальности и заставить их красить забор одной краской, каждый покрасит по-разному. Русский – добротно, но коряво, неряшливо. Француз – жидко, но эстетично, «как жемчужную шутку Ватто». Американец – рационально и аккуратно.
Почему игрушки народные – «неоконченные», «плохо» сделанные? Да все это заложено в русском характере. И вся история России – череда прекрасных идей, недоделанных, не доведенных до конца.
Занимала, как я уже говорил, идея современного мифа. Еще не было переводов Ролана Барта, однако, когда я позже прочитал его «Мифологии» и другие статьи, я подтвердил свои интуитивные догадки и несформулированные мысли, которыми тогда руководствовался[46]. В конце 1960-х и начале 1970-х одной из моих любимых книг была «Золотая ветвь» Джеймса Дж. Фрезера. Читая эту книгу, можно было много почерпнуть для себя по поводу мифа и мифологии. У Н.В. Гоголя, которого часто перечитывал, можно было понять, что масштаб и контраст – самые сильные изобразительные средства. А у обэриутов это абсурдизм, использование банальностей и китча, заумь.
С начала 1970-х в разных НИИ и клубах пошли выставки неофициального искусства. В 1974 году были «бульдозерная» выставка и Измайлово. В 1975-м – выставка в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ и масса квартирных выставок. «Бульдозерная» задала тон: она была первой в этой серии и показала, что в русской культуре появилось искусство, свободное от официоза и социального заказа. Это был не показ картин зрителям, а демонстрация неофициальных художников против существующего порядка. Скорее всего, это было обращение к западным корреспондентам, находящимся в Москве, и через них – к Западу. Благодаря недюжинным организаторским способностям Рабина это удалось. О выставке заговорили «голоса», которые тогда все слушали, и на Западе, и в Союзе был разбужен интерес к неофициальному искусству. Все последовавшие за этим выставки были бессознательными попытками повторить успех «бульдозерной».
Позже меня тоже часто приглашали на подобные выставки, но я ни на одну не соглашался. Зачем? Чтобы повесить или поставить в угол работу, которую из-за шпалерной развески никто не заметит? Хотелось показать свои работы так, чтобы зритель обратил внимание на их художественные качества.
Когда Миша Одноралов позвонил мне в мае 1976 года и предложил участвовать в квартирной выставке, я согласился, но согласился делать выставку у себя в мастерской и сам курировать ее. Первое, что я хотел, – чтобы эта выставка не была протестом вообще, а показом в Москве работ, которые невозможно было выставлять официально. Во-вторых, выставляться с теми художниками, которые для меня интересны. Я пригласил Игоря Шелковского и Ивана Чуйкова. Хотелось каждому дать большое экспозиционное пространство. Хотел сделать выставку троих, но когда собрались, чтобы обсудить развеску, Игорь Шелковский привел Герловиных и С. Шаблавина, а Саша Юликов, узнав о выставке, повесил одну картину на правах старого школьного друга. Что ж, идея никогда не воплощается в чистом виде. Я вынужден был согласиться с расширенным количеством участников, хотя весь риск неофициальной выставки ложился на меня, и в 1976 году за такое могли выгнать из МОСХа и лишить субсидированной мастерской.
Выставка в моей мастерской в Большом Сухаревском пер., д. 7, кв. 16, была одной из семи квартирных выставок, проходивших в то время в Москве. Она открылась 10 мая. Народ с Большого Сухаревского переулка валил в мастерскую. У меня побывало огромное количество посетителей. Это был свежий, качественно новый показ для Москвы – в смысле новых имен в неофициальном искусстве и в смысле свежести идей в работах. Всем нравилось, чт мы показывали. Эти десять дней в мае 1976 года были для меня счастливыми. Как художник и как куратор выставки я понимал, что попал в точку, что получил одобрение тех, чье мнение ценил.
Только тогда я познакомился с Эриком Булатовым и Олегом Васильевым, Ильей Кабаковым и Всеволодом Некрасовым (они приходили чуть ли не каждый день) и многими другими. Приходил Г.Д. Костаки и прекраснодушно всех хвалил. Приходила Алиса Порет; мне было очень интересно с ней познакомиться. Тогда же я познакомился с Нортоном Доджем, который, как шпион, щелкал все фотоаппаратом. Позже, когда я привез эти работы в Нью-Йорк, он все их скупил за бесценок.
Начиная, как сейчас говорят, «проект выставки», я не ожидал подобных результатов. Из временнго далёка видно, что выставкой в моей мастерской на Большом Сухаревском удалось трансформировать протест неофициальных художников в показ интересных с точки зрения искусства работ.
Через неделю после открытия экспозиции пришел участковый с молчаливым человеком в штатском. Вежливые вопросы участкового звучали угрожающе. Двадцатого числа мы закрыли выставку. Она просуществовала десять дней, с 10 по 20 мая.
Круг моих дружеских связей расширился: Эрик Булатов, Олег Васильев, Илья Кабаков – можно было поговорить, пообщаться. Сева Некрасов часто заходил, устраивались его чтения у меня в мастерской. Для меня Всеволод Некрасов является лучшим русским поэтом конца того века и до сего дня.
В конце 1970-х группа художников, выставившихся в мастерской на Большом Сухаревском, кучковалась вокруг идеи создания журнала по неофициальному искусству. В основном, обсуждали название журнала и как собирать и переправлять материалы. Это было очень важно для всей неофициальной культуры, но только один человек двигал это дело – Игорь Шелковский. В 1976 году он уехал в Париж и остался там. Только благодаря его фанатической вере и стойкости журнал мог выходить на протяжении восьми лет. Он сам доставал деньги, делал набор, редактировал, пропагандировал. В Москве ему помогал Алик Сидоров: он доставал материалы, переправлял их в Париж. Переправил даже картину Эрика Булатова «Опасно»[47] – ее купил Нортон Додж, и на эти деньги был издан один из номеров журнала. Чтобы освободить время для редакторской работы, Игорь даже бросил заниматься скульптурой. А он замечательный скульптор, думаю, что малооцененный.
Его редакторская принципиальность доходила до анекдотичности. Кто-то мне рассказывал историю, как Игорь пришел к Дине Верни с целью устроить выставку. «Если вы такой хороший и известный скульптор, то почему вас нет в журнале “А-Я”?» – спросила его галерейщица.
Первый номер «А-Я» вышел в 1979-м. В нем были представлены почти все, кто выставлялся у меня в мастерской. Журнал «А-Я» помог неофициальному искусству выжить, объединил его и сформировал независимую от официального искусства позицию. С 1979 по 1986 год вышло семь номеров и один – восьмой – литературный.
В конце 1970-х перемены в положении неофициальных художников хотя и происходили, но очень медленно. В 1977 году в Венеции на биеннале прошла выставка неофициального русского искусства, состоящая, в основном, из показа слайдов художников-нонконформистов.
В начале 1970-х начался отъезд из СССР, а к концу 1970-х ручеек отъезда превратился в полноводную реку. Это коснулось и художников, и поэтов, и писателей. Мрак в столице густел, а сильно мифологизированный Запад из Москвы выглядел притягательно. Меня занимал тогда момент реализованности художника. Перед глазами был русский авангард 1920-х годов: Попова, Клюн, Ермилов, Розанова, Королев, Суетин, Степанова, Чашник, Нина Коган – все это слабо реализовавшиеся, но замечательные художники. Здесь авангард был прочно забыт до 1960-х годов. Когда его оценили, то все работы были уже за границей (кстати, как и лучшее неофициальное искусство) или выброшены на помойку, как случилось с работами В.Е. Татлина после его смерти. С другой стороны, уехавшие Габо и Певзнер, хотя и не звезды первой величины в русском авангарде, на Западе ходят в классиках. Я не говорю уже о Дягилеве и Стравинском, которые генерировали парижский модернизм начала века, являясь при этом представителями русской культуры.
Выходило, что можно и художнику с русской культурой успешно работать в чужеродной культурной среде. Да, тяжело, рискованно, не все дягилевы и стравинские, но есть шанс реализоваться и достойно существовать. А вокруг меня в Москве много ли было реализованных художников? Их не было. Прожившие нелегкую жизнь, боровшиеся, отстаивающие всю жизнь свои позиции, они умирали полузабытыми. Работы их или пропадали, или их благосклонно брали в подарок от вдов Третьяковка или Русский музей. И эта лучшая часть русской культуры пылилась в запасниках, а в экспозиции висели угодливые соцреалисты. Вот такие перспективы маячили передо мной. С другой стороны, не очень-то хотелось терять сложившийся круг друзей, хлевное тепло, уже устроенную жизнь, возможность безбедно жить, ваяя козлов и медведей и имея мастерскую в центре Москвы.
После выставки у себя в мастерской я продолжал работать в том же духе: успех выставки ободрял. С 1976 по 1979 год появилось много работ, которые впоследствии причислили к соц-арту. Тогда в Москве несколько художников обратились к социальной тематике, но каждый подходил к этому со своей стороны. Согласно Ролану Барту, я переносил банальности, китч, обыденность из советской помойки в мир высокого искусства. Я вынимал из снарядов советских бытовых символов детонатор агрессивности, превращая их в веселые объекты, похожие на народные игрушки.
В 1970-х годах случился перелом: советский зритель, читатель перенес свой интерес из официального в неофициальное искусство. Произошел сильный толчок пассионарности, проявившийся через неофициальную культуру: визуальное искусство, литературу, музыку.
Нью-Йорк,сентябрь 2008 года
Владимир Сорокин:
О, семидесятые!
Есть.
Есть, что вспомнить.
Раздвигаю влажные ложесна памяти, зажмуриваю глаза, впуская в себя запахи семидесятых:
растворителя масляных красок «Пинен»,
августовского ветерка Ленинского проспекта,
магазина «Рыба»,
мастерской Булатова – Васильева,
пивной «Жигули»,
аудитории № 202 МИНХ и ГП им. Губкина,
сортира стадиона им. Ленина,
читального зала библиотеки им. Ленина,
тамбура поезда Москва – Брянск,
ружейной смазки,
порохового дыма,
русской деревни,
музея им. Пушкина,
своей розовой от портвейна блевотины,
концерта «Машины времени» в ДК «Высотник»,
влагалища девственницы,
духов «Climat»,
приемника «Ригонда» с «Голосом Америки»,
альбома Сальвадора Дали,
трех пишущих машинок,
Ирины,
ночной Клязьмы,
загорянского снега.
Огромное, прямо-таки безразмерное десятилетие, вместившее в себя почти все судьбоносное, определяющее. В семидесятые я стал:
студентом, мужчиной, художником, охотником, рыбаком, мужем, инженером-механиком, лейтенантом запаса, писателем, православным, антисоветчиком.
В середине этого десятилетия я вылупился из советского коллективистского яйца и оперился в виде самостоятельно мыслящего субъекта. Но до полетов было далеко.
Произошли две важнейшие встречи, во многом определившие судьбу:
в 1975 году дама-стоматолог по имени Кира познакомила меня с ее пациентом, художником-нонконформистом Э. Булатовым, открывшим мне московский андеграунд. Мастерская Булатова – Васильева стала дверью в советское литературно-художественное подполье;
в 1976 году другая дама, тоже стоматолог, по имени Нел познакомила меня с моей будущей женой Ириной, ставшей мне самым близким человеком на планете и родившей в 1980 году дочек-близнецов, которых я помог ей зачать тоже в семидесятые.
Слава Богу, наделившего меня плохими зубами!
В семидесятые жизнь казалась бесконечной, мир огромным и полным тайн, а Советская власть – вечной.
Открытия происходили еженедельно: тяжелый рок, сюрреализм, Дюшан, минимализм, соц-арт, Бердяев, черные дыры, концептуализм, Бобби Фишер, каратэ, Солженицын, вера в Бога. Не успевал Великий Дали опьянить своим «Осенним каннибальством», как уже потрясала молодой ум акция художника Оппенгеймера, высадившего кукурузное поле на дне океана. Не успевала отгреметь «Whole lotta love» неистовых «Цеппелинов», безжалостно стеревших приторных «Битлов», как в юное сердце меломана алмазным сверлом ввинчивались божественные «Queen», сливаясь с членовредительскими акциями Аккончи, чтобы в самом конце сумасшедшего десятилетия «Kraftwerk», перекликаясь с минимализмом Джадда и механицизмом Ребекки Хорн, даровать голос машине.
И все это – в подполье, отдельно от серо-коричневого брежневского мира, царствовавшего вовне, параллельно его материалистической этике и коммунистической эстетике. Семидесятые научили жить внешним и внутренним. Снаружи воздымался казенный мир «социализма с советским лицом», на серых сталинско-хрущевских зданиях алели плакаты и лозунги вроде «Партия – бессмертие нашего дела!» или более приземленного «Слава советским профсоюзам!», в магазинах продавались советская колбаса, советская музыка и советская литература, телевизоры сообщали о повышении надоев и о происках американского империализма, в учреждениях кипели советские отношения, дома на плитах кипели советские борщи и солянки.
Внутри же было совсем другое: осознание, что ты внутренний эмигрант в этой огромной, беспощадной к людям стране, серым айсбергом плывущей в неведомо-недостижимое коммунистическое будущее, что единственный способ выжить на сквозняке идеологии и перманентного и многоцелевого государственного террора – забиться в культурное подполье, затвориться на кухне или в мастерской с друзьями-единомышленниками, писать или рисовать для себя и для них, заслоняться от коммунистической радиации и паранойи ксероксами запрещенных книг, западными пластинками, альбомами «идеологически вредных» художников, телами любимых женщин, семьей, своими текстами.
От внешнего безумия спасали литература, музыка и живопись. Кто-то, как Зверев и Вен. Ерофеев, спасались еще и водкой, но в нашем круге в то десятилетие алкоголь считался низким жанром, а советский ресторан – клоакой.
Вину предпочитали крепкий чай.
Многие в андеграунде тогда додумались, что убежать от советского коллективного тела можно, изображая его. На бумаге или на картине оно было не так страшно, даже наоборот – интересно, привлекательно, как засушенный скорпион в зоологическом музее.
Соц-арт 1970-х и есть музей с засушенными скорпионами советских идей.
Соц-арт был самым перспективным направлением в московском художественном андеграунде этого десятилетия. Комар и Меламид, Булатов, Соков, Косолапов, Орлов, группа «Гнездо» были явно ярче и злободневней тогдашних художников-метафизиков, мистиков, сюрреалистов и новых супрематистов.
Особняком высился Кабаков, идущий своим, особым путем, парадоксально смешивающий гоголевский смех с концептуализмом.
Прилежно-старательно исполнял свою партию на советских инструментах по европейским нотам квинтет «Коллективных действий».
В соц-поэзии царил Пригов. Его «милицанер» стал мифом. Чтения Дмитрия Александровича проходили бурно, успех его явно затмевал болезненно-ревнивого минималиста Всеволода Некрасова, чистокровного концептуалиста Рубинштейна и интеллектуалов-традиционалистов Гандлевского, Сопровского, Айзенберга, Величанского и Кривулина.
Соц-артовской прозы практически не существовало. Это место пустовало. Ваш покорный слуга ступил на него, чтобы в начале 1980-х состояться первым в истории литподполья соц-артистским прозаиком. К восьмидесятому году, открывавшему эпоху постмодерна, у меня уже было что показать: первая часть книги «Норма», повести «Падеж» и «Дача», цикл «Стихи и песни», десяток рассказов.
Благословил на занятие литературой меня, худощавого юношу, сам Эрик Булатов. Один из первых рассказов «Заплыв» вызвал одобрение у Вс. Некрасова, А. Сергеева, О. Васильева, А. Гелескула, а также у жены и тещи.
Встреча же со звездой подполья и мэтром соц-арта Дмитрием Александровичем Приговым произошла в самом конце десятилетия у него на кухне в Беляево. Стояла глухая брежневская зима. Я уже успел побывать на двух феерических чтениях «неистового Д.А.», а потом передать ему через Бориса Орлова мои первые опыты, отпечатанные в одном экземпляре.
Мэтр одобрил. И ободрил.
Я понял, куда плыть и над чем работать. Сбросив с себя набоковско-платоновско-кафкианские вериги («Дача», «Ватник», «Звезда», «Розовый клубень», «Заплыв»), с первой частью «Нормы» в зубах я поплыл к новому материку, маячившему в тумане. Океан бурлил, но желание доплыть было сильнее волн. И доплыл-таки к началу пестрого, чудесного десятилетия с восьмеркой-бесконечностью, обещавшего нам многое, а исполнившего – еще большее, о чем лишь исподволь мечталось: книга в Париже, заграница, обрушение Совка.
Отдышавшись на новом материке, я огляделся и понял, что тут и копать-то не надо: край не пуган и не топтан, бродят звери невиданные, золотые жилы соц-арта сверкают на поверхности, только не уставай нагибаться да черпать. И не только соц-арт посверкивает золотом, а и что-то другое, платиновое, чему и названия пока не придумали.
Так с этим заплывом и с «Заплывом» в одном экземпляре семидесятые кончились.
И я потянулся за новым.
Но это уже совсем другая история…
Москва,июль 2008 года
Владимир Тарасов:
Быть самим собой
В качестве предисловия
Все, кто сегодня наиболее продуктивны, вышли из тех, уже далеких 1970-х, когда оформилось и приобрело свои черты то, что зародилось в начале второй половины ХХ века. Уникальное и знаменательное время для искусства во всем мире. Сгусток творческой энергии был настолько силен и огромен, что неважно было, джазмен ты или рокер, художник, писатель или поэт, сидишь ли ты в своей мастерской где-нибудь в глубинке России или живешь в Нью-Йорке, – все равно это тебя захватывало. Идеи носились в воздухе, не признавая ни границ, ни политических систем. Скрещиваясь с индивидуальностью, они зарождали в каждом свой неповторимый стиль, где никто не был ни на кого похож, несмотря на самый тесный круг общения со своими коллегами.
Это было время, когда наше Трио (Ганелин, Тарасов, Чекасин) придумало и сыграло свои лучшие программы. Время, когда мы разносили этот дух свободы и умения оставаться самим собой по всей стране под названием СССР.
Когда вспоминаешь те годы, есть опасность впасть в мелодраматическую ностальгию по «хорошим» временам. Нам просто повезло, что мы были молоды и наша активность попала на очередной «девятый вал» творчества, с регулярностью повторяющийся в истории раз или два в столетие…
Вильнюс,август 2008 года
Начало Трио и что происходило вокруг джазовых фестивалей в СССР[48]
…Итак, зарабатывая себе на жизнь в разных местах, мы могли в свободное время играть и придумывать программы для Трио. Обычно мы встречались для репетиций после обеда, ближе к вечеру, так как после репетиции мы с Ганелиным шли играть в кафе «Неринга», а Володя Чекасин вечерами еще играл в ночном баре «Шальтинелис».
Скоро мы приготовили одну за другой несколько программ. Собственно, каждая наша репетиция, с дискуссиями, обязательными кофе и чаем, была уже готовой программой. Мы не репетировали долго. Обычно часа два или три, не больше, но всегда очень спокойно и неторопливо. Никогда не играли, как говорится, вполноги. Всегда с полной отдачей, как на концерте. Не очень любили, когда кто-нибудь присутствовал на репетиции, и не потому, что не хотели показывать, как мы репетируем, а потому, что не хотели ни с кем общаться в этот момент – только играть. Присутствие хотя бы одного слушателя – это уже концерт, а не репетиция.
Первую программу Трио под названием «Consilium» мы сыграли на фестивале «Юность-71» в Днепропетровске в ноябре 1971 года.
На Днепропетровске хочется остановиться особо. Все, что там тогда происходило, творилось по всей стране, и судьба этого города постигла многие крупные промышленные города СССР.
Первый раз я приехал в Днепропетровск летом 1965 года на гастроли с Архангельским драматическим театром. Приехать с Севера на цветущую и теплую Украину – это была сказка. Мы ведрами покупали вишни, яблоки и прочие фрукты, купались в чистой воде Днепра. Меня поразил тогда воздух в городе. Деревья просто благоухали. Улицы каждое утро поливались водой, и летняя жара почти не чувствовалась. Еще не было никаких признаков того, что я увидел спустя двадцать лет, приехав в Днепропетровск с сольными концертами. За смогом не видно было домов. В воздухе висел странный привкус какой-то химии, а купание в Днепре было равносильно самоубийству. Как мне объяснили днепропетровские друзья, заводы на другом берегу Днепра со временем превратились в чудовищ, уничтоживших вокруг себя всю природу.
В 1971-м, когда мы приехали туда с Ганелиным и Чекасиным, несмотря на позднюю осень, еще стоял одурманивающий запах летних деревьев, который так мне запомнился по первому визиту.
Город жил в ожидании джазового фестиваля. В те годы все джазовые фестивали в стране проводились с разрешения и под присмотром комсомола. В Днепропетровске комсомол решил быть главным устроителем и организатором, тем самым показывая свою причастность к джазу и заботу о пропаганде его в СССР. Мы, конечно, знали, кто на самом деле за спинами комсомольцев проявлял «заботу» о нас. Благодаря комсомолу власти могли контролировать ситуацию с джазом в стране и в любой момент, если им что-то не нравилось, могли запретить – и запрещали – любой фестиваль.
Комсомол в Днепропетровске отличился на славу. Все входы и выходы концертного зала были перекрыты юношами и девушками с короткими стрижками, в одинаковой униформе. Мы прозвали их «гитлерюгенд». Они зорко наблюдали, чтобы никто не прошел на концерты без билетов, чтобы не проносили и не пили алкоголь. А если кто был хоть чуть выпивший, они сразу вызывали милицию и сдавали его. Но самое главное было не допустить на комсомольский джазовый фестиваль хиппи с длинными волосами и в джинсах. Кампания по борьбе с длинными волосами в СССР в 1971 году была в полном разгаре, и милицейские газики вылавливали на улицах, танцах и концертах молодых длинноволосых ребят, везли их в отделение милиции и там стригли наголо.
Несмотря на то что мы были обложены «заботой» со всех сторон, мы были счастливы оттого, что есть возможность выступить самим и послушать, как играют другие ансамбли. И, конечно же, ежевечерние, после концерта, джем-сейшены в джазовом кафе или просто в любой комнате, где стояли инструменты. Там собирались музыканты из разных ансамблей и уже до конца оттягивались, с удовольствием играя друг с другом.
Преимущество джем-сейшена в том, что тебя никто не заставляет играть и ты играешь, только если сам этого хочешь. Мне всегда нравится состояние, когда приходишь на джем-сейшен не для того, чтобы поиграть, а из любопытства, послушать, как другие играют, но вдруг что-то происходит, и ты понимаешь, что не играть не можешь…
В Вильнюсе нас ждала хорошая новость: Владимир Чекасин получил первую премию на конкурсе молодых джазовых исполнителей в Чехословакии. Он уехал в Прагу и, сыграв концерт с другими лауреатами конкурса, записал пластинку на чешской фирме грампластинок «Supraphon» под названием «Встреча».
В декабре того же, 1971, года мы впервые выступили с Трио в Москве в кинотеатре «Ударник», на фестивале «Путешествие в мир джаза». Москва – это Москва: хотя мы тогда и не думали об этом, выступление перед московской аудиторией было очень важно для нас и нашей музыки. Это взыскательнейшая публика, среди которой было много художников, актеров, поэтов и ученых – именно они были основными слушателями и любителями джаза в те годы. Они приняли нашу музыку сразу же, и многие из них стали нашими друзьями на долгие годы.
О друзьях
То, что мы вне сцены не были большими приятелями (что, кстати, вполне нормально для творческих коллективов), тоже, как ни странно, работало на музыку. У каждого из нас был свой круг друзей и своя постоянная работа. Мы никогда не зарабатывали никаких денег в Трио, а на те деньги, которые нам в виде суточных платило государство, отбирая у нас все гонорары, прожить было невозможно.
Вячеслав Ганелин работал заведующим музыкальной частью в Русском драматическом театре, был членом Союза композиторов Литвы и писал музыку к фильмам и спектаклям. В те годы у Русского драматического театра в Вильнюсе была достаточно сильная труппа. Одним из режиссеров театра был Роман Виктюк; он поставил много хороших спектаклей и в каком-то смысле отрепетировал на вильнюсской сцене свою будущую карьеру в Москве. Естественно, круг друзей Ганелина состоял из актеров, журналистов, пишущих о театре, театральных и кинорежиссеров, а также близких приятелей детства его и его жены.
Владимир Чекасин общался с молодыми джаз– и рок-музыкантами, из них многие были его учениками и последователями. Талантливый педагог, он преподавал в вильнюсской детской музыкальной школе имени Балиса Дварионаса и в консерватории, воспитал и научил играть чуть ли не всех наиболее известных музыкантов в Литве: Пятраса Вишняускаса, Витаутаса Лабутиса, Гедиминаса Лауринавичюса и других. Чекасин – один из первых джазовых музыкантов в СССР, начавший без всяких джазовых амбиций приглашать в свои проекты рок-музыкантов, танцоров и актеров. Сергей Курехин и Борис Гребенщиков, в ту пору еще начинающие карьеру артисты, принимали участие в проектах Чекасина и учились у него – каждый по-своему, каждый своему.
Я зарабатывал свои деньги игрой в симфоническом и духовом оркестрах и преподаванием в детской музыкальной школе. В той же самой – Дварионаса, где преподавали и Вячеслав Ганелин, и Владимир Чекасин и где в нашем 234 классе мы придумали и отрепетировали бльшую часть наших программ.
Большинство моих друзей – художники, в студиях у них я проводил все свое свободное время. Общение с ними доставляло и поныне доставляет мне огромную радость.
На фестивале в Горьком в 1970 году я познакомился с Юрием Соболевым, художником из Москвы. Он был одним из лидеров неофициальной творческой элиты тех лет. Работая главным художником журнала «Знание – сила», в то время одного из самых прогрессивных и интересных, Юра на страницах этого журнала публиковал – вернее сказать, протаскивал сквозь цензуру, подавая как иллюстрации к научно-популярным статьям, – репродукции картин Янкилевского, Кабакова, Юло Соостера, Штейнберга, Пивоварова и многих других художников, официально в стране не признанных. А журнал был очень популярен и быстро раскупался во всем огромном Советском Союзе, так что это было еще и отличной рекламой для художников.
Алик Фонибо, физик и большой поклонник джаза, зная мое пристрастие к изобразительному искусству, привел меня в студию к художнику Ивану Чуйкову. Тот жил и работал в только что построенном для артистов доме со студиями на улице Ляпидевского в Москве, около станции метро «Речной вокзал». Чуйкова я узнал сразу. Он ходил на все наши концерты, а поскольку он очень высокого роста, то я всегда видел человека на голову выше всех остальных зрителей, внимательно и с любопытством слушающего, что происходит на сцене.
У Вани я познакомился с Ильей Кабаковым, Эдиком Гороховским и Виктором Пивоваровым, жившими в том же доме. Благодаря этим людям я с удовольствием окунулся в мир живописи, поэзии и литературы, который неофициально существовал в Москве в те годы и противостоял официальному соцреализму. Я счастлив, что мы стали и остаемся до сих пор близкими друзьями.
Когда мы с Трио приезжали на гастроли в Москву или Ленинград, они ходили на все наи концерты, независимо от того, сколько их было и в каких залах. Это был, можно сказать, основной костяк наших слушателей, ценителей и критиков одновременно. Многие из них, живя в одном и том же городе, месяцами не видели друг друга, и наши концерты были для них возможностью не только послушать наши новые программы, но и пообщаться. За кулисами после концерта вы могли встретить (помимо тех, кого я уже упомянул) художников Эрика Булатова, Олега Васильева, Владимира Янкилевского, Эдуарда Штейнберга, Франциско Инфанте, Гришу Брускина, Юрия Ващенко, поэтов Генриха Сапгира, Дмитрия Пригова, Льва Рубинштейна, архитектора Сашу Великанова и замечательного фотографа и журналиста Юрия Роста. Тогда ходила шутка, что если подогнать «воронки» и арестовать публику на концерте Трио, то с неофициальным искусством в СССР будет покончено за один вечер.
Раз перед концертом в Доме художника на Крымской набережной я, встречая друзей, услышал, как одна из работниц сказала своей подруге: «Опять это трио приехало; ну, сегодня на концерт все нонконформисты соберутся». Ей явно нравилось, как звучит слово «нонконформисты»; вполне возможно, она даже не знала, что это значит.
В Ленинграде нашими постоянными слушателями были художники Юрий Дышленко, Глеб Богомолов, Анатолий Белкин, Владимир Овчинников, Леня Борисов, поэты Олег Григорьев, Аркадий Драгомощенко и человек, которого любит и обожает весь творческий Ленинград, – Владлен Гаврильчик; над его поэмами, полными иронии и юмора, мы всегда смеялись до слез.
О каждом из этих замечательных людей нужно было бы писать отдельную книгу. Я же пишу только о том, что связано с нашим Трио. Но их влияние на музыку Трио через мое общение и дружбу с этими художниками было огромным.
Все эти люди как будто принадлежали к одному творческому кругу, но в то же время каждый из них совершенно не был похож на других и шел своей дорогой. Время раскидало многих по разным странам и в разные стороны. Кто-то выдержал испытание временем и славой, кто-то – нет. Обидно и больно видеть, когда двое близких мне друзей, приходя за кулисы после концерта, друг друга, как говорится, в упор не видят. Каждый – талант, но, видимо, все-таки закономерно в искусстве, что наступает время, когда одного музея или галереи на двоих не хватает, а сцена – мала.
Были и другие артистические круги, находившиеся на полулегальном положении. Например, лианозовский: Оскар Рабин, Дмитрий Плавинский, Владимир Немухин, семья Кропивницких и другие. Эти художники, не побоявшись встать на путь открытого диссидентства и конфронтации с соцреализмом, в сентябре 1974 года «бросились на баррикады». Я имею в виду знаменитую «бульдозерную» выставку на окраине Москвы, когда по приказу КГБ буквально бульдозерами ездили по картинам этих смелых людей.
Многие из этих артистов тоже ходили на наши концерты. Добавив к этому круг друзей Вячеслава Ганелина и Владимира Чекасина, можно себе представить, какая публика там собиралась. В зале висело такое мощное творческое поле, что играть плохо было просто невозможно. Руки сами играли, и мы были только проводниками, через которых музыка сама шла к этим замечательным слушателям.
Еще немного о Москве 1970-х
Что же можно сказать о джазовой Москве семидесятых? Юрий Павлович Козырев, музыкант и ученый, сделал великое дело для джазовых музыкантов и любителей джаза, открыв в 1967 году при Дворце культуры «Москворечье» студию джаза, куда пригласил преподавать ведущих джазовых музыкантов и музыковедов Москвы.
Помимо того что в студии учили играть начинающих джазовых музыкантов, ее сцена всегда была открыта для экспериментов во всех областях современного искусства. Много хороших идей и новых коллективов зародилось на этой сцене. Джазовая студия каждый год устраивала много концертов и свои собственные фестивали, на которые приглашались музыканты из разных городов страны.
Мы всегда с удовольствием приезжали выступать в студии, стараясь каждый раз приготовить что-нибудь специальное для публики, слетавшейся на окраину Москвы послушать, что нового в неофициальном искусстве. Одна из таких программ называлась «Альбом для юношества» и была нами приготовлена к десятилетнему юбилею студии в 1977 году. На той же сцене в «Москворечье» был сыгран совместный концерт Трио с замечательным ансамблем русского фольклора Дмитрия Покровского. Жаль, что затерялась запись этого, на мой взгляд, уникального концерта.
Наравне с джазом в «Москворечье» исполнялась и современная классическая музыка, которую в СССР тоже не особенно жаловали. Я слушал там премьеру «Кончерто гроссо» Альфреда Шнитке для двух скрипок и камерного оркестра в исполнении Татьяны Гринденко и Гидона Кремера – гениальных музыкантов, которые, не довольствуясь высокой репутацией в классической музыке, смело встают на путь любого музыкального эксперимента.
Я имел удовольствие играть с Татьяной Гринденко, Алексеем Любимовым и Владимиром Мартыновым в 1978 году, на симпозиуме современной музыки в новосибирском Академгородке, и был в восторге от их умения прочитывать любой музыкальный материал и импровизировать в нем.
Обычно мы восхищаемся мастерством исполнения классических произведений, способностью проявить собственную индивидуальность при прочтении одного и того же нотного материала. Но попытки импровизировать вызывают улыбку. В лучшем случае это будут вариации на заданный материал, ничего общего с импровизацией не имеющие.
Привлечение джазовых музыкантов к выступлениям с симфоническими или камерными оркестрами тоже вызывает улыбку, но уже со стороны «классиков». Джазовые музыканты каждую ноту будут свинговать и синкопировать, совершенно отличаясь своим языком от исполнителей классической выучки. Исключение составляют музыканты, прошедшие обе школы и занимающиеся импровизационной музыкой в классической форме.
Татьяну Гринденко, Гидона Кремера, Алексея Любимова и других музыкантов их круга не интересует популярность на уровне поп-звезды в классике. Они ищут другого уровня понимания, как в классической, так и в старинной и современной музыке. Сцена студии «Москворечье» всегда была открыта для них, так же как и для любых джазовых экспериментов.
В сентябре 1971 года произошло событие, которое не могло не повлиять на развитие джаза в стране: приезд оркестра Дюка Эллингтона в СССР. Мы впервые живьем увидели и услышали то, что знали только по пластинкам и передачам Уиллиса Коновера. Я слушал одиннадцать концертов оркестра в Москве, Минске и Киеве и был восхищен тем, как они играли – с каким удовольствием и какой отдачей. Впервые я увидел и услышал класс Мастера, так замечательно описанный в романе Германа Гессе «Игра в бисер». Невероятное ощущение: музыкант стоит на сцене и только через несколько секунд начнет играть, но музыка уже невидимыми потоками льется из него.
Подобное волшебное состояние возникло у меня еще однажды, во время концерта Владимира Горовица в зале Московской консерватории, когда он вышел на сцену, немножко постоял, поклонился, провел кончиками пальцев по клавишам рояля – и все это время музыка уже лилась в зал на какой-то непонятной волне, и мы слышали ее внутри нас.
Маргарита и Виктор Тупицыны:
Беседа с Г.К
Георгий Кизевальтер. Насколько мне помнится, Витя, в 1970-е годы ты функционировал в Москве главным образом как поэт?
Виктор Тупицын. Да, а также просто как светский…
Маргарита Тупицына. …лев!
В.Т. (улыбаясь): …и жуир.
Г.К. А была ли в те годы какая-нибудь творческая группа, к которой ты относился?
В.Т. Я общался, как ты знаешь главным образом с Андреем Монастырским, Львом Рубинштейном, Никитой Алексеевым…
Г.К. Да, это был и мой круг. Жаль, что вы очень быстро тогда уехали и мы не успели пересечься в Москве.
В.Т. Кроме того, мы контактировали с группой, образовавшейся вокруг поэта и художника Алексея Хвостенко, по прозвищу Хвост. Обширное поле контактов было также связано с писателем и поэтом Юрой (Юрием Витальевичем) Мамлеевым. Мне не раз доводилось слушать его чтения в Южинском переулке. Позднее я познакомился с художником Арменом Бугаяном, а через него с Сергеем Бордачевым, Андреем Монастырским, Львом Рубинштейном, Никитой Алексеевым, Риммой и Валерием Герловиными. Иногда мы собирались у художника Сергея Бордачева: там читали свои стихи Монастырский, Рубинштейн, Вешневский; устраивались квартирные выставки…
Г.К. А что, сам ты разве не читал своих стихов?
В.Т. Я несколько раз соглашался, а потом просто не приходил, что было своего рода перформансом… В то время мне казалось, что я совершенно не умею читать стихи перед аудиторией; я сразу же начинал волноваться, впадал в трепет и ужас. Позже я научился преодолевать страх и даже выступал в ночных клубах Нью-Йорка, но на это ушли годы. Так или иначе, чтение стихов «вслух» всегда было для меня проблемой, в отличие от многих моих друзей, таких как Андрей Монастырский, который всегда читал великолепно. Такими же талантами обладали Пригов и Рубинштейн, а также Генрих Худяков (именно он был устроителем моих «чтений», на которые я не являлся).
Г.К. При этом до отъезда из Москвы ты уже преподавал, а потом начал преподавать в Штатах в конце 1970-х, когда защитил Ph.D, верно? Я спрашиваю об этом потому, что у тебя должна была выработаться привычка общения с аудиторией.
В.Т. Да, я преподавал одно время в МИФИ и каких-то других учебных заведениях Москвы, но, в основном, работал в институтах Академии наук, потому что там можно было ничего не делать и даже не ходить на работу. То есть главным для меня было никуда не ходить – на чтения собственных стихов, на работу и т. д. А в Штатах я начал преподавать в 1976-м, когда сразу же после защиты докторской диссертации получил младшую профессорскую позицию в Южно-Иллинойсском университете, и там, вдали от Нью-Йорка, отшлифовал свой английский язык, приобщился к атмосфере американских кампусов и приобрел необходимый опыт.
Г.К. Хорошо, вернемся к твоей поэзии. У тебя были и «детские», и «взрослые» стихи. На кого ты главным образом ориентировался?
В.Т. Я одинаково инфантильно писал и те, и другие. Надо сказать, вся наша компания в то время отличалась повышенной инфантильностью. С другой стороны, это было связано с тем, что я был знаком с такими значительными поэтами, как Генрих Сапгир, Игорь Холин и Овсей Дриз, которые – будучи уже немолодыми людьми – занимались детской литературой. Они одобрительно относились к моей деятельности. Отдельные стихи даже передавались по радио, а в «Детгизе» или в «Малыше» уже планировали издать книжку (ту, что спустя 33 года вышла в издательстве WAM с иллюстрациями московских художников), но мы уехали, и этого не произошло. В то время мы все, включая Сапгира и Холина, воспринимали детские стихи не как способ саморепрезентации, а как возможность заработать деньги. Впоследствии, уже в Америке, где я писал только «взрослые» тексты – взрослые с налетом инфантильности, – это писательство переросло в проект под названием «Господин № Я». Примерно в 1978–1979 годах мне удалось «клонировать» своего героя – единственную в мире личность, лишенную творческого рефлекса. С тех пор все мои стихи были структурированы этой идеей. Мне самому пришлось играть роль некоего профессора, нашедшего архив «Г-на № Я» и решившего разоблачить его притязания на статус «нетворческого человека». Основываясь на материалах «архива», профессор (т. е. я) хотел доказать, что «нетворческий человек» втайне что-то писал, что-то рисовал и как-то творчески проявлялся. Так возникла серия стихов и рисунков «Господина № Я» в сопровождении моих (к ним) разоблачительных комментариев, включая схемы и диаграммы, объясняющие их внутренние связи. Отдельные фрагменты показывались на выставках в Нью-Йорке, печатались в журнале «Assembling» под редакцией Ричарда Костелянца. Какая-то часть вошла в антологию журнала «Гнозис» (по-русски и по-английски). Надеюсь, через год-другой мне удастся издать всю эту серию как концептуальный проект. Любопытно, что в моих теоретических текстах – будь то философские, психоаналитические или критические статьи – явственно ощущается поэтическая интонация, и как бы я ни хотел от нее избавиться, мне это не удается. Кстати, мое первое теоретическое эссе «Метаморфозы третьего лица» было написано в 1975–1976 годах. Двумя годами позднее его напечатали в парижском журнале «Эхо».
Г.К. Хорошо, а каким образом и в каком году ты попал в круг неофициальных художников и поэтов?
В.Т. О, это было очень давно, году в 1966-м, когда я познакомился с диссидентами вроде Гинзбурга и Галанскова. Через них я узнал Аиду Хмелеву – она была поэтом, а позже стала устраивать выставки неофициального искусства. Потом в Москву переехал Хвост, и благодаря ему появились новые знакомые, такие как поэт Анри Волохонский, художники Сергей Есаян, Владимир Пятницкий, Иван Тимашев, Алексей Паустовский и другие забавные люди, многие из которых были наркоманами и пьяницами, и мне всегда было как-то сложно находиться в их компании, потому что наркотики я не употреблял, а сидеть с постной физиономией каждый раз, когда они испытывали совсем иные ощущения, было странно. Однако отношения продолжались, и кто-то из этого круга привел меня к Бордачеву, где я познакомился с Монастырским, который сразу же пригласил меня к себе в Марьину Рощу, где он жил с Таней Кашиной. Любопытно то, что Андрей, Таня и Лева Рубинштейн были ненамного младше меня, но они при нашем общении почему-то большей частью молчали; мне приходилось говорить непрерывно, а они напряженно слушали. Я же пребывал в замешательстве, не понимая, почему они ведут себя как понятые или присяжные.
Г.К. Это очень странно, потому что обычно это очень говорливые люди, которым свойственна бесконечная монологическая речь.
В.Т. Вот именно, спустя годы я и сам обнаружил тот факт, что в их присутствии можно благополучно молчать!
Г.К. А можешь ли ты назвать какие-то харизматические – для своего круга – фигуры тех лет?
В.Т. Парадигматические? – Так Ясперс говорил… Дело в том, что в то время мы старались ниспровергать такого сорта фигуры. Мы не хотели иметь каких-либо идолов.