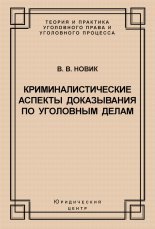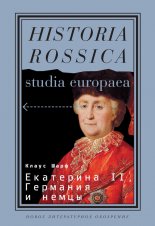Время утопии: Проблематические основания и контексты философии Эрнста Блоха Болдырев Иван
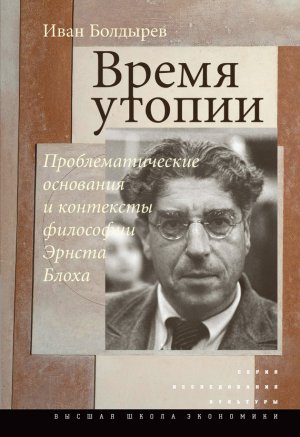
Но в то же время, согласно одной из известных трактовок «Фауста», можно сказать, что главный герой избавляется от наказания и отправляется на небеса не потому, что он грешник, не потому, что негативное начало в нем есть движущая сила мировой истории, а потому, что у него есть добрая воля (кантианское[297] понятие!), и это – основополагающая черта его личности[298]. Тогда гегельянская трактовка пути «Фауста» становится проблематичной.
У Блоха в связи с этим появляется различение – он указывает на существование, с одной стороны, пустой, «зряшной» («Мефистофель без Фауста»), а с другой – творческой негативности, ссылаясь, в частности, на фрагмент из «Эстетики», где Гегель пишет о низкой эстетической ценности изображения абсолютного зла, различия, отрицательности, в конечном счете – дьявола[299]. Зло может быть как продуктивным, так и деструктивным. Гипертрофированную, «абстрактную», бесплодную негативность Блох ассоциирует с фашистским (но не коммунистическим!) террором.
Критика гегелевской философии появлялась часто тогда, когда возникал именно такой экзистенциальный опыт бесплодной негативности, опыт абсурдного отрицания, рождающий в душе ужас мира. Гегельянец Герцен столкнулся с массовой гибелью людей во время шторма, блестящий исследователь Гегеля Розенцвейг приобрел этот опыт в окопах Первой мировой войны – бессмысленной и потому особенно страшной, кровавой резни, когда каждый день лицом к лицу сталкиваешься со смертью. Для Адорно образом нередуцируемой, «неснимаемой» негативности стал Освенцим, который, как казалось, никакими историческими законами, никакой имманентной реальности логикой объяснить было невозможно.
Но действительно ли композиция «Фауста» выстроена по гегелевским законам? Можно ли беспрекословно подчинить ее диалектической телеологии, сказав, вслед за Гегелем, что неожиданные прозрения Фауста суть лишь необходимый этап всемирно-исторического развития человечества? Разве Фауст учится, разве становится он мудрее, забыв о судьбе Гретхен, о Елене, об Эвфорионе[300]? Немецкий литературовед В. Фосскамп вспоминает по этому поводу эпизод из бесед Гёте с Эккерманом, когда Эккерман, рассуждая о структуре «Фауста», говорит о неких слоях мира, которые хотя и влияют друг на друга, не очень друг с другом связаны[301]. Поэт же (то есть сам Гёте) должен выразить это множество смыслов, отражающихся один в другом, этот искрящийся, красочный мир, и он использует легенду об известном герое как связующую нить, чтобы нанизывать на нее все, что ему заблагорассудится. Гёте соглашается и говорит, что при такой композиции отдельные массы должны оставаться ясными и значительными, целое же нельзя сводить ни к одной из них. Фосскамп полагает, что осуществление субъекта в мире, согласно Гёте, никогда не заканчивается каким-то примирением и диалектическим тождеством, не направлено ни к какой заведомо заданной цели, что, как только необузданность Фауста, его титанический пыл соприкасаются с рационально-телеологическим расчетом, это оборачивается трагедией (речь идет об эпизоде с Филемоном и Бавкидой). Позиция Фауста как человека, обретшего могущество, оказывается этически индифферентной, его жизненная сила граничит со злым началом. Фосскамп, как и Лукач, пишет об отсутствии всяческой сентиментальности у Гёте: старый мир должен быть уничтожен. Но вывод его прямо противоположен: о диалектике в «Фаусте» говорить не приходится.
Однако Фосскамп придерживается весьма плоских представлений о диалектике как о целерациональном панлогизме, о стремлении железной пятой понятия подмять под себя трепетную индивидуальность личности и вселенскую случайность литературного универсума. Такая трактовка по меньшей мере однобока, даже если забыть о французских неогегельянцах, совершенно по-особому прочитавших «Феноменологию…», причем именно в свете той самой трепетной и сокровенной идентичности, которой так не хватало у Гегеля еще Кьеркегору и за которую ратовал в философии Блох (а за ним – и Фосскамп, перенимающий у него расхожие представления о гегелевской философии). Аутентичная гегелевская диалектика и без того насыщена драматизмом, а особый трагизм исторические коллизии приобретают именно в «Феноменологии…»[302]. Диалектика там лишена репрессивной политкорректности и менее всего связана с тоталитарным мышлением, в котором ее подозревали и Поппер, и постмодернисты[303].
Гёте действительно не подчинял движение «Фауста» каким-либо законам, многое в действии трагедии спонтанно, непредсказуемо и не может расцениваться только исходя из художественной или какой-то иной логики. Да и сам Фауст не действует в соответствии с каким-то заранее данным ему планом. Живой и глубоко индивидуальный опыт, который пропагандируется Гёте в «Фаусте», порой действительно трудно согласовать с гегелевскими конструкциями. «Подлинно движущая и коренная, содержательная сущность мира есть нечто интенсивное, а не логическое» (SO, 172).
Но и здесь для «Феноменологии…» придется сделать исключение, ибо судьба индивидуального начала возвышена там до уровня экзистенциальной драмы, а диалектическая динамика легко интерпретируется на языке литературы. Из рассуждений Блоха становится ясно, что в «Фаусте» перед нами движение постоянно меняющегося сознания (или его образа, модели, гештальта). Поэтому герои у Гёте, как и смыслы (по Эккерману), отражаются друг в друге, эта игра отражений и составляет движение трагедии, то есть путь Фауста. Но отражение сознания в себе самом или в другом сознании – это и ключевая тема «Феноменологии духа»! (Известные рассуждения Маркса в главе 1 «Капитала» о том, что человек становится человеком, лишь признав другого как человека, суть лишь поздний рефлекс гегелевской мысли.) На другом уровне рассмотрения и в другом контексте существенно, что и сам Блох как литератор очень любил этот прием – перекличку, игру отражений[304], но у него отражаются друг в друге не формы сознания, а истории и смыслы, рассказы и их «мораль».
Итак, человек (будь то Фауст у Гёте или «сознание» у Гегеля) есть единство позитивного и негативного начал (то есть Фауста и Мефистофеля), которые не могут существовать один без другого, а следовательно, находятся в диалектической связи. Заключив соглашение с Мефистофелем, Фауст полагает «свое иное», Мефистофель для него воплощает волю и потенцию к изменениям[305].
Надо сказать, что фаустовское начало далеко не так «гармонично», как могло бы показаться, если исходить из философских представлений самого Гёте, а значит, мы движемся по многотрудному пути гегелевского сознания. Фауст призывает сам себя
- …В страстей клокочущих горнило,
- Со всей безудержностью пыла[306]
- В пучину их, на глубину!
- В горячку времени стремглав!
- В разгар случайностей с разбегу!
- В живую боль, в живую негу,
- В вихрь огорчений и забав! (63)
Вспомним Гегеля:
…не та жизнь, которая страшится смерти и только бережет себя от разрушения, а та, которая претерпевает ее и в ней сохраняется, есть жизнь духа. Он достигает своей истины, только обретая себя самого в абсолютной разорванности. Дух… является этой силой только тогда, когда он смотрит в лицо негативному, пребывает в нем. Это пребывание и есть та волшебная сила, которая обращает негативное в бытие (23)[307].
Есть и еще одна точка соприкосновения «Фауста» и «Феноменологии…»: критика абстракций и косного рассудочного мышления. В «Предисловии» к «Феноменологии духа» и в части 1 «Фауста» критикуется наивный математизированный рационализм. Гёте показывает мучения Фауста, которому тесно внутри застывшего догматического знания (вспомним Вагнера). Эта критика в «Феноменологии…» изложена столь же иронично, но на языке философии. Гегель не просто показывает нам царство рассудка, но предлагает альтернативу знанию, затерянному в частностях, отвлеченных схемах, предлагает понятие духа как знания «себя самого в его отрешении от себя», сущности, «которая есть движение, направленное на то, чтобы она в своем инобытии сохраняла равенство себе самой» (383). Ни Гегель, ни Гёте не приемлют понимания истины как конечного результата, отделенного от своего генезиса, им чужд «табличный» рассудок, представление о том, что истинное может быть выражено в одном четком положении (Satz) и т. д. Критика абстракций – одна из основных черт того самого искомого нами опыта сознания, опыта, проповедуемого и Гегелем, и Гёте.
Исполненное мгновение
В интерпретации «Фауста» у Блоха постоянно возникает мотив исполненного мгновения. Когда Блох пишет, что «Феноменологию…» объединяет с «Фаустом» движение «беспокойного сознания сквозь галерею трансформаций, бесконечная цель в достиженьи» (PH, 1195)[308], то он имеет в виду и основной raison d’etre такого движения – то самое исполненное мгновение, которое Блох трактует в духе своей философии – как самое интимное, близкое, но и как непрозрачную для субъекта тьму. Не образ, не понятие, а событие (впрочем, воплощенное в художественной форме) – вот инстанция единения субъекта и объекта для Гёте[309]. Сразу надо сказать, что мгновение может интерпретироваться не только по Блоху. Достаточно вспомнить, сколь важная роль отводилась метафизике мгновения/события в религиозной философии Кьеркегора или в эстетике Бодлера («Поэт современной жизни») и в каких разных контекстах обсуждалась там эта тема. Да и сам Гегель отдал должное фиксации мгновений в искусстве, мгновений, сквозь кажущуюся случайность которых мерцает вечный смысл[310].
В конце 2-й части ослепший Фауст «видит» образ свободного народа на свободной земле. Это неотчужденное существование Блох интерпретирует и как прояснение тьмы мгновения, и в духе столь значимой для него социальной утопии[311], причем здесь имеет значение натурфилософия Гёте: будущее царство построено на гармонии человека и природы. Цель фаустовского путешествия – событие, кладущее конец отчуждению (PH, 1196), событие освобождения и вместе с тем – искупления[312]. Идея исполненного мгновения не абстрактна – речь идет об идее столь конкретной, что уже не остается никакой идеи (PH, 1190f.), а лишь эксперимент, духовным стержнем которого служит, по Блоху, задача снискать свободу для всего человечества.
Фауст говорит в начале 2-й части, обращаясь к земле:
- Ты пробудила вновь во мне желанье
- Тянуться вдаль мечтою неустанной
- В стремленье к высшему существованью
С одной стороны, перед нами абсолютно полное наличное бытие (Dasein), а с другой – особое визионерское, мессианское[313] «здесь и сейчас». Сам Гёте, как известно, относился к этому «здесь и сейчас» с трагической иронией: пока Фауст предается мечтаниям о будущем мире, лемуры роют его могилу. Собственно, сам грандиозный «революционный» проект Фауста оказывается абстрактно-утопическим, оставшись лишь видением владыки, не преминувшего пролить кровь ради осуществления своей идеи. Завоевание будущего, которое марксист Блох так хочет оправдать, для Гёте оказывается губительным, а надежда, которую Блох хочет спасти хотя бы в единственном мгновении, в словах Мефистофеля, назвавшего это мгновение последним, дурным и пустым[314], развенчивается. Но развенчивается ли она до конца? «Вокруг меня сгустились ночи тени / Но свет внутри меня ведь не погас» (420), – говорит ослепший Фауст, не переставший надеяться и продолжающий прозревать внутренним оком непостижимую с точки зрения происходящего, необъяснимую исходя из исторической логики утопическую мечту. Он «хочет невозможного» (282). Мгновение становится торжеством индивидуальности как неповторимой жизненной конкретности (связанной при этом самыми интимными узами с природным началом).
Блох, конечно, чурается гегелевского самосознания из «Феноменологии духа», для которого
негативное предмета или снятие им себя самого потому имеет положительное значение, или оно знает эту ничтожность предмета потому, с одной стороны, что оно отрешается от себя самого; ибо в этом отрешении оно утверждает себя как предмет, или предмет – в силу нераздельного единства для-себя-бытия – как себя само. С другой стороны, здесь содержится в то же время и второй момент – то, что оно равным образом сняло и приняло обратно в себя это отрешение и предметность и, стало быть, в своем инобытии как таковом оно находится при себе (399).
Это знание имеет мало общего с аффективным мгновением, с удивлением новому. Р. Виланд добавляет сюда и другой смысл, конкретизируя логику индивидуальности: финальное мгновение – это миг любви, совершенной открытости другому, миг, когда самостоятельные люди обращаются друг к другу, а не растворение предметности в абсолютном субъекте[315].
- Жар сверхъестественный
- Муки божественной,
- Сердце пронзи мое,
- Страстью палимое,
- Копьями, стрелами,
- Тучами целыми.
- Корка под палицей
- Треснет, развалится,
- Мусор отвеется,
- Сущность зардеется,
- Льющая свет всегда
- Вечной любви звезда (432).
Так говорит Pater ecstaticus в конце трагедии. «Боль любви» (Liebesqual), о которой пишет Гёте, сцены природы – горные ущелья, лес, скалы, пустыня, что «одушевляются любовью, / Которая их создала» (432), – где в ослепительных, живых образах описывается мистическая избыточность мира, его непредсказуемость и вместе с тем – парадоксально! – таинственная соразмерность, постоянная изменчивость и незавершенность – все это действительно не вписывается ни в общие представления о Bildung, ни в расхожие диалектические конструкции (особенно это касается схематики Лукача). Кроме того, вряд ли стоит (как это часто делает и Виланд) сравнивать окончание «Фауста» с финалом «Феноменологии духа», хотя бы потому, что сколь бы «объективной» и эпически масштабной ни была вся 2-я часть трагедии, мы возвращаемся к индивидуальности, что совершенно нехарактерно для Гегеля, у которого на более высоких ступенях развития сознание есть дух, «эта абсолютная субстанция, которая в совершенной свободе и самостоятельности своей противоположности, т. е. различных для себя сущих самосознаний, есть единство их: “я”, которое есть “мы”, и “мы”, которое есть “я”» (97).
Фауст – не единственная фигура, которую Блох предлагает в качестве показательного образа «преступания границ». Еще одним таким персонажем у него становится Дон Жуан, отдающийся своей совершенно посюсторонней страсти и сражающийся с отжившими, окаменелыми следами прошлого[31]. Прометеевский характер Дон Жуана (впервые проанализированный Блохом в статье 1928 г., посвященной постановке оперы Моцарта[317]) выражается в том числе и в преданности мгновению, в культе сиюминутной страсти, природной силы. Любопытно, что, характеризуя свою статью, Блох в письме к Кракауэру говорит, что хотя Дон Жуан и революционер, это не значит, что всякое горение революционно. «То, что безразлично с точки зрения трагики, небезразлично с точки зрения революции» (Br I, 287). Блох, таким образом, отказывается от культа слепой и самодостаточной революционности[318], вместе с тем показывая, что трагическое начало обладает самыми разными этическими и эстетическими возможностями.
Несмотря на все логические трудности, с которыми сталкивается и, возможно, еще столкнется эта попытка встретить друг с другом классические тексты, все же есть основания считать ее продуктивной. Литературная интерпретация «Феноменологии духа» позволяет поставить проблему соотношения философского и литературного опыта как опыта сопряжения чувственного с духовным, эстетики понятий.
Блох полагал, что утопический финал «Фауста» – это более гуманистическая, менее отвлеченная мыслительная конструкция, чем абсолютное знание, изображенное в конце «Феноменологии духа», то есть литература «жизненнее», предметнее, «фактурнее», чем философия. Здесь же можно отыскать и существо спора Блоха с Гегелем[319]. В литературе есть место неожиданности, чувственному опыту, опыту разорванности и случайности, удивлению, мистике, спонтанности, образности, наконец, природе, не сводимой к понятийным схемам субъекта. Но такое противопоставление не совсем корректно ни для Гегеля, у которого отвлеченные понятия в «Феноменологии…» обретают живое, образное, почти плотское существование, для которого само абсолютное знание было наивысшей точкой раздвоенности, доведением до предела возможностей сознания по присвоению своего иного – но и открытости по отношению к нему[320], – ни для Гёте, явно видевшего в «Фаусте» (особенно во второй его части) драму идей. И Гёте, и Гегель не боясь говорят об абсолютном, прослеживают и воссоздают развитие духа в языке[321]. Да и сам эстетический акт – разве не есть он зримое воплощение абсолютной идеи?
Соотнесение «Фауста» и «Феноменологии…» у Блоха дает нам один из вариантов интерпретации оснований и предпосылок сочинения Гегеля – наличия самого являющегося духа, который оказывается конечным и историчным человеческим существом. (Именно эта предпосылка положена в основу всей гегелевской философии, поскольку без «Феноменологии духа» необоснованной выглядит вся конструкция «Науки логики»[322].)
Жизнь человека, перипетии его личного и социального бытия, экзистенциальная трагика, религиозный опыт и ткань истории – все это материал не только «Феноменологии духа», но и «Фауста». И на этом материале, по существу, основано величественное здание гегелевской системы, введением в которую и служит «Феноменология…». Получается, что постичь диалектику можно, лишь пройдя сквозь тяготы человеческой жизни, пережив и преодолев сомнения, отчаяние, разорванность, конфликты с общественным началом и многое другое. Этот сложный путь может получить как философское, так и литературное выражение, его можно эстетизировать, описывать как религиозный подвиг и т. д. – важно то, что именно он определил облик гегелевской философии.
Итак, чему же научился Блох у Лукача? Интерес к «Метафизике трагедии» и юношеская дружба подсказывают один важный ответ – Блох научился философской страсти, ибо только с такой страстью можно было принимать, словно монашеский обет, систему идей, и точно так же – стремительно, в единое мгновение – от нее отказываться. Лукач был для Блоха примером живой, деятельной, пусть и не сбывшейся до конца надежды, примером человека, всерьез воспринявшего идею праксиса, жившего опосредованиями и никогда не разделявшего, по примеру Гегеля, теорию борьбы и борьбу за теорию – ни в политике, ни в искусстве.
III. Гнозис, эсхатология и мессианизм в еретической философии Блоха
Ничто и все, хаос и царство лежат в сфере устремлений, которые раньше были религиозными, лежат на разных чашах весов; и склоняет весы в ту или другую сторону труд человека в истории.
PH, 1532.
Прежде чем перейти к еще одной важной исторической констелляции (Блох – Беньямин), нам надо показать, какое место в философии Блоха занимал «революционный гнозис» – набор идей, которые Блох стремился «привить» марксизму и тем самым придать новое историческое звучание социалистической идеологии освобождения.
Не приходится сомневаться, что эти идеи имеют религиозное происхождение. Но еще меньше сомнений в том, что в глазах любой традиционной религии философия Блоха должна быть признана ересью. Вместе с тем религиозное мышление оказало на самого Блоха решающее воздействие. Наше дело – это воздействие уточнить и локализовать.
Мировоззрение раннего Блоха, очевидно, определялось неким комплексом религиозно-мистических идей. В молодости он постоянно обращался к мистике разного толка и, скорее всего, относился к ней серьезно, ощущая ее частью своего непосредственного духовного опыта. Мессианизм тоже был для Блоха не только концептом. В проникновенном письме к Лукачу в 1911 г., набросав видение грядущего царства, он без всяких шуток пишет: «Я дух-утешитель (Paraklet), и люди, к которым я послан, переживут в себе и поймут возвращение Бога» (Br I, 67). «Дух утопии» – профетический текст, с возвышенной стилистикой, с длинными, захлебывающимися предложениями, текст, идущий на поводу у собственной суггестивной образности. Немалую роль в этом опыте сыграла и первая жена Блоха Эльза фон Стрицки, рано умершая, но успевшая стать для мужа примером подлинного благочестия, простоты и кристальной ясности религиозного чувства.
Уже в диссертации о Риккерте «моторная» интенция познания, направляющая его вовне и придающая ему темпоральность, сопровождается мистической, интуитивной, обращающей субъекта вовнутрь и одновременно погружающей в сердцевину, в самую сокровенную тайну каждого предмета, в грёзу его. Это своего рода антиинтенциональность, или реверсивное сопровождение познавательного эроса. Мистическая функция в познании – это функция «собирания» вещей, их преображения в их зависимости от Я, а мистическая сторона предметностей – их сокрытое, еще не проявившееся абсолютное существо, дополняющее созданное моторной интенцией время пространством нового, нарождающегося мира (TL, 112–114). С тех пор мистическое как непосредственно очевидное и вместе с тем выходящее за пределы обычной данности мира вошло в понятийный арсенал утопической философии. В таком интеллектуальном развитии не было ничего удивительного. И дело не только в отчетливом воздействии на Блоха немецкой мистики и немецкой же спекулятивной мысли. Религиозно-философский дискурс давал утопическому философствованию необходимую универсалистскую перспективу, абсолютный смысл[323].
Впоследствии на волне жесткой критики иррационализма (которая, впрочем, есть уже в «Духе утопии») Блох сдержаннее пишет о мистических прозрениях, заменяет призывы к новой церкви и к истине как молитве (GU2, 346) марксистскими идеалами неотчужденного социального бытия, а поиски Бога – диалектическим взаимодействием человеческого труда и становящейся природы. Но неприятие обыкновенной, одномерной научной рациональности осталось и в поздних работах – ведь само обоснование утопического философского проекта не является рассудочным, философские идеалы Блоха – прежде всего предмет аффективной убежденности, даже веры, но отнюдь не какой-то рациональной реконструкции или следования строгим гносеологическим стандартам.
Негативная программа «Духа утопии» и «Томаса Мюнцера» – критика рассудочного аналитического мышления и связанного с ним репрессивного, косного государственного механизма – есть отражение тех смыслов, которые Блох вычитывал из мистических сочинений. Он неслучайно называл свою доктрину политической мистикой (GU1, 410), которая уже в те годы в своей революционности явно противостояла, например, консерватизму Карла Шмитта, параллельно исследовавшего истоки религиозных и политических форм Нового времени и пытавшегося объяснить их стабильность[324].
В 1-м издании «Духа утопии» предпринята попытка переосмысления различных эзотерических идей, которые в то время были необыкновенно популярны, например теософии (GU1, 238–242). Именно в этом контексте Блох пишет о поиске в новом слове новых предметов философствования и «быть может, даже возрожденной мистики» (GU1, 73). Однако вписать тексты Блоха в рамки какого-то одного учения не удается. Тем не менее следы разных эзотерических доктрин в этих текстах, несомненно, остались, не только выдавая интересы автора, но и свидетельствуя о попытке интеграции разнородных смыслов – амбиции, которая явно владела Блохом в 1910-е годы.
По-видимому, вдохновение ранний Блох черпал не только и не столько из первоисточников мистической литературы, сколько из разного качества компилятивных сочинений, попадавших ему под руку. В частности, сведения о еврейской мистике и особенно о книге «Зогар» он, по его собственному признанию, почерпнул из четырехтомного компилятивного труда «Философия истории» (1827–1853) Ф.Й. Молитора (1779–1860), друга и ученика Баадера, знатока иудейской религии и эзотеризма[325]. Под руку ему попадались и другие сочинения, например, оккультные книги теософа конца XIX в. Франца Гартмана[326]. Этим, возможно, и объясняется явная эклектичность эзотерических интуиций Блоха, его нежелание примыкать к какой-то одной традиции и строго ей следовать.
Гнозис
О влиянии гностицизма на Блоха принято говорить с уверенностью. Но что такое гностицизм, как его определить и почему
Блоха можно назвать гностиком? Дать однозначное и всецело удовлетворительное определение гностицизма невозможно[327], хотя ничто не мешает использовать этот термин менее строго, отсылая к некоторому комплексу идей.
Под гнозисом обычно понимается тайное знание, обращенное лишь к избранным и им одним доступное, знание о возникновении космоса и будущем спасении (также возможном лишь для избранных); под гностицизмом – весьма гетерогенная совокупность религиозных учений, возникших во II в. н. э. Для нас существенно, что именно откровенное знание об устроении и судьбе мира становится ключом, открывающим перед гностиком все двери. Душа заброшена в мир, созданный не подлинным Богом (который абсолютно запределен и непостижим), а злым демиургом, но в ней есть божественная искра, дающая надежду на спасение – возвращение всех вещей к истинному божеству, от которого они отпали. Гнозис, объединяя знающего (гностика) и объект познания (божественную искру в глубинах субъективности), – это и есть процесс восстановления утраченного единства. Спасение, искупление (Erlsung) для гностика происходит мгновенно и связано с той самой сокровенной частью его души, которая соприкасается с Богом.
Более общие гностические мотивы – это дуализм (онтологический, а равно и гносеологический), неизбежный скепсис по отношению к позитивному научному знанию и прогрессу[328], представление о внешнем мире и реальности тела как о грандиозной иллюзии[329], в основе которой – хаос, надежда на преодоление этой иллюзии через погружение в себя и экстатический опыт. Гнозис позволяет выйти за пределы вещного мира, указать вещам их «утопическую судьбу» (GU1, 339), постичь мировой процесс борьбы света и тьмы и найти себе место в этом процессе.
Блох познакомился с гностицизмом в том числе и через Лукача, активно интересовавшегося гностическими темами в Гейдельберге, особенно в 1911 г., в эпоху самого близкого их общения. Конечно, мог на него повлиять и Шеллинг[330]. Блох постоянно пользуется гностической терминологией, ссылается на гностиков[331], а главное – использует их идеи.
Надо сказать, что гностическая образность не исчезает и в поздних текстах Блоха. Вселенская тьма и новый свет, надежду на который несет новое искусство, появляются в статьях об экспрессионизме 1930-х годов[332]. «Принцип надежды» начинается с гностической стилизации: «Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем? Чего мы ждем? Что ждет нас?» (PH, 1)[333]. Именно на эти вопросы должен дать ответ гностик, и именно в такой роли мыслит себя Блох. Заканчивается же эта книга надеждой, что «в мире возникнет то, что является всем в детстве, но где еще никто не был: родина» (PH, 1628). Эта фраза, которая, по мнению Якоба Таубеса[334], является некой вариацией из Маркиона в трактовке Адольфа фон Гарнака (вопрос о том, был ли еретический писател II в. н. э. Маркион гностиком, здесь подробно рассматриваться не будет), характеризует важный постулат утопической философии: в мире через нас возникает нечто всецело новое, которое вместе с тем есть порождение самых темных, неотчетливых наших способностей.
Весь тот пафос мироотрицания, который был столь характерен для гностиков, остается и у Блоха: «Мир сей – это ошибка, он ничтожен, и пред лицом абсолютной истины единственное его право – погибнуть» (GU2, 287). Природа – тюремная клетка, в которой томится человечество (Ibid., 336f.). Убогому, падшему материальному миру, могуществу тьмы, противостоит светлая сила субъективности. Лишь после апокалиптического переворота станут различимы окончательные контуры нового мира. Способствовать этой революции должно, согласно молодому Блоху, тайное, непроявленное знание. В частности, он говорит и о божественной искре, о сокрытом бытии божества в глубинах человеческой души (Ibid., 48, 257), о дуализме Бога творения, мира сего, и Бога спасения и любви, который еще не пришел (GU1, 441; GU2, 335). «Плохой» Бог выступает в разных обличьях, но всюду как враг, кровавый тиран, «солидный Господь для солидных господ», свою власть и лишь ее отождествляющий с законом, владыка мира несправедливости и угнетения, застывшего и прогнившего языческого царства. Застывшего, ибо не дающего осветить мир силам души, прогнившего, ибо без этого мистического света мир не исполнит своего предназначения, не выйдет за пределы плоской и унылой самореференции, то есть за свои собственные пределы.
У Блоха есть и такое гностическое рассуждение:
Незнание вокруг нас есть последнее основание явления мира сего, и именно поэтому знание, молния будущего ведения, что пронзает нашу тьму… составляет неукоснительное в своей достаточности основание для явления иного мира, для прибытия к нему (GU2, 227; ср.: GU1, 389).
Само представление о том, что знание есть некий инструмент преобразования мира, искупления, что обретение знания эквивалентно спасению, объединяет гностицизм с марксизмом, поэтому нет ничего удивительного в том, что заключительную часть «Духа утопии» Блох снабдил заглавием, на первый взгляд весьма эксцентричным, – «Карл Маркс, смерть и апокалипсис»[335]. Взорвать наш мир изнутри, по Марксу, должно именно познание законов капитализма, понимание неизбежности его конца, осознание глубокой несправедливости капиталистической эксплуатации. Гностики говорят, конечно, о другом знании, но Блоху важен их революционный пыл, и ради него он мог не замечать спутанности некоторых гностических мифологем.
Эсхатология раннего Блоха, несомненно, отмечена воздействием Маркиона. Вслед за Маркионом он прокламирует радикальное уничтожение старого мира и столь же радикальное его обновление. Оно происходит в глубинах души, но «вещи просыпаются вместе с нами», «ищут своего поэта» (GU1, 387, 335), и весь мир переживает утопическое перерождение. В одно время с «Духом утопии» писалась и опубликованная в 1921 г. книга Адольфа фон Гарнака «Маркион. Евангелие чуждого бога»[336], где учение Маркиона объявлялось ключевым для понимания возникновения христианства как самостоятельной религии. Отказ от иудаизма и от Ветхого завета, отрицание связи между Богом-Отцом и Христом, утверждение совершенно новой религии – все эти черты маркионизма способствовали, по Гарнаку, автономизации христианства.
Надо сказать, что идеи фон Гарнака оказались в центре напряженной политической дискуссии в Германии 1920-х годов. Отказ от иудейской религии, своеобразный «антисемитизм» Маркиона[337] и предложение фон Гарнака убрать из христианского канона Ветхий Завет[338], увы, не способствовали мирному диалогу между христианами и иудеями. Сложно сказать, были ли все эти идеи фактором или следствием нараставшего антисемитизма, но ясно одно: в ту эпоху они были прочитаны весьма однозначным образом[339].
В этом контексте синкретизм Блоха, у которого Маркион – выразитель радикального мессианизма и тем самым – глубочайшей истины иудейской духовности, – особенно бросается в глаза. Можно было бы, конечно, сказать, что под иудейской духовностью Блох понимает особое мессианское направление в еврейском мистицизме[340], однако у него нет такой дифференциации. «Метафизический антисемитизм» Маркиона ранний Блох ценит гораздо выше «священной ойкономии» Ветхого Завета, в которой мессианские небеса из «педагогических» соображений спускаются на землю (GU1, 330). Маркион провозглашает радикально иное, вместе с апостолом Павлом, которого берет себе в союзники, противопоставляя иудейский закон Евангелиям. При этом аскетизм Маркиона у Блоха не противоречит гуманизму – бунт против религиозных догм и авторитетов означает помимо прочего поворот к человеку (AC, 238–240).
Конечно, не все идеи гностиков попали в тексты Блоха. Например, хотя он использует гностические представления о плероме (божественной полноте), но почти не говорит о трансцендентном генезисе – первой стадии развития мира, – избегая всей сложной и запутанной мифологической спекуляции гностиков[341], к тому же и существующей в разных, порой трудно совместимых версиях. Его, скорее, интересует в этих учениях радикальный дуализм и представление о том, что именно тайная жизнь человеческой души – источник спасения всего мира[342].
Интересно, что идея активного, становящегося Бога, который спасает не только мир и человека, но и самого себя, встречается и у Розенцвейга в «Звезде спасения». Рассуждая о вечности Бога, он пишет, что для Него спасение (избавление), творение и откровение – суть одно и то же, ибо Он стоит вне времени – время нужно человеку и миру, чтобы спастись. Конечные и связанные со временем дистинкции Спасителя и спасаемого для вечного Бога недействительны[343].
Лишь в спасении Бог превратится в то, что повсюду разыскивалось легкомысленным человеческим мышлением, но так нигде и не нашлось, потому что нигде еще и не могло найтись, ибо этого еще не было: Все и Одно[344].
Надо сказать, что зависимость судьбы Бога от судьбы мира – важная идея Бубера, обсуждавшаяся в его ранних лекциях о еврейской религиозности. Блох высказывается в том же духе: окончательный суд ждет и Бога, и человека (GU1, 439). В превращенной форме та же идея появляется чуть позднее и у Шелера: «Становление Бога и становление человека с самого начала взаимно предполагают друг друга»[345].
Конечно, мыслить действия Бога, не накладывая на них привычных антропологических схем, трудно, отсюда сложная космическая метафорика у Розенцвейга и двусмысленный, загадочный текст у Блоха, отсылающий к необычному и непрозрачному опыту. Отсюда же итоговая формула: «Мир не истинен, но с помощью человека и истины он хочет вернуться домой» (GU2, 347).
Пафос тотального мироотрицания Блох впоследствии сочетает с идеей прояснения тайны человечности. Отвергая современный мир, человек ничуть не теряет, напротив – обретает самого себя (AC, 240). Другое дело, что у раннего Блоха этот человек сгорает в ницшеанском костре, ибо радикализм гностических идей, как и любое абсолютное мироотрицание, всегда жжется – об этом свидетельствует, в частности, история рецепции Гарнака.
Перенимая стиль мысли гностиков, Блох вместе с тем отвергает гностический миф как миф. Говоря о чуждости человека миру, о его удаленности от Бога как об аномалии, он утверждает, что упразднить такое положение вещей, описывая переживания в абстрактных аллегориях или в традиционной символике, не получится. Пышная и отягощенная подробностями гностическая мифология для Блоха недостаточна, он стремится, вооружившись дуалистической метафизикой, привнести в свои тексты момент личностной непосредственности и тем самым, как это ни странно, от мифологии перейти к истории.
Эсхатология и апокалиптика
Интерес Блоха к апокалиптике и мессианизму был вполне созвучен его эпохе, «которая охвачена трепетным чувством какого-то стремительного, неудержимого, непроизвольного даже движения вперед, смутным ощущением исторического прорастания» и для которой апокалиптика прошлого «становится… историческим зеркалом… средством духовного ориентирования»[346]. Неслучайно Осип Мандельштам приблизительно в то же время «слышал с живостью настороженного далекой молотилкой в поле слуха, как набухает и тяжелеет не ячмень в колосьях, не северное яблоко, а мир, капиталистический мир набухает, чтобы упасть!»[347]
Изначальная ситуация экзистенциального и апокалиптического философствования у Блоха – опыт разорванности и бессмысленности бытия, ощущение всеобщей деградации, столь характерное для интеллектуалов его эпохи. Одним из важных свидетельств коллапса европейской культуры и полной победы рациональной техники и цивилизации стала для Блоха мировая война. Вместе с тем потеря ориентиров и полная ценностная неопределенность в эпоху fin de siecle не были тождественны беспринципности, интеллектуалы искали новые ценности, фиксируя и отчаяние, и потерю прежней идентичности. Апокалиптика и мессианизм – особенно среди образованной еврейской молодежи – стали реакцией на секуляризацию и попыткой выстроить иную культуру и новую метафизику. Однако говорить об этих поисках всерьез можно, лишь ощущая за плечами дыхание тысячелетней религиозной традиции.
У Блоха гностические и апокалиптические мотивы трудно различить[348]. Причина, во-первых, в том, что хилиастические умонастроения, пророчества о тысячелетнем царстве Христа выросли из гностических идей, и, во-вторых, конечно, в историчности самого гнозиса (ведь рассказ об отпадении разворачивается в истории). Разумеется, оценка самой этой истории в текстах раннего Блоха резко отрицательная: он, как и гностики, не верит в прогресс разума[349].
Избавление от пораженного инструментальной рациональностью мира свершается в глубинах души. Исходная же ситуация современности, диагноз ее, служивший отправной точкой и для Блоха, и для Лукача, хорошо сформулирован у Вебера:
По мере того как аскеза начала преобразовывать мир, оказывая на него все большее воздействие, внешние мирские блага все сильнее подчиняли себе людей и завоевали наконец такую власть, которой не знала вся предшествующая история человечества. В настоящее время дух аскезы – кто знает, навсегда ли? – ушел из этой мирской оболочки… победивший капитализм не нуждается более в подобной опоре с тех пор, как он покоится на механической основе[350].
Апокалиптические настроения усугублялись мировой войной.
Кого защищали?
– спрашивает Блох в «Духе утопии». —
Защищали лентяев, убогих, лихоимцев. Кто был молод, тот должен был пасть, а подлецы спасены и сидят на теплом месте. Среди них потерь нет, но те, другие, кто размахивал знаменами, мертвы. Художники защищали спекулянтов… триумф глупости – под защитой жандарма, и вторят этому восторженные возгласы интеллектуалов (GU1, 9).
Ощущение того, что мир расколдован, что он распался, есть не только в текстах Блоха, но и у экспрессионистов из его поколения, которым он столь многим обязан (GU2, 212). Это же ощущение хорошо выразил немецкий поэт Готфрид Бенн:
Действительность, эта так называемая действительность, стояла ему (поколению экспрессионистов. – И. Б.) поперек горла. Впрочем, ее уже и не было вовсе, остались лишь гримасы. Действительность была капиталистическим понятием. Действительность – это были парцеллы, продукты промышленности, кредитные записи ипотеки, все то, что можно было снабдить ценой… дух лишился действительности. Он обратился к своей внутренней действительности, к своему бытию[351].
Для Блоха чуть ли не единственная форма постижения тайн нового мира – искусство. В «Духе утопии» мистические, религиозные настроения естественным образом соединяются с искусством экспрессионизма и вдохновляются им. Обсуждая Ван Гога и Сезанна (GU2, 45–48), Блох соотносит свое мышление с общими принципами экспрессионистской эстетики и находит в современном ему искусстве «целостное экстатическое созерцание» субъективности (GU1, 47). Благодаря сверхъестественной силе искусства вещи перестают быть мертвым антуражем, вечной тавтологией, и когда в них мы встречаемся с самими собой, видим, наконец, человеческий лик, и эта одушевленная мистическая вселенная откликается нам как всечеловек («макан-тропос»), тавтология рушится, возникает новый мир. Наследие экспрессионизма проявляется и во внимании к простым, часто незаметным мелочам (вспомним описание кувшина в самом начале «Духа утопии») и вообще к предметности повседневной жизни. Эстетика становится обоснованием философии истории, а мистическое переживание искусства легко переходит в эсхатологию. Новая эсхатологическая очевидность дарует нам истину, «которая не берет больше, а дает, которая больше не постигает, а, именуя, трудами и молитвами назначает» (GU1, 388f.).
Поэтому искусство 1910-1920-х годов, многим казавшееся проповедью распада и тлена (и в живописи, и в литературе), так притягивало Блоха: он видел в нем нервное средоточие своей эпохи. Не только музыка, но и язык (более понятный медиум) становятся у него элементом мессианского постижения, чтение аллегорий – жестом, указующим в неведомое. Мессия должен был сойти с книжных страниц, переживаться в настоящем времени, он и был для Блоха этим временем – временем нового звучания новых слов. Но постичь призыв мессии можно, лишь осуществив герменевтическое усилие, постаравшись расшифровать будущее. Это означало – жить с историей и в истории, не удовлетворяясь повторением, открыв в себе умение видеть преизбыток исторического времени, его подкладку.
В экспрессионистской литературе эсхатологические настроения были чрезвычайно распространены. Они возникли как осознание разрыва между миром мистической сосредоточенности художника и миром реальным. Мгновение соответствия идеала и реальности отодвигается здесь в конец истории или вообще выносится за ее пределы – мистическое переживание дополняется эсхатологическим событием апокалипсиса. Это историческое измерение не всегда присутствует в экстатической религиозности, тогда как у Блоха оно ощутимо с самого начала (GU1, 383).
Эсхатология и мессианизм в «Духе утопии» – это отрицание всякой половинчатости, недомолвок и духовных компромиссов.
Не постепенная эволюция или прогресс, в конце которого, после всех исторических мытарств, все кончается честным пирком да свадебкой, как в представлениях современного социализма, но мировая и историческая катастрофа отделяет настоящий эон от будущего[352],
– писал современник Блоха о. С. Булгаков. В своей радикальной и еретической революционности Блох не щадит традиционные религиозные ценности. Для него первым революционером оказывается Люцифер (GU1, 441f.), вместе с Маркионом он ожидает нового Бога (Ibid., 330f., 381). Кроме того эсхатологизм для Блоха – это политическая программа, о чем свидетельствует его вдохновенная книга о Мюнцере. Ошибочно приписывая Мюнцеру сложные космологические спекуляции, Блох тем не менее удачно использует его образ, чтобы показать: осознание того, что грядет Суд божий, становится не только частью внутренней жизни, но и элементом политической культуры, отменяющим всю предшествующую историю. Задача мессианизма – ускорить конец здешнего мира.
Цель… борьбы в том, чтобы настали времена, и мы смогли бы встретить изъятие мира сего с душами, которые стали чисты, с тем «в целом» (berhaupt) всех душ, наконец отысканным, с утешительным, не разорванным на части гением средоточия внутренней жизни, челяди, со словом существенности, с главным словом того духа Святого, который сам по себе желал бы столь полного уничтожения природы, этой юдоли заблуждения, этой кучи мусора, что для зла, подобного сатане, не понадобилось бы даже надгробия, не говоря о преисподней (GU2, 342).
Эсхатологизм – это и особый стиль, зафиксированный в ранних текстах Блоха, стиль напряженного ожидания катастрофы, в котором есть место и для возвышенных, порой выспренних прокламаций, и для истерических воззваний, и для точных образов времени. Невозможно, между прочим, не увидеть здесь удивительных параллелей с русской теургической эстетикой, восходящей к Вл. Соловьеву и изложенной у Вяч. Иванова и А. Белого. Многие авторы, на которых опирался Белый (Ницше, Ибсен, Штайнер), были образцами и для молодого Блоха, но помимо этой формальной общности несомненна общность устремлений:
[Н]ам остается один путь: путь перерождения; творчество жизни, как и самая жизнь, зависит от нашего преображения… подложить динамит под самую историю во имя абсолютных ценностей, еще не раскрытых сознанием (курсив мой. – И. Б.), вот страшный вывод из лирики Ницше и драмы Ибсена. Взорваться со своим веком для стремления к подлинной действительности – единственное средство не погибнуть[353].
Особенность апокалиптического познания состоит в том, что мир судится из перспективы его полного исчезновения. Блох не хочет отодвигать реализацию утопии в неопределенное будущее, он не готов принять кантианский аргумент о бесконечном приближении к совершенству, отсюда такое внимание к повседневности и метафизике мгновения. Но при этом погружение в себя не есть упоение самостью, необходим бунт против ущербного мироздания.
Поэтому Блох колеблется между мистическим презентизмом мгновения и эсхатологическими обертонами религий откровения. Не очень понятно, как совместить полное и безоговорочное уничтожение старого мира с тем стремлением раскрыть тайны, которые вынашивает в себе наша душа, и придать смысл миру повседневной жизни. Но если погружение в себя искажает историческую оптику, то апокалиптика не дает увидеть подлинно настоящее[354], увлекает мгновение в водоворот исторического движения, навязывающего нашему актуальному бытию свои дела и перспективы. Уже в этом проявляется вся парадоксальность утопического проекта, о которой будет еще повод сказать ниже.
Мессианизм, конечно, противостоит традиционной религиозности, пренебрегая ею как унылой догмой. Впрочем, уничтожение святынь может мыслиться и как восстановление прежнего порядка, возврат к «золотому веку». Собственно, напряжение между реставративной и утопической тенденциями определяло всю историю еврейского мессианизма. Но главное в том, что для Блоха такое возвращение не есть результат действия имманентных истории, эволюционно развивающихся сил, каузально обусловленный неким предшествующим развитием, речь идет о вторжении извне, резком и непредсказуемом (это роднит его и с Розенцвейгом, и с Беньямином)[355]. Божественная искра может вспыхнуть в любой момент, в любом деле, самом заурядном и нелепом, и здесь гностицизм и (надконфессиональный) мессианизм сходятся.
В основу эсхатологии Блоха положен некий синтез христианских и иудейских религиозных смыслов. В «Духе утопии» образы апокалипсиса постоянно заимствуются из «Откровения» (черное – «мрачное» – солнце, кровавая луна, белые одежды и т. д.[356]). Но еще важнее для Блоха революционные ереси, и прежде всего фигура Иоахима Флорского, знаменитого проповедника «третьего царства». Иоахим говорит не о потустороннем мире, а прозревает учреждение нового мира на этой земле, братского сообщества свободных людей (EZ, 132–138). Явный анархизм христианских еретиков, которые обещали мир, лежащий по ту сторону материального производства, пришелся ко двору в утопической философии Блоха. При этом ранний Блох не был ни исключительно христианским писателем, ни христианским же еретиком. Ближайшее воздействие оказала на него иудейская апокалиптика.
Иудейская мистика и эсхатология
В 1919 г. молодой Гершом Шолем вошел вместе с Беньямином в комнату Блоха в швейцарском Интерлакене и был потрясен, увидев у него на столе книгу немецкого ученого-антисемита Иоганна Андреаса Айзенменгера «Разоблаченнй иудаизм» (“Entdecktes Judenthum”, 1700). Шолем удивленно посмотрел на Блоха, но тот объяснил ему, что читает книгу с большим удовольствием, ибо автор, ученый шут, простофиля, не понимал, что, разоблачая богохульства и обильно цитируя еврейских авторов, на самом деле открывает сокровищницу иудейской мысли. Шолем, по его собственным словам, имел возможность самостоятельно убедиться в том, что Блох оказался прав[357].
Хотя Блох родился в еврейской семье, от иудейской религии его родители были весьма далеки, да и сам он никаких обрядов никогда не соблюдал. В разговоре с израильским послом в 1960-е годы Блох сказал, что он не был ассимилированным евреем, а напротив, ассимилировался в иудаизм[358]. Однако на Блоха оказала воздействие и культура иудаизма, и, главное, некоторые еврейские авторы.
Точек сближения с иудаизмом было немало. Например, любовь Блоха к музыке как к особому, необразному искусству можно истолковать в контексте его ранней философской эстетики, противостоящей всяким завершенным формам, подобно иудеям, не принимающим изображений Бога[359]. Тайная история мира, ожидание мессии, надежда на спасение – все эти аффекты и смыслы, издревле присущие обездоленному, лишенному родины еврейскому народу, оказались основополагающими не только для утопического философствования, но и для нескольких поколений выдающихся немецко-еврейских мыслителей.
Эти люди жили в условиях многократно, на разных уровнях развертывавшейся катастрофы. Первый и самый главный кризис рубежа веков – это секуляризация, утрата смысла религиозной идеи, превращение еврейской религии в пустой ритуал. Еще один – потеря идентичности, связанная с ассимиляцией[360]. Наконец, когда разразилась общеевропейская катастрофа – мировая война, – еврейские писатели в Германии почувствовали если и не наступление апокалипсиса, то начало новой, важной эпохи, которую нужно было осмыслить, в которой надо было осваиваться.
Экзистенциальную философию раннего Блоха трудно понять, не зная о влиянии на него Мартина Бубера (1878–1965), посещавшего, как и он, семинар Зиммеля в Берлине. Тексты Бубера на некоторое время стали как идейным/стилистическим образцом, так и поводом для размежевания и отторжения – не только для Блоха, но и для многих других немецко-еврейских интеллектуалов, среди которых были Лукач, Беньямин, Шолем, Розенцвейг. Бубер был автором талантливой философской прозы, его экспрессивная манера письма оживила смысл еврейской идеи, придала ей новое духовное и политическое содержание, показав, что мистическое наследие иудеев – не просто романтический флер и замшелое прошлое, что его можно сделать частью повседневной сокровенной жизни каждого человека. Поэтому если еврейская мистика и заинтересовала Блоха, то в значительной степени благодаря Буберу.
В 1935 г. в «Наследии нашей эпохи» марксист Блох уже сравнивает Бубера с Германом Кайзерлингом (философом, явно не вписывавшимся в марксистский канон, сколь бы широко ни понимал его Блох в те годы) и упрекает мистицизм в легкомыслии (EZ, 149), но в «Духе утопии» он, очевидно, еще находится под влиянием первых работ Бубера[361]. С Бубером его роднит идея о необходимости обнаружить и пробудить в себе внутреннее Я, скрытую самость, не сводящуюся к поверхностной, зацикленной на себе, нарциссической субъективности, связать священную и мирскую историю. Именно мистицизм Бубера, а не рациональный прогрессизм Германа Когена[362] определили тот стиль, который в отношении иудейской премудрости выбрал для себя Блох. Впрочем, не стоит забывать и о том акценте на отделение мифа (которому неведомо неопределенное и неизвестное будущее) от религии в «Этике чистой воли», благодаря которому профетический мессианизм стал центральным моментом созидания и постижения истории[363].
Евреи и у раннего Бубера[364], и у Блоха – народ, склонный не к созерцательности, а к деянию, к активному творению себя в истории[365]. Еврейские пророки, о которых столько писал Бубер, – это герои утопической философии, которые движимы внутренним императивом, волей к теократии и ненавистью к любым формам посюстороннего принуждения.
По всей видимости, именно благодаря книгам Бубера Блох заинтересовался хасидизмом, и прежде всего легендами и анекдотами из еврейской жизни, которые собирал Бубер. Блох любил истории о Баал-Шеме, в особенности ту из них, где рассказывалось о хозяине-пьянчуге, не чтившем субботы, у которого переночевал Баал-Шем и перед которым затем пал на колени, увидев в нем богоизбранного, шедшего по водам. М. Ландман отмечает, что здесь Блоха интересовало то инкогнито, которое живет внутри вещей и событий, некая тайна, призванная рано или поздно раскрыться[366]. Конечно, та связь между Богом и миром, о которой говорилось выше в контексте идей Бубера и Розенцвейга, тоже сближала Блоха с Бубером.
Стоит, однако, оговориться, что, во-первых, фундаментальные характеристики еврейской религии, которые давал Коген (а именно – монотеизм как устремленность к Единому и идеология гуманности как мессианское видение будущего человечества), очень близки тому, что говорил о евреях Блох в «Духе утопии». Да и общие итоги размышлений Когена – «провиденциальное истолкование истории в духе этического социализма»[367], – равно как и идея постулативного, этического измерения, возвышающегося над данностью человеческой жизни, при всех различиях вполне соразмерны утопическому мессианизму Блоха.
Во-вторых, Блох не разделял сионистских взглядов Бубера, сделавших его популярным среди еврейской молодежи. Справедливости ради надо сказать, что ранний Бубер считал главным не исход евреев на свою родину, а преодоление внутренних границ, внутреннее духовное освобождение и преображение. Но так или иначе сионизм как идеология национального государства претил космополитизму и социалистическому мировоззрению Блоха-маркионита, равно как и мистическому анархизму другого еврейского радикала – трагически погибшего Густава Ландауэра (1870–1919), автора книг «Скепсис и мистика» (1903) и «Революция» (1907), друга Бубера и Кропоткина. Блох же воспринимал сионистские идеалы как профанацию еврейской миссии, банальный исход всемирного освободительного движения. Внимание Блоха и Ландауэра в 1917 г. было приковано к России, а не к Израилю[368]. Категорически не устраивал ни Блоха, ни Беньямина, ни Ландауэра и милитаристский пафос Бубера во время Первой мировой войны.
(Мы не будем специально касаться здесь вопроса политической близорукости Блоха и его современников, но интересно, что с Бубером Блоха роднила и единая политическая стилистика – теологизация политических понятий, с поразительной неизбежностью ведущая к их расплывчатости, отдающая их на откуп любой, даже самой тенденциозной интерпретации.)
Ландауэр призывал вернуться к средневековой коммуне, к всеобщему братству, которое, вполне в традиции еврейского эсхатологизма и немецкого романтизма, мыслилось как восстановление утраченного «золотого века» и вместе с тем как полное разрушение существующих институтов. Восставая против косной мифологии и надмирной религии, Ландауэр верил в возможность мгновенного изменения мира в социалистическом духе, причем связывал это изменение (под влиянием Бубера) со всемирно-исторической миссией еврейского народа, не ведающего границ и национально-государственных предрассудков и ведомого своими главными пророками – Моисеем, Христом и Спинозой. Блох, безусловно, испытал некоторое влияние Ландауэра, отразившееся как в «Духе утопии», где анархизм сочетается с духовным аристократизмом и где утопия понимается в революционном, активистском духе, так и в «Томасе Мюнцере», где воспеваются социалистическая религия, тотальное крушение мира и конец времен. Следуя Ландауэру, Буберу, Фрицу Маутнеру[369], Блох искал новый язык, новый опыт, выходящий за пределы привычных форм знания. Но, в отличие от Ландауэра, возвращение к «золотому веку» для Блоха, как мы уже видели, невозможно, суть утопии – принципиальная готовность воспринимать новое и столь же принципиальное недоверие к любым формам реставрации. Утопический проект Ландауэра был выстроен с гораздо большей определенностью и заданностью, чем у Блоха, для которого даже «идеальный» социализм не был «конечной остановкой»[370].
Еще один важный в этом контексте автор, Розенцвейг, связал свою философию с интенсивным переживанием мгновения – переживанием символического единства религиозной общины – и вместе с тем с настойчивым, напряженным ожиданием спасения – ожиданием, оживляющим время истории и придающим ему смысл. У Розенцвейга это очень необычное ожидание – община должна жить в ситуации, когда Царство может вот-вот прийти, спасение – вот-вот свершиться. Эта предельная интенсивность переживания времени обнажает уже известный нам парадокс: мы балансируем на грани между культом мгновения, конденсацией истории в одном миге, и постоянным смещением финала истории в будущее, ожиданием мессии.
В 1-м издании «Духа утопии» есть глава под названием «Символ: евреи» (GU1, 319–331), текст ее был написан еще в 1912 г. В ней Блох дает характеристику настроений среди еврейских интеллектуалов своей эпохи и помещает эти умонастроения в исторический контекст. Еврейское миросозерцание – это, согласно Блоху, неприятие мира[371], стремление преобразить жизнь на справедливых и духовных началах и мессианизм как одержимость некой надмирной целью для всего человечества, а не только для еврейского народа (GU1, 321 f.). Такое понимание мессианизма, возможно, инспирировано Ландауэром, но содержится и в еврейских источниках. В самом конце «Духа утопии» Блох приводит обширную цитату, акцентируя иудейское происхождение своей философии:
«Знай же, – сказано… в древнем манускрипте книги Зогар[372], – что любой из миров можно видеть двояко. Первый взгляд показывает их внешность, а именно всеобщие законы миров сообразно их внешней форме. Другой же указывает на внутреннюю сущность миров, а именно средоточие и суть душ человеческих. Существуют соответственно два уровня делания – труды и молитвенное послушание; труды – для того, чтобы усовершенствовать миры относительно их внешнего устроения, молитвы же – чтобы поместить один мир в другой и поднять его ввысь». В таком функциональном отношении между высвобождением и духом, марксизмом и религией, объединенными в единой воле к царству, струится, вбирая в себя все притоки, окончательная система: душа, мессия, апокалипсис… дают последние импульсы действия и познания, формируют априори всякой политики и культуры (GU2, 345f.).
В такой же двойственности пребывает мир еврейской жизни, описанный у Розенцвейга: у всякой вещи в этом мире есть помимо обыденного употребления некое «двойное дно», другое измерение, сквозь которое просвечивает грядущий мир[373].
Блох считает, что человек, сумевший внутренним оком охватить себя и рассеять тьму и непрозрачную пелену собственного сознания, способен полностью переделать мир. Эта идея наследует не только ницшеанскую концепцию сверхчеловека (с ее динамическим поиском и радостным утверждением жизни и себя в жизни), но и иудейские представления об осуществлении Бога, о Шхине (божественном присутствии), отпадшей в конечный мир и способной вернуться к божественной сущности лишь через действие человека, через избавление[374]. Бубер и Блох вполне сходятся на том, что спасение находится в руках человека, который должен, погрузившись в себя и испытав свою душу в ее подлинности, в ее обнаженности, ощутить целостность своего Я и по-настоящему пережить единение Я и мира, то первоначальное единство, что лежит в основе всякой двойственности.
Однако есть и еще одно немаловажное измерение иудейской традиции: представление о мессии, выполняющем свое историческое предназначение лишь после того, как человечество созрело и готово встретить его. Такой мессианизм Блох находит в священных текстах иудаизма – в Гемаре говорится, что последнее чудо важнее первого, а в основе истока («альфы») лежит событие конца («омега»), еще не случившееся, но пробивающееся сквозь настоящее: Адам Кадмон, первый человек, определяется тем всечеловеком, которого ожидают грядущие времена. Каббалистическое воссоединение разрозненных духовных сил, искр духа, Блох кладет в основу доктрины утопического ожидания.
Кроме того, он опирается на саббатианизм и религию радости, повторяя вслед за Баал-Шемом, что «радость больше закона» (GUI, 330)[375]. В описании трагических времен, которые должны наступить, когда мир будет совершенно обезбожен, и в метафорах «искры конца», которую мы несем на своем пути, комментаторы видят отзвуки лурианской каббалы[376], хотя Блох мог позаимствовать эту метафорику не только у каббалистов, но и у гностиков.
Гершом Шолем пишет, что утопическая традиция в мессианизме наиболее удачно воплотилась именно у Блоха. Причем Шолем считает, что Блох обязан своими прозрениями «энергии и глубине мистического вдохновения», а не «джунглям марксистских рапсодий»[377]. Почему Шолем так выделяет Блоха? Видимо, потому, что увидел в «Духе утопии» если не букву, то дух еврейской эсхатологии, в загадочных формулах – аллегории пророков, повествующих о конце времен после того, как им открылась вся история мира, разочаровавшихся в истории явной и одержимых идеей конца. Блох наследует их энергию и вдохновение.
Мысль о том, что проблески будущего избавления можно обнаружить в настоящем, весьма характерна для иудейской мистики[378]. «Встреча с самим собой» – цель и смысл преображения человека в «Духе утопии» – описана и в мистических техниках профетической каббалы, в школе Авраама Абулафии[379]. В определенный момент медитации каббалиста «внутреннее проявит себя вовне и с помощью чистого воображения примет форму сияющего зеркала… После этого человек видит, что его сокровенная сущность оказывается вне его самого»[380]. Как тут не вспомнить основной лозунг «Духа утопии» – поиск путей, которыми направленное вовнутрь устремилось бы вовне, а направленное вовне – вовнутрь.
Отдельного упоминания заслуживают рассуждения Блоха об Иисусе Христе и о сложнейшей проблеме отношения еврейской религии к христианству. Блох отмечает, с одной стороны, глухое неприятие прошлых поколений, а с другой – удивительно позитивное отношение к Христу со стороны новых поколений евреев. Комментируя «Послание к римлянам», он пишет о том, что еврейский народ всегда играл важную роль для апостола Павла[381], что в недрах его всегда присутствовал Иисус как мессианский дух, что в агадической литературе всегда было место страдающему мессии[382].
Однако евреи так и не приняли Христа, еврейство «застыло в пустом формалистическом традиционализме и вполне трезвом, абстрактном деизме» (GU1, 330)[383]. Блох провозглашает нового Бога, «в нашей глубочайшей, пока безымянной внутренней сокровенности спит последний, неизвестный Христос[384], покоритель холода, пустоты, мира и Бога, Дионис, неслыханной силы теург, которого предчувствовал Моисей, а мягкосердечный Иисус лишь облачил, но не воплотил в себе» (GU1, 332). Центральная роль Иисуса, по мнению Шолема, – результат воздействия на Блоха раннего Бубера. Так или иначе, назвать Блоха христианином хотя бы по этому признаку – ожиданию «нового» Христа – уже нельзя.
Было ли иудейское начало для Блоха решающим как таковое или же он лишь подчинял его задачам своей философии, высекая из иудейской премудрости искры утопических идей? Быть может, прав Хабермас, утверждавший, что, поскольку Блох как философ следовал за Шеллингом и романтиками, а они активно использовали каббалистические идеи, его иудейская выучка – характерная черта самого что ни на есть немецкого духа, охотно учившегося у иудеев[385]?
Христианские еретики
…мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.
Рим. 8:23–26.
Очевидно, что без воздействия христианства в целом и разных форм христианской мистики представить себе философию Блоха тоже невозможно. Любые идеи – в том числе имеющие иное, иудейское или гностическое происхождение – соотносились с христианским видением мира, человека и истории. В беседе с Ж.-М. Пальмье за год до смерти Блох подчеркивает, что верующим евреем он не является и что корни его мышления – в христианстве[386]. Действительно, талмудическую формулу «киддуш хашем» (освящение Божьего имени, важная практика в иудаизме) Блох, например, толкует как христианское «Отче наш». Отвергая античную онтологию припоминания, Блох открывал в христианстве религию революционной антиципации будущего мира. Причем в ранних работах он даже ждал «радикального обновления католицизма из духа францисканской жизни и Экхартовой, доминиканской мистики» (TM, 103)[387].
Однако и в христианстве Блох искал те элементы, которые были близки его революционному инакомыслию. Ветхозаветного змея, соблазнившего Еву и вызвавшего грехопадение, он в поздней работе «Атеизм в христианстве» трактует почти как Прометея, освобождающего людей, делающего их богоравными, показывающего человеку мир, лежащий за пределами заданного Демиургом-Яхве. В «Принципе надежды» он, например, отдельно обсуждает учение офитов, поклонявшихся змее[388] – амбивалентному образу абсолютного зла (в том числе – первородного греха) и абсолютной мудрости (PH, 1495ff.). Строительство Вавилонской башни он толкует как дерзкий революционный вызов авторитету и авторитарности высшей божественной власти (AC, 119). Именно Бог Исхода, Бог Моисея, а не Бог традиционной религии есть для Блоха истинный утопический Абсолют. Еще одним библейским Прометеем поздний Блох считает Иова, сотрясающего стабильный миропорядок изнутри, возвышающегося над Богом (AC, 155ff.)[389]. Христос выделяется у Блоха именно потому, что он не был ни мечтателем, ни воином, боровшимся, как мятежник Бар Кохба, за существующий порядок вещей, – его царство, царство людей, вело прочь от авторитаризма иудейской религии к новому царству конца времен, и в этом смысле Христос стал у Блоха одной из вершин иудейской апокалиптики (AC, 182f.). При этом у позднего Блоха в основу мессианской идеи в качестве ее непременного условия кладется атеизм (PH, 1413)[390].
Блох отвергает мистику крови, обвиняя апостола Павла в том, что искупительная жертва Иисуса, ставшего мессией вопреки своей смерти, трактуется у него как условие, благодаря которому Иисус становится мессией. Иисус у Блоха осознает себя как человек, как тот, кто передает эстафету мессианской идеи Святому духу, духу-утешителю (PH, 1489ff.), а в конечном счете – всему освобожденному человечеству. Мы не останавливаемся, мы идем дальше Христа, и здесь, безусловно, пролегают границы между Блохом и самым «либеральным» христианством, для которого после Христа уже ничего принципиально нового не происходит, для которого пришествие
Христа – это и есть то абсолютное событие, в котором и наше прошлое, и будущее[391].
Важную роль играет для Блоха и христианская мистика, ведь в опыте мгновения, предвосхищения целостности мира угадывается и то озарение индивидуальности, которое христианские мистики трактовали как переживание единичного человека. Самый характерный пример – рождение Бога в сокровенности человеческой души, о котором говорит Экхарт в своей проповеди «О вечном рождении». Ни образу, ни слову, ни вообще чему-либо внешнему этот опыт неподвластен, он появляется после забвения всего внешнего, себя самого, когда Господь изрекает сокровенное Слово[392]. Впрочем, Блох, цитируя это место, пишет:
У Экхарта, конечно, сколь бы энергично он ни вопрошал тут же: «Где родившийся царь Иудейский?»[393], субстанция света все еще отодвинута в дальнюю высь, удалена в пространстве от субъекта и от нас, к сверхбожественному Богу, в сокровеннейшие глубины, где кружится голова и сияет ангельский свет, в которых, однако, менее всего может содержаться, разрешиться единственная тайна, тайна нашей близости. Нет, это должно быть проживаемое ныне мгновение, и лишь оно одно, его тьма есть единственная тьма, его свет есть единственный свет, его слово – это изначальное понятие (Urbegriff), которое все разрешает. Нет ничего возвышенного на земле, чья возвышенность не сообщала бы нам предчувствия будущей свободы, первое вторжение «царства»; и даже сам мессия (Кол. 3: 4)[394], несущий абсолютное соответствие (Adquation), есть не что иное, как открытый (наконец) лик непрестанно длящейся, ближайшей глубины нашей (GU2, 246f.).
Наконец, вдохновенное визионерство Якоба Бёме, соединенное с алхимическим экспериментированием, оказало сильнейшее впечатление на Блоха с его позднейшими натурфилософскими спекуляциями. Бёме был еще одним в ряду христианских мистиков (и еретиков!), учредивших новое неортодоксальное мировоззрение и знаковых в эпоху интеллектуального становления Блоха (в частности, учение Бёме очень заинтересовало Бубера, не говоря уже о русских религиозных философах). Волевому импульсу, положенному Бёме в начало мира, соответствует в поздних работах Блоха утопическая энергия человеческого и природного бытия. Метафорика Бёме, с его метафизически замысленными, но при этом физически осязаемыми концептами света и тьмы, озарения, внутреннего зеркала, мучений, трепета и брожения материального бытия, его плотский язык, дуалистическая натурфилософия – все это естественным образом было встроено в философию утопии Блоха с самого начала.
Однако местами гностическое бунтарство раннего Блоха вступало в явное противоречие с учениями христианских мистиков. Радикализм гностиков, идеология «великого отказа» никак не сочетаются с неоплатонизмом и континуалистской метафизикой, а ненависть к природе – с натурфилософскими интересами того же Бёме. При очевидной близости позднего Блоха к традиции Бёме – Баадера – Шеллинга с их идеями становящейся природы, реализующей в том числе и мессианские возможности, некоторые ранние идейные настроения его очень далеки от этой мыслительной традиции.
Хотел ли Блох синтеза христианства и иудаизма? Писательница Анна Леснаи (Lesznai) в дневнике в 1912 г. отмечает, что близость Блоха к Талмуду граничит с католицизмом[395]. В ранней версии его философии – в так и не созданной «системе теоретического мессианизма» – он явно искал некий синтез[396]. Скорее всего, направляющим для него был пример Молитора, его стремление увидеть единую основу христианства и иудаизма в мистическом опыте и их слияние в эсхатологической перспективе.
Предварительные итоги: антиномии мессианизма
Противоречия, неотделимые от эсхатологии Блоха и в целом свойственные мессианскому мышлению, очевидны, однако их стоит еще раз артикулировать.
Радикализм и категоричность не очень вяжутся с идеей неопределенности и зыбкости утопического. Свое собственное пророчество ранний Блох мыслил как результат некоего духовного, художественного откровения, бескомпромиссного в своем самоутверждении. Но где же здесь гуманизм и принципиальная недосказанность в бытии человека и мира? Эти темы полнее проговариваются в поздних текстах, тогда как профетический тон в общем и целом отходит на второй план.
Утопическое чаяние нового мира есть созидание, немыслимое без тотального разрушения. Наше собственное политическое и этическое действие в истории кажется бессмысленным и бессильным по сравнению с трансцендентным вторжением утопического[397]. Эта проблема присутствует и в христианской, и в иудейской апокалиптике. В «Духе утопии» и особенно в книге о Мюнцере Блох явно склонялся к активистскому ее решению, впоследствии приписывая деятельное участие в приближении лучшего будущего не только вождям еретических сект, но и ветхозаветным пророкам (AC, 133).
Проблема мессианского действия и его встроенности в историю очень давняя. Молодой Гегель, например, в 1795 г. в письме к Шеллингу воспроизводил их общий пароль: «Да наступит царство Божие и да не останутся наши руки без дела»[398]. Об активном содействии человека избавлению писал и Бубер в «Трех речахоб иудаизме», оказавших воздействие на раннего Блоха.
Однако связь между действием человека и приближением мессианского избавления остается туманной, а значит, столь же туманными оказываются и нравственные ориентиры. И неслучайно анархические тенденции в иудейском мессианизме вступили в конфликт с миром Галахи, с законодательно упорядоченным миром еврейской жизни. В хасидизме предлагалась другая схема: индивидуальное искупление, зависящее от действий человека, отделялось от мессианского избавления, которое относилось ко всей общине и зависело только от Бога[399]. Близки таким идеям и христианские представления. Царствие Божие внутри нас, когда мы приобщаемся к вечности в церкви, общаясь с Богом в сокровенном пространстве души, но это не значит, что такое общение может иметь воздействие на историю – она движется своим путем и в какой-то момент – в предначертанное время – закончится.
Блох не готов описывать избавление как результат предзаданного, но неведомого нам божественного промысла, как не готов он и полностью перекладывать на человека ответственность за будущее спасение[400]. С одной стороны, он отказывается от концепции поступательного и закономерного исторического процесса, о котором все известно заранее, а с другой – помещает в центр этого процесса финальное событие спасения, подчиняет историю ожидаемому мгновению прихода мессии.
В контексте суждений о. С. Булгакова, утверждавшего, что в еврейской апокалиптике хилиазм (ожидание тысячелетнего царства в истории) и эсхатология (как трансцендентная по отношению к истории, находящаяся по ту сторону человеческих действий, устремлений, вне исторического времени) смешиваются, тогда как в христианстве они четко различаются, – Блох тоже оказывается в двусмысленном положении, восхваляя Иисуса, но встречаясь с парадоксом: если для христианина события реальной истории просто несоизмеримы с историей тайной, с историей спасения, то и событие спасения даже не может быть помещено в человеческую историю, должно быть вынесено за ее пределы – и в причинном смысле, и в плане временного свершения. Как точно заметил Г. Швеппенхойзер, «без истории дух не состоится, в истории он оставаться не может»[401].
Отсюда же и трудности в отношениях между мистикой и эсхатологией: для Блоха, особенно в поздний период, мистика в ее обычном виде неприемлема, и он скептически относится к восстановлению прежних форм мистической жизни (PH, 1540). Мистик помещает переживание целостности, единства в настоящее, добивается предельной интенсивности и в конце концов отмены времени, тогда как утопический философ, пророк «еще-не-бытия», обещает мессианское царство и конец времен лишь в будущем (TE, 185). Это напряжение транслируется в конфликт между созерцательностью и активизмом. Но едва ли не главное философское усилие Блоха как раз и состояло в том, чтобы существование из сейчас примирить (или столкнуть?) с существованием из завтра, абсолютное присутствие сделать абсолютным обещанием, показать, что они могут сомкнуться.
Как найти посредствующие звенья между внутренним преобразованием жизни, между обновлением души и переустройством мира? Как не впасть в субъективизм (для Блоха неприемлемый уже и в «Духе утопии») или сектантство[402]? Розенцвейг нашел решение, выдававшее в нем гегельянца. Он отказался как от концепции независимого от человека вторжения мессии в историю, так и от модели поступательного прогрессивного движения. Один человек не способен приблизить спасение, зато это может сделать народ, точнее – церковь, коллективное тело, члены которого соблюдают свои религиозные обычаи, чтут законы и живут сообразно собственному метаисторическому, символическому времени[403]. И поступь истории угадывается в этом ритуальном деянии. Мы видели, что к похожему решению пришел (во время своего увлечения Гегелем) и Лукач, отождествив мессию с коллективной общностью, связанной, правда, иными узами, но тоже единственно способной по-настоящему стяжать собственное будущее.
Если следовать Шолему, коренным отличием иудейского мессианизма от мессианизма христианского является то, что сама ситуация спасения, искупления у евреев не может быть тайной, апокалипсис – событие, разыгрывающееся на сцене социальной истории, в общине, тогда как христианские мыслители всегда говорили о спасении в недрах души, о внутренней чистоте духа посреди греховного и проклятого мира.
Еврейским авторам начала XX в., в том числе и Блоху, такая позиция казалась слабой и квиетистской. С другой стороны, не будь христианства, еврейский мессианизм не обрел бы такой масштабной исторической динамики.
Все эти противоречия – следствие не только формальнологической несуразности аффективного жеста (каковой, несомненно, предъявлен в философии Блоха), но и многочисленных исторических наслоений, пересечений разных традиций, порой – невыносимой эклектики[404] революционного гнозиса, внутри которого легко монтируются марксизм и мистика, религиозные упования и бунт против церковных авторитетов, жажда обретения истинного лика одинокой, обнаженной душой и видение утопического сообщества. Постоянно балансируя посреди этих – рационально едва ли разрешимых до конца – парадоксов, читатель Блоха видит, что, несмотря на них, утопическая философия возможна – как художественный и политический проект, как инспирированная еретической религиозностью жизненная практика.
Проблема мессианизма, вначале чисто религиозного, а потом в соединении с марксизмом, постоянно обсуждается в разных текстах Вальтера Беньямина, где многие проблемы, о которых говорилось в этой главе, получают неожиданное, важное, судьбоносное для философии ХХ в. решение. Пройти мимо соотнесения их с мессианизмом Блоха невозможно еще и потому, что и самих этих авторов трудно представить себе друг без друга. Многообразные и не всегда понятные ситуации взаимного влияния и полемики, притяжения и отталкивания должны не только иллюстрировать их интеллектуальные биографии, но и стать основанием для поиска новых стратегий и форм интерпретации мессианской философии.
IV. Блох и Беньямин: одностороннее движение
В критическом очерке «Всемирная выставка 1855 года» Шарля Бодлера есть слова, настолько значимые для нашей темы, что имеет смысл привести пространную цитату.
Существует одно ходячее заблуждение, которого я боюсь как огня. Я имею в виду теорию прогресса. Это изобретение нынешней ложной философии запатентовано без гарантии со стороны Природы или Божества, этот новомодный фонарь – лишь тусклый светильник, изливающий мрак на все области познания. С его приближением никнет свобода, возмездие исчезает, как дым. Тот, кто хочет осветить путь истории, должен прежде всего потушить этот коварный фонарь. Нелепая идея прогресса… сняла с нас бремя нравственного долга, избавила души от груза ответственности, освободила волю от всех уз, которые накладывало на нее стремление к совершенству. И если этому удручающему безумию суждено продлиться еще долго, оскудевшие народы, убаюканные мягкой подушкой фатализма, бездумно погрузятся в дремоту одряхления…
…Но где же, скажите на милость, гарантия общего прогресса на будущее? Ведь поборникам философии пара и фосфорных спичек прогресс представляется чем-то вроде бесконечно возрастающей прогрессии… Гарантия прогресса, утверждаю я, существует исключительно в вашем легковерии и самодовольстве.
…Постоянно отрицая свои собственные достижения, не обратится ли прогресс в некое непрерывно возобновляемое самоубийство? Замкнутая в огненном кольце божественной логики, способная порождать лишь вечное отчаяние, не уподобится ли эта вечная и ненасытная жажда скорпиону, жалящему самого себя смертноносным хвостом?
Что же касается творчества, то здесь идея прогресса… предстает перед нами во всей своей чудовищной абсурдности и несуразности. Тут уж ее ничем нельзя обосновать. Факты… смеются над подобным софизмом… В области поэзии и пластических искусств провозвестники нового обычно не имеют предшественников. Всякое цветение неожиданно и неповторимо. Можно ли утверждать, что Синьорелли породил Микеланджело? Что Перуджино уже содержал в себе Рафаэля? Художник исходит только из самого себя. Грядущим векам он завещает лишь свои творения… Он умирает, не оставляя потомства. Пока он жил, он был сам себе и государем, и духовником, и богом[405].
Вальтер Беньямин, который за последние 20–30 лет стал, пожалуй, одним из наиболее актуальных немецких философов ХХ в., в «Труде о пассажах» – последнем и незаконченном magnum opus – в значительной степени опирался именно на эту критическую позицию Бодлера и в этическом измерении (идея прогресса лишает нас способности свободно действовать, делает невозможным поступок), и в эстетическом (бессмысленность линейной, поступательной истории искусства – каждое произведение искусства заново учреждает историю), и в политическом (простая причинная зависимость между моментами истории лишает нас способности в ней ориентироваться).
Эстетика Блоха отличалась от эстетики Лукача тем же – вниманием к разрывам гомогенного художественного пространства, к уникальному и нетипичному, «неодновременному». Поэтому внутри марксистской эстетики Блоха можно признать союзником Беньямина. Тем не менее эта квалификация нуждается в уточнении, и на поверку история, которую мы хотим рассказать, оказывается существенно сложнее.
Эстетика авангарда в работах Беньямина сочеталась с интересом к теологии, а из удивительного соединения абсолютного отчаяния с жаждой нового мира – из вещества эпохи экспрессионизма – в его текстах родился трагический образ истории, населенной хрупкими тенями конечного человеческого бытия, образ, совершенно недоступный традиционной марксистской философии. Глубокое неприятие буржуазной культуры, культуры модерна, которая у Блоха и Лукача представала как порождение «эпохи абсолютной греховности», Беньямин переживал – и блистательно описывал – как состояние меланхолии. Социальная критика, вариации на марксистские темы, серьезный анализ массовой культуры – все эти отличительные черты философии Блоха легко отыскать и в текстах Беньямина – его современника и собеседника. И эти же черты делали Беньямина провидцем нашего сегодняшнего мира – разноцветного, массового, путающегося во все новых медийных возможностях.
Блох вспоминает о Беньямине то, что близко ему самому. Он говорит о расшифровке незаметного, как в детективном романе (оба они восхищались этим жанром[406]), о монтажной технике (при которой близкое размыкается, отдаляется, а то, что в обыденной жизни отстоит далеко друг от друга, наоборот, отождествляется), о внимании к чужеродным, кажущимся бессмысленными вещам и событиям. У них с Беньямином было много и общих содержательных мотивов, например, картины детства. Блоха всегда удивляло, сколь наглядным и выразительным было восприятие Беньямина, мыслившего весь мир как зашифрованный текст (хотя он не упоминает, скажем, об увлечении Беньямина графологией, а оно было, как и интерес, например, к древним алхимическим традициям и старым книгам).
Еще одной общей их темой были коллективные аффекты, которые поздний Беньямин пытался истолковать, искренне полагаясь на действенность марксистского инструментария (его книгу о пассажах, как точно заметил И. Вольфарт, можно было бы назвать «История и коллективное бессознание»[407]), а Блох интегрировал в свою теорию «дневных грёз» (Tagtrume), которыми живет не только один человек, но и целые социальные группы, воплощающие (например в архитектуре) свои мечты, фантазии о лучшей жизни. У Беньямина сонное XIX столетие пребывает в окружении вещей, в которых, как в грезах, отражаются условия жизни общественных классов. Им надо проснуться, и разбудить их должен историк, вдохновленный мессианской идеей. Образ эпохи, которая спит, мечтает, ждет чего-то или в чем-то разочаровывается, – это излюбленная фигура мысли у Блоха и Беньямина. И хотя Блох не акцентирует столь настойчиво момент пробуждения, этот стиль для него тоже оказался формообразующим.
В некоем негласном «соревновании» с Беньямином Блох пишет несколько текстов, один из них – «Молчание и зеркало» – даже начинается с разговора о друге (имеется в виду как раз Беньямин), который «видит всех очень отчетливо, себя несколько меньше». Словно передавая их разговор, Блох предлагает своему другу охарактеризовать обитателя собственной комнаты по методу Шерлока Холмса, имея лишь несколько его вещей. Дрожащие губы собеседника в ответ на это предложение заставляют автора «Следов» вспомнить историю из Геродота[408]. Речь в ней идет о фараоне Псаммените, который, попав в плен, встречает на своем пути сначала дочь, тоже ставшую рабыней, которую он провожает молчанием, затем сына – его волокут на смерть, и это также оставило фараона невозмутимым. Наконец, когда фараон увидел человека из своей свиты, ставшего нищим, он стал горько оплакивать свою утрату. Почему фараон заплакал, лишь увидев своего слугу? – вот вопрос, который задает Блох. Может быть, слуга был последней каплей, переполнившей чашу страданий этого мужественного человека? (такова, кстати, интерпретация Монтеня). Но это слишком очевидный ответ, чтобы быть правдоподобным, тем более что мы имеем дело с великим фараоном, а не с обычным человеком. А если фараон был слишком горделив, чтобы заплакать сразу, что если его гордыня лишила его непосредственности, отучила сразу же демонстрировать свои чувства и он сумел оплакать своих детей лишь с опозданием? И такое объяснение маловероятно, поскольку построено на исторически ограниченном чувстве, а появление слуги превращает просто в ружье, которое должно выстрелить. Блох предлагает увидеть здесь способ прояснить тьму настоящего, встретиться с самим собой. Самое далекое, будничное, неприметное, отодвинутое на задворки нашего ценностного мира, едва маячившее на горизонте вдруг становится зеркалом, в котором мы узнаем безжалостную правду о себе, благодаря которому тьма рассеивается и приходит окончательная ясность (S, 108ff.)[409]. Эта непритязательная история в устах Блоха Беньямина может многому научить, в особенности в их исторической ситуации, которая, надо полагать, ближе к нам, чем времена Геродота и Монтеня.
Следы биографий
Блох познакомился с Беньямином, по свидетельству Шолема, весной 1919 г.[410] в Швейцарии, в Берне. Беньямин приехал туда завершать образование и написал там свою первую диссертацию. Их свел Хуго Балл, известный в свое время антивоенный публицист, поэт и писатель, один из основателей дадаизма. Балл и Блох, живший неподалеку, в Интерлакене (Балл познакомился с ним сразу же по приезде своем в Берн в 1917 г.), работали в «Свободной газете». Все ее авторы исповедовали антипрусские и антимилитаристские взгляды. Атмосфера эпохи была весьма политизированной, и хотя в тот момент Беньямин всячески сторонился политики, новые друзья сподвигли его на чтение Жоржа Сореля (одним из результатов знакомства стала статья Беньямина «К критике насилия»). Балл в это время публикует книгу «Критика немецких интеллектуалов», в которой, как и в своих газетных статьях, проповедует религиозный анархизм в духе Томаса Мюнцера и провозглашает необходимость нравственного обновления[411], а пророками освобождения делает тех самых интеллектуалов.
В середине сентября 1919 г. в письме Шолему Беньямин говорит, что читает «Дух утопии» и что выскажет своему новому знакомому все то, что, с его точки зрения, похвально в этой книге. «Увы, отнюдь не со всем можно согласиться, порой я даже читаю с нетерпением. Он сам, конечно, давно уже перерос свою книгу»[412]. Через несколько дней в письме своему однокласснику, музыканту и литератору Э. Шёну, Беньямин пишет о Блохе как о единственной значительной личности из всех, кого он встретил в Швейцарии[413]. Характеризуя «Дух утопии», он замечает:
Серьезнейшие недостатки очевидны. Однако я обязан этой книге весьма существенными мыслями, и вдесятеро лучше книги – ее автор… Это единственная книга, на которую я могу равняться как на истинно одновременное мне и современное высказывание. И вот почему: автор в одиночку и как философ отвечает за себя, в то время как все, что мы сегодня читаем из современной нам философской мысли, примыкает к чему-то, смешивается с чем-то, опирается на что-то, и понять его в точке собственной ответственности невозможно[414].
В ноябре он пишет Шолему о том, что уже снабдил книгу глоссами, необходимыми для планировавшейся рецензии[415]. Характеризуя «подробную» рецензию, которую он писал и в январе 1920 г. (всего он работал над ней 3 месяца, что, по его признанию, было невероятно долгим сроком[416]), он в письме к Шолему отмечает, что в ней все «прекрасное и превосходное» в книге «будет говорить само за себя, но конститутивные ошибки и слабости будут диагностированы на совершенно эзотерическом языке; в целом форма будет академическая, ибо только так книге можно воздать должное». Поскольку при этом Беньямин, по его словам, должен был бы свести счеты и с экспрессионизмом, он специально прочел «О духовном в искусстве» Кандинского[417]. Говоря о «Духе утопии» в февральском письме Шёну, Беньямин отмечает, что тот попросил его написать рецензию, и он согласился, ибо чувствует к Блоху приязнь. Несколько центральных тезисов в «Духе утопии» соответствуют его (Беньямина) собственным убеждениям, хотя в целом понимание философии остается у него диаметрально (!) противоположным. Книга проникнута волей к выражению, и решающим для Блоха, по мнению Беньямина, должно стать то, удастся ли ему выразить то новое, в чем он перерос свой труд[418].
В феврале Шолем пишет Беньямину письмо с критикой «Духа утопии». Особое внимание он обращает на понятие «киддуш хашем», о котором Блох пишет:
Отец и сын, или Логос и Дух святой – суть лишь знак и направление, в котором движется это великое, главное слово, что высвобождает первоначало, киддуш хашем, освящение имени Божьего, самое сокровенное verbum mirificum абсолютного познания (GU1, 381)[419].
Шолем критиковал христологию Блоха (речь шла, по-видимому, о том, что Христос всегда присутствовал как некая возможность в жизни и истории еврейского народа и что евреи рано или поздно обратятся к христианству как воплощению мессианского духа), вольное обращение с источниками, постоянное отождествление и разтождествление Блоха с иудаизмом (это, кстати говоря, видно и по рукописным пометкам в принадлежавших Шолему экземплярах разных изданий «Духа утопии»[420]). Но главным раздражающим фактором для Шолема (а через него – и для Беньямина) была зависимость Блоха от Бубера[421].
Отношения между Шолемом и Бубером были непростыми, и поэтому такая резкая реакция вполне объяснима. Акт освящения имени, взаимопроникновение божественного и человеческого в некоем динамическом историческом свершении, зависимость судьбы Бога и мира от нашего действия – все это стало темой ранних буберовских текстов и, безусловно, привлекало Блоха. Шолем же упрекает Блоха в филологической некорректности, исток которой – в чтении Бубера, «стигматами» которого отмечен весь текст[422]. Шолем не может принять мысли о том, что тело Христово – это субстанция истории[423]. Он опасается, что философско-исторические извращения Блоха проникнуты «чудовищной, механической законосообразностью… Мир Блоха, конечно, не перевернут с ног на голову, но есть признаки того, что это иллюзорный мир, притом иллюзорность его из тех, что лишь на дифференциал отстоят от действительности»[424].
Беньямин написал Шолему в ответ, что ему нечего добавить к сказанному – он полностью согласен. Помимо совершенно «недостойной обсуждения» христологии у книги Блоха есть еще один недостаток – в ней нет приемлемой теории познания. Об этом, как пишет Беньямин, он говорит в последних строчках своей рецензии, которые он в письме не сообщает, поскольку послал ее Шолему целиком. Однако, отвергая теоретико-познавательные основы книги, Беньямин «опровергает ее en bloc», всецело. Еще раз подчеркивая, что сама рецензия содержит комплиментарное изложение удачных ходов мысли, что такое изложение вполне возможно исходя из объективных достоинств книги, он повторяет, что с его собственным философским мышлением книга Блоха не имеет ничего общего. И все же, вспоминая свое дружеское общение с Блохом в Интерлакене, Беньямин приносит в жертву свою рецензию на скороспелую, поспешную книгу Блоха – в жертву своей надежде на него[425].
О какой теории познания говорит Беньямин? Что он мог в те годы противопоставить Блоху? Сегодня нам уже известно, что в начале 1920-х годов теорией познания для Беньямина была метафизика, развитая в работах «О программе грядущей философии», «О языке вообще и о языке человека» и затем в «Эпистемологическом предисловии» к книге о барочной драме. Первые две работы были написаны еще в 1916 г., и из них видно, что мысль Беньямина была Блоху неведома, ибо Беньямин задавал вопросы, на которые в «Духе утопии» не было четких ответов. Поэтому утраченная рецензия Беньямина могла бы стать одним из самых интересных документов в истории философии 1920-х годов. Нам же остается, если отвлекаться от исторических спекуляций, лишь анализировать и сопоставлять следствия, выраставшие из разных метафизических оснований.
В декабре Беньямин в письме Шолему упоминает среди своих прозаических опытов «Фантазию по мотивам одного места из “Духа утопии”»[426], однако после этого Блох упоминается в переписке все реже и по частным поводам. Они с Беньямином встречаются и общаются на Капри, где дешевле жизнь и где они имеют возможность спокойно работать, временами пробуя легкие наркотики (Беньямин составил протоколы этих опытов[427]), много общаются в Париже в 1926 г.[428]
В конце 1920-х годов Блох явно подпадает под влияние Беньямина: его работы «Иероглифы XIX столетия» и «Спасение Вагнера в сюрреалистическом репортаже» – безусловно, продукт общения с Беньямином, который тогда открывал для философии авангардное искусство. Отношение Блоха к сюрреализму (осознание революционного потенциала этого искусства), равно как и его видение XX столетия – через детали интерьеров, через мелочи стиля, в которых нужно уметь увидеть всю соль общественной жизни и все возможности социального протеста, – безусловно, инспирированы текстами Беньямина и общением с ним. Именно после этого Блох стал проблематизировать коллективное бессознательное буржуазии – разумеется, с учетом соответствующей критики Юнга, который для него был слишком «правым».
Их отношения испортились после того, как Беньямин начал подозревать Блоха в плагиате[429]. О полемике вокруг книги «Улица с односторонним движением» будет сказано ниже. Первая версия рецензии, написанной Блохом, была критической, но затем после дискуссий с Беньямином[430] он существенно смягчил свою позицию, и если в первой версии текста даже соотносил городские картины Беньямина с критикуемым им движением «новой деловитости», в которой культ статичной предметности превращается в апологию status quo, то затем, включив текст рецензии в книгу «Наследие нашей эпохи», он совершенно иначе расставил акценты и отдельно сообщил об этом Беньямину в письме (Briefe. Bd. 2. S. 658)[431].
Несмотря на размолвки, неизбежные для столь чувствительных натур, Беньямин и Блох, как показывает переписка 1930-х годов[432], не переставали общаться и интересовались судьбами друг друга до конца.
Меня часто спрашивают о том, какие темы мы чаще всего обсуждали в наших разговорах… Поскольку у нас с ним была общая склонность уделять внимание мелочам, деталям, столь часто незамеченным… в силу этого общего интереса к подробностям, из которых могли следовать важнейшие выводы, мы разговаривали, выражаясь в стиле XVIII столетия, de omnibus rebus et de quibusdam aliis[433].
Блох, многое наследующий у Зиммеля (которого, как и Беньямина, он называл сюрреалистом), хвалит в Беньямине его стремление как внимательного читателя к «микрофилологическому» анализу, который позволяет дать несущественному метафизическую интерпретацию, дабы оно, не вписываясь в контекст, вторглось в него.
Мессианизм и история
Смертельными ночами недавней войны ощущение, походившее на упоенное счастье эпилептика, потрясло все устои человечества… Могущество пролетариата – мерило его выздоровления. И если дисциплина не проберет его до костей, то никакие пацифистские рассуждения его не спасут. Живое может преодолеть восторг уничтожения лишь в чаду зачатия.
GS IV S. 148.
Проблема мессианизма – вот, по-видимому, наиболее интересная философская тропа, на которой Блох и Беньямин неизбежно должны были встретиться. Выше уже упоминалась ключевая философско-историческая дилемма мессианизма: каков масштаб человеческого участия в мессианском избавлении, могут ли люди творить свою историю – не только посюстороннюю, но и радикально иную, могут ли они способствовать упразднению истории как таковой? Или мессия сам, независимо от их действий, спасает мир, завершает его и учреждает новое царство по ту сторону времени? Можем ли мы уже сейчас стать свидетелями царства мессии, жить с ним рядом (а именно об этом, по свидетельству Шолема, говорил ему Беньямин[434]) – или же нам надо только ждать, не пытаясь готовить его приход?
Беньямин, безусловно, задумывался над этими вопросами. Об этом, в частности, свидетельствует небольшой текст, написанный в 1921 г. и известный как «Теолого-политический фрагмент». Позволю себе привести текст полностью в собственном переводе[435].
Лишь сам мессия завершает всякую историческую событийность, в том смысле, что лишь он спасает, завершает, сотворяет ее отношение к мессианскому. Потому ничто историческое не может само по себе из себя относиться к мессианскому. Потому Царство Божие не есть конечная цель (Telos) исторических сил (Dynamis)[436]; его нельзя сделать целью. С исторической точки зрения оно не цель, а конец[437]. Потому порядок мирского и нельзя воздвигнуть на идее Царства Божия, потому у теократии и нет политического смысла, а только религиозный. Категорический отказ признавать политическую значимость теократии – вот величайшая заслуга «Духа утопии» Блоха.
Порядок мирского должен выстроиться на идее счастья. Отношение этого порядка к мессианскому – один из самых поучительных моментов в философии истории: на нем основано мистическое понимание истории, проблему которого можно представить в образе. Если одна стрела указывает на цель, в направлении которой действует сила мирского, другая же – в направлении мессианского усилия, то свободное человечество в поисках счастья, конечно же, устремляется прочь от этого мессианского направления, но подобно тому как сила на своем пути может поспособствовать силе, чей путь направлен в противоположную сторону, так и мирской порядок мирского – пришествию мессианского царства[438]. Следовательно, хотя мирское – это не категория царства, но категория, причем одна из наиболее подходящих, незаметнейшего его приближения. Ибо в счастье все земное чает свою гибель, лишь в счастье предначертано ему эту гибель обрести. Хотя, конечно, непосредственное мессианское усилие сердца, отдельного внутреннего человека, проходит сквозь несчастье, сквозь страдание. Духовному restitutio in integrum, которое приводит к бессмертию, соответствует мирское, ведущее к вечной гибели, и ритм этого вечно преходящего, в своей тотальности преходящего, в своей пространственной, да и временной тотальности преходящего мирского, ритм мессианской природы – и есть счастье. Ибо мессианской может быть природа только в вечной своей и тотальной преходящести.
Стремиться к ней, даже на тех стадиях человека, которые суть природа, – есть задача мировой политики, метод которой должен зваться нигилизмом (GS II. S. 203f.).
Центральная мысль Беньямина – в том, что только мессианская идея придает смысл истории, без нее не достичь понимания исторической событийности, исторического свершения. Но само это свершение с приходом мессии заканчивается, как заканчиваются и все привычные в посюстороннем мире оппозиции. Без вторжения мессии, как без Августиновой благодати (сколь бы странной ни была такая теологическая параллель), бессмысленна любая политическая активность. Мессия кладет конец миру, живущему в ожидании.
Беньямин провозглашает абсолютное разделение порядка мирского, профанного, и мессианского, потустороннего порядка, вынесенного за пределы истории, но вместе с тем завершающего ее. В этом он держится вполне традиционной религиозной логики: событие апокалипсиса происходит вне времени (Откр. 10: 6), и утверждать, что он произойдет до или после, строго говоря, неверно. Мы можем рассуждать о событиях апокалипсиса лишь образно, символически. Понятийной фиксации мессианского события нет и не может быть. Сводя пришествие мессии к имманентной логике развертывания истории, мы превращаем его всего лишь в один из актов этой истории, что противоречит самому смыслу его появления. Упразднение временной власти тогда само оказывается временным, и вместо духовной революции нам достается очередной пшик, политический переворот. Божественное насилие в нашем посюстороннем мире может быть только уничтожением, и лишь в будущем мире оно может действовать иначе (GS VI. S. 99). Впоследствии пришествие мессии, спасение будет пониматься у Беньямина не просто как упразднение времени, а как предельная его интенсивность, насыщенность, некая полнота времен.
Главный антипод мессианского мировоззрения Беньямина – детерминистская картина исторического прогресса, он требует революционного вторжения в историю. Но если Маркс говорил, что революции – это локомотивы всемирной истории, то у Беньямина во время революции человеческий род, который едет в этом поезде, отчаянно хватается за стоп-кран (GS I, 3. S. 1232), то есть революция – это попытка, иногда удачная, но часто безуспешная, приостановить маховик истории, затормозить его движение.
Мессианское царство – не цель истории, а конец ее. Как и Блох, Беньямин не приемлет линейного, телеологического видения истории, не принимает тезиса о том, что история сама из себя «автоматически» порождает спасение, – наоборот, она всегда промахивается. Такой радикальный разрыв с идеей прогресса, равно как и с религиозной философией истории, ставящей в ее конце мессианское царство, дает возможность говорить даже о «атеологичности» беньяминовского фрагмента постольку, поскольку религия предполагает мессианскую телеологию[439]. Другое дело, что понятия, употребляемые Беньямином, в частности, важное понятие вспоминания (Eingedenken) как деятельности историка, имели для самого Беньямина безусловно теологический смысл (GS V, 1. S. 588f.), причем не без воздействия Блоха[440].
Беньямин не отказался от критики линейного и каузального видения исторического процесса и в тезисах «О понятии истории», где призывает возвыситься над этой непрерывной чередой событий, постичь их специфическую констелляцию, некое напряжение исторического времени, возникающее, когда человечеству – и в прошлом его, и в будущем – грозит опасность.
Ссылка на «Дух утопии» во «Фрагменте» многих озадачивала. Кто-то считал, что речь идет о завуалированной – с помощью Блоха – критике сионизма[441]. Сионизм, идея теократического еврейского государства, вокруг которой должна выстраиваться философия истории, в «Духе утопии», как мы видели выше, критиковалась. Именно поэтому Я. Таубес, например, считал, что Блох и Беньямин – маркиониты, а не приверженцы еврейского мессианизма[442], и что «Теолого-политический фрагмент» на самом деле посвящен критике еврейской политической теологии, критике в духе Маркиона[443]. Ведь еврейский мессианизм, как показал Шолем, «публичен», происходит в пространстве коллективной идентичности, а значит – имеет политический смысл, Беньямин же в «Теолого-политическом фрагменте» говорит о том, что подлинному мессианизму политический смысл теократии чужд. Вместе с тем Таубес критикует дихотомию Шолема, указывая на то, что внутри христианства функция общины и некоего публичного действия не менее важна, чем в иудаизме, – достаточно вспомнить пиетизм[444]. Таубес, таким образом, сводит проблему мессианизма не к напряжению между иудаизмом и христианством (где первый будет условно «политической», а второе – «духовной» религией), а к внутреннему конфликту среди евреев, к конфликту между традиционализмом и зелотизмом – революционным движением внутри иудаизма. Апостола Павла и Маркиона он тоже объявляет зелотами. И поздний Блох, действительно, так и трактует теологию Маркиона – как бунт против традиции, отказ от всякого исторического опосредования между старым и новым царством (AC, 241f.).
Конечно, прямолинейное и схематичное противопоставление иудаизма и христианства у Шолема нельзя счесть всецело удовлетворительным. Оно должно быть одной из условных схем, которые легко критиковать. Вместе с тем и идею Таубеса о том, что Беньямин не был еврейским мыслителем, можно поставить под вопрос.
Например, А. Дойбер-Манковски утверждает, что Таубес не до конца понял смысл различения, которое вводит Шолем. Речь идет о том, что дихотомия сложнее – «внешнее», публичное избавление, спасение обретает дополнительную весомость в отношении к внеисторическому, трансцендентному, тогда как внутреннее, чисто индивидуальное начало привязано к мирской истории и потому его легитимность сомнительна[445]. Приватные эсхатологические измышления могут оказаться произвольными, а человек, считающий себя мессией, вполне может ошибаться именно из-за того, что доверяет только себе. Беньямин в интерпретации Дойбер-Манковски остается сугубо еврейским мыслителем, унаследовавшим у Когена запрет на идолопоклонство – на то, чтобы провозглашать стремление человека стать богом, и на смешение знания и веры. Именно так она трактует место из письма Беньямина к Шолему, где тот описывает содержание своей неопубликованной рецензии на «Дух утопии» и говорит о критике книги с эпистемологических позиций. Интересно, что Коген это некритическое (мы бы сказали – диалектическое), неаккуратное «смешение» человека и Бога связывает с христианством, настаивая на том, что лишь иудаизм сохранил в чистоте радикальное разделение между ними. «Неудовлетворительная» теория познания связана с чрезмерным расширением возможностей знания у Блоха[446] – возможностей, которые, по Беньямину, способен дать лишь мессия – конечная и абсолютная инстанция истины[447]. Беньямин в такой трактовке оказывается не только критиком блоховской христологии (воспринявшей идеи Бубера), но и противником гностицизма, идеи спасения через знание. Критика политического значения теократии у Беньямина интерпретируется как критика опосредования, стремление четко размежевать сферы – божественную и человеческую, религии и разума, логики и этики, не допустить секуляризации религиозных смыслов и порождения мессианского из историчной субъективности[448]. Схожим образом трактует различие взглядов Блоха и Беньямина Ричард Волин, правда, уже в эстетической плоскости. И Блох и Беньямин, как он полагает, приписывают произведениям искусства особую способность преодолевать некую историческую ограниченность, даруя особый опыт причастности к утопическому, спасенному бытию. Однако Беньямин не готов постулировать непосредственную онтологическую связь между искусством и утопическим концом времен[449].
Впрочем, такой анализ сталкивается с несколькими очевидными ограничениями. С одной стороны, в христианстве безусловно были заложены возможности секуляризации, которые неоднократно использовались (об этом говорится, в частности, и у позднего Блоха). И исторически Блох в самом деле мог быть воспринят Шолемом и Беньямином как автор, отказывающийся четко разводить христианство и иудаизм. Но одно дело – те или иные секулярные версии христианской идеи, другое дело – христианство Евангелий, в которых помимо прочего ясно сказано: «Царствие мое не от мира сего» (Иоан. 18: 36). Теократический анархизм Беньмина отнюдь не противоречит такому христианству[450]. С другой стороны, не очень понятно, о каком иудаизме мы говорим, ибо «иудейская» философия может быть и «кантианской» (Коген), и – условно – «гегельянской» (как например, в лурианской каббале). Или мы дискриминируем направления иудейской мысли, отказывая каким-то из них в праве называться философией?
Кроме того, у Дойбер-Манковски получается, что Блох – апологет прогрессизма, телеологической философии истории, подминающей под себя прошлые, «неудавшиеся» поколения, а одобрительное упоминание «Духа утопии» во «Фрагменте» – лишь выражение надежды, которую Беньямин, судя по переписке, питал по отношению к личности и идеям Блоха, но не к его книге.
Однако вряд ли стоит рифмовать диалектическое опосредование мира и человека с неумолимым детерминизмом исторического процесса, эти вещи отнюдь не всегда предполагают друг друга. Блох не принимал ни абсолютной, неукоснительной закономерности в истории, ни полного скептицизма по поводу возможности познания таких законов[451]. Собственно, мессианизм Блоха во многом связан именно с тем, что в «Духе утопии» явно присутствуют мотивы неопосредуемой, нерационализируемой исторической динамики – той самой, что в «Теологополитическом фрагменте» связывается с приходом мессии. Не зря ранний Блох говорит, что и благо (как высшая ценность в этической иерархии), и музыка (главнейшее из искусств, вершина революционной эстетики), и метафизика свидетельствуют об утопии, которую в земном мире реализовать нельзя (GU2, 201). Именно поэтому впоследствии, критикуя, например, теологию Рудольфа Отто и Карла Барта за радикальное отделение человека от Бога, Блох бессознательно критикует и свой собственный юношеский радикализм, свое собственное гностическое презрение к дольнему миру (AC, 72–80).
Не забудем и о двусмысленности всякого кантианства, которое в то время воспринималось порой как трагический разрыв, утрата синтетического начала. История становилась помостом, на котором зловеще возвышалась «гильотина Юма», – отсечение бытия от долженствования становилось казнью смысла. Именно такая критика кантианства присутствует, как было показано выше, в «Истории и классовом сознании». Ее же Блоху приписывает и Адорно, причем, что интересно, говоря о совпадении этих представлений (согласно которым кантианское отделение сознания от вещи в себе оказывается свойством мира капиталистического овеществления) у Блоха и Беньямина![452]
Наконец, есть и еще один важный момент. Радикальное разграничение религиозного (теологического, мессианского) начала и политики у Беньямина мало чем отличается от их полного отождествления – это две стороны одного и того же процесса. Как иначе можно понять ту мистическую связь профанного и мессианского, которая ведет политическую событийность нашего мира в сторону Царства?
Что же касается телеологии у Блоха, то это не была телеология «сверху», подчиненная некоему априорному, высшему, заведомо истинному принципу; скорее, это телеология «снизу», не следующая заранее заданным законам, а изнутри себя порождающая их[453]. И если уж мыслить ее по модели живого, то населяют этот мир существа, чья генетическая программа не задана раз и навсегда, существа, живущие в соответствии с постоянно меняющимися закономерностями. И мы можем лишь проникнуться ритмом этого движения, попасть внутрь его, не претендуя на то, что когда-нибудь откроем раз и навсегда все потайные двери мироздания.
Философия Блоха не есть телеология в смысле заданной цели. Однако это, во-первых, философия деятельности (поэтому марксистский праксис и оказался главной темой его поздних работ), во-вторых, философия незавершенного мира и, что особенно близко Беньямину, в раннем варианте это – апокалиптическая философия[454]. Да, здесь и сейчас государству поклоняться нельзя, и теократический принцип не может быть положен в основу политики. Но деятельность человека в истории, которая у Беньямина в «Теолого-политическом фрагменте» остается революционной меланхолией и нигилизмом, а в тезисах «О понятии истории» направлена на спасение прошлого, у Блоха дополняется действием, которое не может не быть опосредованным, в котором объединяются ради будущего разные элементы истории и где освобождение отвоевывается нами самими. Остановка времени и разрыв исторического континуума – необходимые, но недостаточные моменты такого активистского видения истории[455], неукоснительно тяготеющего к марксизму в духе «Истории и классового сознания». Неслучайно, как уже говорилось, Блох подчеркивает в своей рецензии на этот труд Лукача именно момент решения, столь значимый для той эпохи, когда, например, в политической философии разрабатывалось понятие «чрезвычайное положение»[456]. Это деятельное начало положено в основу утопической диалектики, в которой преододеваются и вечная бесформенная изменчивость в духе Бергсона (GU2, 258f.), и формальная предзаданность платонизма[457].
В контексте политических идей «Духа утопии» ссылку в тексте Беньямина можно трактовать как развитие некоторых принципиальных идей Блоха. Многочисленные инвективы против государственной машины в «Духе утопии» – поиск той самой новой социальной организации, в которой прежним представлениям о государстве не будет места. «Дух утопии» всецело проникнут анархическим мироощущением. Блох, как и Бубер, в теократии видит не очередную авторитарную инстанцию, а отказ от традиционных политических форм и властных отношений в эпоху, когда «кому не живот, тому стало Богом государство, все остальное низведено до уровня удовольствий и развлечений» (GU1, 9). В другом месте сказано:
Именно потому, что государство стало самостоятельным и самостоятельность его переросла в самоцель, оно, в своих позитивных требованиях бездумнейшим образом эксплуатируя силу народа, превратило некогда либеральную идею государственной буржуазии в чудовищное рабство и подчинение абстрактной автономии государственной власти (GU1, 401, см. также 410).
На место государства должна прийти незримая церковь – духовное братство избранных, которое и станет новым царством утопии, тем самым «третьим царством», которого давно уже ждет погрязшее в политических конфликтах, уставшее от тирании человечество.
С точки зрения Норберта Больца, во 2-м издании «Духа утопии» Блох ближе к позиции Беньямина, нежели в 1-м, где говорится, что «в тайне царства земная организация обретает свою непосредственно действенную, непосредственно выводимую метафизику» (GU1, 411)[458]. Но земная организация Блоха не очень беспокоит – в первую очередь потому, что до прихода новых времен политика соединена с устроением материальной жизни, с обеспечением самых простых, «низких» потребностей, тогда как в мессианском царстве она будет от этой задачи (той самой «организации земли») отделена и тем самым возвышена.
Все самое «интересное» в политической жизни, а именно поиски смысла, станет основой нового царства. Поэтому то, как будут связаны профанное (в этом смысле) и мессианское, будут ли они двигаться в противоположных направлениях, так что профанное тайком способствует приходу мессии, или же материальное производство будет служить строительным материалом нового мира – уже не так важно.
Фигура Канта в том или ином виде всегда присутствует в размышлениях Блоха, и прежде всего в философско-историческом контексте, поэтому его отношение к Канту для нашей темы имеет кардинальное значение.
Уже в «Духе утопии», а затем и в «Принципе надежды» Блох соотносит Кантову вещь саму по себе с «еще-не-бытием», не принимая – вполне в согласии с неокантианством – идею жесткой границы между феноменальным и ноуменальным. Пытаясь найти основание познавательного акта, Блох отказывается помещать это основание только в субъекта или только в непознаваемую вещь саму по себе. Он пишет: «Вопрос о бытии не разрешен не только для нас, но и для самого себя» (EM, 74)[459]. В основу познания Блох помещает не трансцендентального субъекта с его априорными формами чувственности и рассудочными категориями, а некую интенсивность, волю, напряжение, гештальт, находя его и в объекте, и в субъекте. Речь идет и о «символической интенции» сознания, реализующейся в произведениях и в опыте искусства[460], – это направленность сознания на нечто целостное и вместе с тем сама эта цель, просвечивающая сквозь художественные формы.
Но не теория познания, а этика Канта оказалась для утопической философии действительно актуальной. Блоха завораживают регулятивные идеи разума, «граничные понятия, которые можно лишь желать или мыслить, но не познавать» (GU2, 222). Априорная значимость моральных постулатов, отделяющая мир познаваемый от мира этического, есть способ выхватить из тьмы, высветить, увидеть, пусть на миг, свой «умопостигаемый характер», а вместе с ним – и утопию «высшего блага». Мир благодаря этому сияет надеждой, а действие становится свободным, направленным к «царству Божию, управляемому этическими законами» (SO, 497). Кант у Блоха как бы указывает на совершенно иной мир, не соглашаясь примирять субъекта с миром посюсторонним, как это делает Гегель. Обосновать научно-этическое действие нельзя, ранний Блох в целом не приемлет рациональных гегелевских опосредований, но можно придать ему ту самую априорную, безусловную значимость. Постулаты не даны, а заданы, и эта заданность, эта бесконечная задача, ведет субъекта практического действия в кантовский идеальный мир – царство «высших и… более продуктивных интеллигенций» (GU2, 223). Поверх обычных каузальных связей на нас действует «идея безусловного», исток «морально-мистической»[461]устремленности внутрь себя, поверх феноменального мира.
Эта настроенность составляет одно из оснований метафизики субъективности в «Духе утопии». А в «Следах» Блох ссылается на лекции Канта по психологии, где тот сравнивает моральное чувство с органами еще не родившегося младенца. Они понадобятся ему в другом мире, так же как и нам – наши не проявившиеся еще способности (S, 133). Мир моральности аффицирует субъекта, и из этой аффективной связи рождается, по Блоху, моральное действие. Фактически Блох возвращается к эмоциональным, качественно определенным, а не формальным основам морали, а постулатам явно или неявно приписывает не только регулятивные, но и конститутивные функции[462]. Он показывает, что в мире моральных категорий наше действие удивительно продуктивно: мышление о них становится проводником и их бытия (GU1, 259).
Очевидность моральных законов – источник блоховского «воинствующего оптимизма»: это не оптимизм рациональной уверенности, а оптимизм морально-мистической явленности утопии, заставляющей действовать так, как если бы она (утопия) смогла реализоваться. Моральное «как если бы» становится у Блоха теологическим «еще-не» (GU2, 224), а его лирический герой становится похож на зиммелевского «искателя приключений», который делает
ставку на колеблющийся шанс, на судьбу и неопределенность… стави[т] все на карту, руши[т] мосты за… спиной, вступае[т] в туман, исходя из уверенности, что путь при всех обстоятельствах должен привести… к цели… Конечно, и для него (искателя приключений. – И. Б.) темный покров судьбы не более прозрачен, чем для других, но он действует так, будто для него он прозрачен[463].
На Блоха явно повлияла и Кантова утопия всемирно-гражданского состояния. В работе «Идея всеобщей истории…» Кант пишет и о хилиазме, и о возможности его приближения. Впрочем, однозначной позиции по вопросу о реализируемости этого состояния у Канта не было, и он постоянно ссылается на недостаточность наших знаний, на то, что мы лишь в начале пути – и к вечному миру, и к всемирно-гражданскому состоянию. Что же остается Блоху? Остается сам пафос необходимости движения к этому хилиазму, безусловности морального долга, притом что от идеи первоначального замысла природы, развертыванию которого подчинена история, Блох отказывается. Субъект у него находится и внутри истории, и вне ее, равно как и коллектив, который, как «вневременной инвентарь долженствования» (GU2, 296), переходит границы своего социально-исторического бытия. Кантовы идеи чувственного сообщества, интерсубъективных суждений вкуса, единства этики и эстетики как средства будущей эмансипации тоже оказали определенное воздействие на Блоха[464]. В конце концов, его посюсторонний пафос, подчеркивание здешней, изнутри мира действующей утопической воли – все это инспирировано не только Ницше, который был для молодого Блоха сокрушителем «холодного» интеллектуализма и рационализма, но и кантианством.
Однако Блох не приемлет идеи бесконечного приближения, которая есть и у Канта, и у Когена, – она не дает осуществиться тому новому, предпосылки для которого закладываются в том числе и самим человеком, действующим в истории. Блох здесь во многом следует критике кантовской этики в «Феноменологии духа»:
[З]авершение… прогресса должно отодвигаться до бесконечности, ибо если бы завершение это действительно наступило, то моральное сознание сняло бы себя. Ибо моральность есть моральное сознание лишь как негативная сущность, для чистого долга которой чувственность имеет только некоторое негативное значение, есть только несоответствие. Но в гармонии исчезает моральность как сознание или ее действительность, подобно тому как в моральном сознании или действительности исчезает ее гармония. Поэтому действительно достигнуть завершения нельзя, а можно только мыслить его как абсолютную задачу, т. е. как такую, которая так и остается задачей. В то же время, однако, ее содержание следует мыслить как такое, которое должно было бы просто быть и не оставаться задачей; допустим, что в этой предельной цели сознание представляют себе совершенно снятым либо не снятым; как, собственно говоря, быть в таком случае, этого нельзя уже отчетливо различить в темной дали бесконечности, куда именно вследствие этого нужно отодвинуть достижение предельной цели. Собственно, следовало бы сказать, что нет надобности интересоваться определенным представлением и нет надобности доискиваться его, потому что это ведет к противоречиям – к противоречию задачи, которая должна оставаться задачей и все же должна быть выполнена, к противоречию моральности, которая более не должна быть сознанием, не должна быть действительной (309–310).
Гегель, упрекая Канта за оторванность его понятия надежды от действительного человеческого чувственно-практического действия (что фактически вело к отказу от этого действия), попытался обосновать в «Феноменологии духа» собственную этику, поставив вопрос о надежде и об отношении к высшему благу с точки зрения критико-диалектической версии идеи праксиса[465]. Гегель отказывается от трансцендентального характера кантовских постулатов, отказывается видеть за ними лишь разумную нравственную веру в реализацию необходимой и всеобщей цели.
Надежда понимается у Гегеля как действие, тесно связанное с языком. Именно через посредство такой «практической» логики надежды порождается ясное представление, образ (Vergegenwrtigung) высшего блага, новое понимание об общности природы и свободы, истории и Бога. Э. Симонс считает, что Блох подхватил эту линию аргументации и развил ее (см. также: SO, 491). Для Блоха экстатический опыт «озарения», приобщения к высшему благу является посредником при известии, пророчестве надежды. Таким образом, гегелевское динамическое, практическое понимание надежды трансформируется у Блоха в экспрессивное пророчество, в озаренное знание, а мир мыслится как игра, порожденная языком[466] и действием, и именно в силу творческого языкового действия удается переделать мир. Это утопически-экспрессивное знание формируется в преодолении налично данных обстоятельств, в попытке «прожечь Канта сквозь Гегеля» (GU2, 236), с одной стороны, не заковывая Я в объективную систему, с другой же – не превращая этико-мистическое озарение в одинокое донхикотство и wishful thinking, не останавливаясь на этом, не отворачиваясь от истории. «Исполненное мгновение» испытанной на опыте надежды у Блоха и оказывается внутренним, интимным и в то же время исторически окрашенным, коммуникативно-чувственным действием, связанным с выражением, пророчеством и порождением нового, мучительной и в то же время блаженной языковой игрой, в которой отражается историческая игра мировых событий[467].