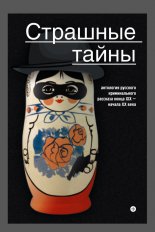Аргидава Гончарова Марианна

– Мне кажется, я его не раз видел. То ли в городе, то ли на рынке… Короче, я где-то его видел.
Маша потрясенно уставилась на рисунок.
– Это же… – Машка даже охрипла от волнения. – Это же Варерик! Варерик. Он жил здесь, в Желтом доме. Потом его семья вдруг стала выигрывать в лотерею: сначала холодильник, потом автомобиль, потом еще что-то… Они переехали куда-то. Странная история. Говорили, что Варерика в тюрьме зарезали. А он, оказывается, жив-здоров.
– Ага. И продолжает заниматься любимым делом.
– Каким? – хором спросили непонятливые девочки.
– Ворует он. – Игнат потер лоб ладонью. – Только зачем ему старые ключи?
– Старинные, а не старые, – подсказала Ася. – Сплав там какой-то… Ковка…
– Неужто он такой грамотный вор, что знает толк в старине?
– А что там такого, в вашем подвале, что может быть интересно этому Варерику?
– Да мы сами еще не знаем. Но что-то же ему интересно!
В тот же день Кепка, опознанный Машей как Варерик, пришел в дом, где домработницей долгое время служила его мать. Впервые с тех пор, как чудом досрочно освободился, он не испытывал никакой робости.
– Я тебе сказала, не приходи сюда, когда хозяин дома, я тебе говорила! К бабке иди! – шипела его мать Катерина, пытаясь тихо вытолкать непутевого сына за дверь, шлепая его кухонным полотенцем как в детстве.
– Я не к тебе, мать, – взревел Варерик, – я к хозяину! Я принес ему интересное что-то!
– Я передам. – Мать не собиралась впускать сына, боясь хозяйского гнева.
– Кто? – хрипло, раздраженно послышалось из глубины квартиры.
– Тут нашел кой-чего! – Варерик, вытянув шею туда, в сторону голоса завопил: – Лексейсаныч! Древнее нашел, редкое, как вы приказали, Лексейсаныч!
– Тихо! Не ори, идиот! Пусти его, Катерина. Дверь запри.
Варерик, победно глядя на мать, бренча ключами, прошел в комнаты.
Через полчаса он вышел, запихивая в подкладку кепки купюру. А вслед раздался голос:
– Катерина! Покорми его.
Варерик по-хозяйски прошел на кухню.
– Денег тебе дали? – косясь на сына, Катерина подавала на стол.
– Не дам. Не проси. Лексейсанычу скажу! Бабке отдам…
– Бабке… – проворчала тихо и зло Катерина.
Видение
…Берут себе в мужья обычных смертных мужчин, с ними не считаясь. И живут среди обычных людей. Способные сохранять покой в холодном сердце и самообладание при любых поворотах судьбы.
Слабеют только от зависти и любви. Но если за чувство зависти можно отомстить, то любовь делает их совсем слабыми, хрупкими, ломкими, как мерзлые ветки, отчего погибнуть легко.
Равке. Кормилица Равке. Все боятся ее и обходят, если ковыляет та навстречу, глядя себе под ноги, что-то выискивая на земле. Но примечает все, и, уж если подымет голову, непременно головой дернет и кинет взгляд свой острый прицельно, как стрелу, и следом заливается смехом счастливым, детским, звонким, леденящим. И все, кто слышит смех этот, знают, что беда у кого-то, кто встретил ее на пути.
Свирепеет ведьма Равке от зависти и взбивает вокруг себя воздух, вызывая бури и ураганы. Преследует, унижает и разрушает Равке тех, кому вдруг позавидовала. Уничтожает с подмогой чужой стрелы, но прицеливает ее в самое горло обидчику, свистящую, страшную, с костяным шариком внутри, какую сама придумала для чада своего возлюбленного, для Младшего, чтобы войско его страх и ужас навевало на противника неземным, сверхъестественным воем и свистом, издаваемым дождем выпущенных стрел с костяными дырчатыми шариками.
Слабела Равке от любви к вождю, без памяти любившая его, Младшего, и кормившая его молоком своим до тринадцати лет.
И ведь многих подчинила она силе своей. И детей нелюбимых, коих родила да покинула равнодушно, алчных и крепких, что расползлись, разошлись по земле, зацепились, как сорнячное семя, где придется и дали по всему свету сильное потомство колдунов, разбойников, ведьм-бормотуний, отравителей и убийц, да и пустую ветвь злющих, бездушных, мстительных, от которых тоже была и есть польза: их всего-то надо заставить завидовать.
И когда ночами сидела Равке, подобрав под себя ноги, качалась, издавая хриплое мычанье, закатывая горящие, как угли в очаге, глаза, входила в транс и виииидела она, ааахыыыыы! Виииидела! Резвые ростки с ее древней живучей стремительной кровью, ее опаляющими черными глазами, с ее мелодичным, колдовским, как будто никому не принадлежащим, живущим отдельно, счастливым мелодичным смехом, видела она, хрипя и теряя ощущение времени, пространства, не чувствуя зноя или холода, как у них, живущих за тысячи лун, учащается дыхание и сердцебиение, и воздух перед глазами становится зыбким, и взгляд плывущий, и походка неуверенная, и гонит их что-то – день или ночь, все равно – сводить счеты и нарушать, разрушать равновесие природное, неудобную им, лишнюю им, слишком опасную для них гармонию мира.
И невдомек им, что это она, Равке по-прежнему, как и века назад, слепо поводит сухими длинными узловатыми пальцами. Дергаются они как щупальца, отплясывают бешено в воздухе, как будто к каждому пальцу, жилистому и корявому, суровая крепкая нитка привязана, что тянется туда, за степь и за тысячи лун. И гонит их, привязанных как послушные марионетки к той самой нитке, гигантская сила: исполнять соблазнительную, вожделенную, успокоительную для них службу – обмануть, запугать, унизить и взять им не принадлежащее.
Глава девятая
Испытание
Договорились, что, как только у Маши заживет нога, они сделают вторую попытку проникнуть в подземелье.
Но случилось непредвиденное…
Бывает ощущение, что мимо нее проскакивает то, в чем она обязательно должна быть, жить, радоваться.
Как-то осенью, идя под зонтиком по главной любимой всеми пешеходной улице города, по улице, выложенной брусчаткой, нарядной, как раньше ее называли, Панской улице, Маша, как у нее с детства бывало, крепко задумалась, застыла, уставилась в одну точку, в никуда, и вдруг увидела бредущую навстречу ей пару: уже хорошо и близко знакомого ее, практически родного лучшего друга Игната и неизвестную ей девочку в капюшоне, закрывающем лицо.
Игнат так увлечен был разговором, с таким обожанием заглядывал девочке в лицо, глубоко спрятанное в капюшоне, что Машу не заметил. Он вообще-то близорук. А может быть, сделал вид, что не заметил. И оказалось, что их общие исследования в подземелье – это для него всего только исследования в подземелье, их копания в книгах отца Васыля – всего только интерес к истории крепости. И за этим не стоит то, что она себе напридумала и вообразила. И оказалось все ненужным, неважным. И теперь все можно бросить. И чем теперь заниматься? И даже Машино неуемное, как ее папа Олежик говорил, любопытство, ее бешеный интерес к Аргидаве вдруг увял, скукожился, угас. Игнат прошел мимо, что-то рассказывая так же увлеченно, как рассказывал всего пару месяцев тому назад, летом, ей. Они прошли не мимо, а сквозь нее. Прошагали. И Маша услышала цокот чужих каблучков. Бывает так – человек не хочет тебя замечать и проходит сквозь тебя, как соседка тетя Валя косматая, которая собак ненавидит. И котов ненавидит. И людей… А тут не злыдня тетя Валя, наплевать, как она живет и как относится к Маше и ее родителям и к Луше, а близкий, самый близкий, самый драгоценный ее друг. И жизнь вот так легко – вжик! И все – рушится. Думаешь, значит, все, теперь все. И сердце колоколом, и все время холодно спине, даже в самую жару, и рыдаешь как чокнутая вообще, хотя зачем – если он сквозь тебя прошел, значит, все, что у вас было общего, для него ничего не значит, и ты ошиблась, и хорошо, что вовремя все случилось, и вроде надо и радоваться, можно прыгать и в воздух чепчик, что все прояснилось, можно начать с чистого листа, забыть…
Словом, тогда Маша оглянулась и стояла, смотрела им вслед. Еще этот зонтик дурацкий, как летучая мышь, вывернулся от ветра и сломался. И зашевелилась в душе нежданная горячая ревность и уверенность, что на месте девочки в капюшоне должна была идти она. Идти, помахивая сумкой, слушать, о чем рассказывает Игнат. И не только слушать, а понимать как никто, сопереживать и чувствовать как никто. Маша прямо увидела себя, идущую медленно рядом, почувствовала запах влажного от дождя серого пальто Игната, близко рассмотрела даже ткань, буклированную, издали серую, а на самом деле – черную с красным. Ей хотелось побежать догнать, оттолкнуть девочку в капюшоне: а ну уйди отсюда! И сказать ему. Прямо в лицо сказать. Ты! Сказать ей тоже… Сказать им, что… Крикнуть им. Да пошли вы оба! Вон отсюда! Из моей жизни уйдите в ваших клетчатых пальто! И не надо мне! Ничего от вас не надо. Не хочу, не хочу, не хочу!
Машка стояла, смотрела им вслед, всхлипывала, по-детски обиженно шмыгая носом.
С той встречи прошло какое-то время, возможно, год, в течение которого Маша была дружелюбна, но суха. Была насторожена, в гости к Добровольским не ходила, тем более времени не было, пришлось много заниматься. В университете они с Игнатом почти не виделись, а если и виделись, то он уже окончил аспирантуру и был в другом статусе. Так просто не шлепнешь по плечу, привет, мол. Преподаватель кафедры. А Маша всегда бегала в стае своих подружек. И приветливо здоровалась: «Здрасте, Игнат Игоревич». А то и просто издалека махала ему ладошкой.
– Ты просто бессовестная! – позвонил Игнат. – Ну ладно, я, как оказалось, тебе не друг. Но почему ты Асю бросила? Она скучает.
– Ася скучает. Ася… Я тоже, тоже очень по ней скучаю! – растроганно ответила Маша.
– Ну и я тоже. Скучаю. Привезли экспонаты из Аргидавы. Пока держат в запаснике. Я договорился. В субботу идем.
И вот спустя какое-то время…
Накрапывал мелкий косметический дождик, они брели из музея, где разглядывали предметы быта из раскопок крепости. В музее они замерзли как цуцики и шли в кафе согреться. Игнат поднял капюшон у Машиного пальто и надвинул ей на глаза. Они брели уставшие. Игнат, чтобы развлечь Машу, читал свои и чужие стихи, читал хорошо, умно, не артикулируя театрально, рассказывал что-то спокойно, заглядывая ей в лицо, спрятанное в капюшоне.
У Маши в тот день было какое-то дежавю. Казалось, что все это уже было, но с ней или не с ней – непонятно. Ощущала она какой-то холод, неприятность, которую она почему-то никак для себя не могла сформулировать. Она шла мрачная, подпихивала носками башмаков редкие мокрые желтые листья, а Игнат заглядывал ей в лицо и спрашивал осторожно:
– Тебе плохо? Тебе не холодно? Ты не промочила ноги?
Машка нервно шагала, грохотала каблуками дурацких, как ей казалось, совсем неподходящих ей туфель, которые и купила только потому, что…
Ну да ладно.
И только через много дней она рассказала Игнату о том осеннем дне, когда она встретила его, так очевидно влюбленного в девочку. Девочку в клетчатом пальто с капюшоном. Оно, это простенькое, но веселое пальто так понравилось ей, да все понравилось – и пальто, и сама девочка, и ее шоколадные туфельки, и такая же сумка, – что Машка примерно такое же себе купила. И пальто. И сумку эту дурацкую, кстати, она оказалась тяжелой, неудобной. И туфли с каблучками, хотя такое не любила. Купила и надела в тот день, когда Игнат позвал ее в музей. Назло ему надела. И себе назло.
И однажды призналась. Все рассказала как есть – что ее мучает.
– Так. Давай уточним, – потом спрашивал Игнат. – Девушка, которую ты со мной видела, была в клетчатом пальто? В красно-серую клетку? В коротком пальто? На замке?
– Дааа… Кажется, да. В туфельках еще таких, как у меня… То есть у меня, как у нее… То есть… – догадалась Маша еще раньше, чем Игнат произнес вслух. – Сумка еще… Между прочим, тяжелая сумка. Неудачная.
– Не было никакой девушки в капюшоне. Не могла ты меня встретить в октябре. В это время я был на сборах, прыгал с парашютом! Ты что, забыла, что ли?! Я же плечо повредил, сломал два ребра и лежал в госпитале. Маха! Этой девушкой была ты. Ты встретила нас с тобой. В будущем октябре. Скорей всего, ты опять замерла, уставилась куда-то, поворошила время, как ты одна умеешь. И увидела.
Теперь и он знает, мрачно размышляла Маша, что с головой у меня что-то не так. Хотя и говорит, что это глупости. Утверждает, что такое со мной, потому что я чуткая. До чего же обидно, что к кому-то приходят чудеса в виде белого коня с принцем на борту, а я вижу или события из прошлого, отчего у меня на носу вдруг оказывается красное несмываемое пятно, или свое будущее под дождем в капюшоне, картинка которого так меня вымотает, что, пока доживешь до него, этого будущего, уже ничего не чувствуешь, одну усталость.
Из блокнота
…Мне, признаться, было страшно, какие-то воспоминания из детства: замкнутое пространство подземных святынь Киево-Печерской лавры, ряды кипарисовых гробниц в нескончаемых коридорах, где почивают нетленные святые мощи подвижников благочестия, ушедших в добровольное затворничество, в вечности которых призывали убедиться экскурсоводы, указывая на открытые высохшие маленькие человеческие ручки.
Это сейчас я бы серьезно и где-то даже с трепетом, уважая решение затворника отрешиться от всего мирского, земного, суетного, монаха бесстрашного решение остаться наедине с собой, со своими мыслями о последнем своем земном вздохе, подошла бы и убедилась, да, нетленны. Но тогда, в тринадцать лет, в самом сложном человеческом возрасте, взглянув на одну из ручек под стеклом, я чуть не потеряла сознание и, включив свое воображение, к ручке той пририсовала и все остальное. В детском искреннем недоумении, что ж, мол, не предадут земле несчастного, зачем выставляют как экспонат выставочный? Я упорно думала, спала плохо и все никак не могла понять, зачем же так с ними поступают, для чего и какая от этого польза, чему и кому служат они, схиму принявшие навечно. А с отцом Васылем я тогда еще знакома не была и не дружила.
И вот образ тех самых ручек сплелся в моем воображении с гнетущим замкнутым пространством подземелья. Мой страх передался и моей героине Маше.
Глава десятая
В подземелье
– Ого… – протянул Игнат, рассматривая замок.
Новый замок с кодом был погнут, оцарапан, но, то ли вскрывали его, то ли не смогли вскрыть, было неясно.
– Странно, кому понадобилось лезть сюда? – Маша разглядывала глубокие борозды на замках.
– Тому, кто год назад украл у Аси ключи.
Игнат долго возился с замками, а Маша все время думала: вот бы не открылось, вот не открылось бы подольше. Но сначала щелкнул один замок, потом, спустя минуту, – второй. Игнат откинул крышку, обитую жестью, показались полусгнившие деревянные ступеньки. Игнат зажег фонарик, и Маша обреченно принялась спускаться следом за ним. Учитывая прежний опыт, медленно, старательно прощупывая ступеньки. Несколько ступенек внизу прогнили окончательно, и пришлось прыгать.
Узкий коридор, как и рассказывала в детстве Мира, затем разбухшая, на ржавых петлях дверь, опять узкий коридор, что привел их в небольшое помещение, от него коридор вел прямо, потом вправо, потом влево, проход сужался, потом опять повернул вправо, где оказался вроде бы тупик. Игнат посветил фонариком вокруг и обнаружил сбоку узкий и низкий ход, где идти надо было пригнувшись, а ход становился все уже и ниже, и только потом, протиснувшись боком, почти на корточках они попали в большое сводчатое помещение – целый зал с большим, грубо сколоченным деревянным столом.
Пахло сыростью, плесенью от земляного пола. Несколько крепких столбов подпирали потолок в самой широкой части зала. Игнат осветил один столб и накрепко вбитое в него кольцо.
– Для чего это? – Маша сразу представила, что дальше в подземелье они увидят скелеты, прикованные к таким вот кольцам и столбам, жуткие тени, шепот, стоны, – ей отчаянно захотелоь обратно домой, ну, или прижаться к сильному уверенному плечу. Понятно же.
– Это, наверное, для лошадей. – Игнат постучал ногтем по столбу. Тот ответил глухим гулом.
– Металл? – просипела Машка только для того, чтобы не раствориться в темноте, чтобы услышать собственный голос, чтобы не потерять контроль над собой.
– Мне кажется, это лиственница.
– За… Зачем лиственница? Откуда у нас здесь лиственница, Игнат? Игна-а-ат, я хочу знать, откуда у нас лиственница? Она ж у нас не растет.
– Ну, кто-то грамотный, кто строил это подземелье, привез сюда лиственницу. Лиственница имеет свойство каменеть. Вся Венеция на сваях из лиственницы стоит. И если бы это было просто подземелье, зачем было везти откуда-то лиственницу, можно было ограничиться дубовыми столбами-подпорками. Так ведь? Маш, ты чего? Не бойся, – внезапно голос Игната потеплел.
Маша, конечно, боялась. Но в таких вот случаях ее спасает от паники удивительное свойство организма: задумываться о самых неожиданных вещах в совершенно неподходящих обстоятельствах. Она, конечно, боялась, но, наблюдая, как Игнат ногтем колупает окаменевшую лиственницу и рассматривает лошадиное кольцо, думала, надо же, какой хороший. Какой у него красивый профиль. А как он вчера меня рассмешил! Разговаривал с собачкой в чьем-то дворе. Собака подняла ухо и склонила голову вправо, Игнат тоже склонил голову вправо. Собака сказала предупредительное:
– Б! Б! Б!
Игнат тоже сказал по-собачьи:
– Б! Б! Б!
А Машка умирала от смеха, как они были похожи оба. И когда они уходили, собачка подбежала к калитке, высунула башку и заскулила, мол, вернись, вернись, еще давай поиграем.
Игнат тогда приобнял ее за плечи, тоже хохоча, заметил:
– Машк, а ведь мы с тобой смеемся над одним и тем же.
– Ну и что?
– А то, что это очень хороший знак. Представь, если бы я смеялся, а тебе было бы не смешно. Прикинь? Это же почти инопланетяне получаются, которые дышат разным воздухом и не могут находиться вместе.
– А собачку эту зовут Старшина, – сказала Машка вслух.
– Что? – не расслышал Игнат. – Пошли дальше.
И Маша продолжила размышлять, что до чего же правильно девушке или женщине быть не одной. А чтобы рядом шел, стоял, сидел или лежал кто-то единственный, теплый. Не кот. И не собачка. И стала думать еще разное, о чем не расскажешь, потому что редко кто умеет такое рассказывать.
Нет, конечно, она могла бы, но… а вдруг будет фальшиво и пошло. Пошло и фальшиво. Даже наедине с самой собой. Лучше просто спрятать все в тень, потому что отзывчивый и сам поймет, почувствует, в себе услышит и согласится.
– А куда дальше? – спросила она. – Это же тупик. А если это тупик, столбы – не для лошадей. И вообще, какие могут быть лошади в подвале? Как они туда спускались? По ступенькам?
– Они могли спускаться с другой стороны, где был специально приспособленный для лошадей ход.
– Но здесь ведь тупик, – упорно твердила Маша.
Игнат медленно бродил по периметру зала, ощупывая стены светом своего фонарика и рукой.
– Хода нет.
– Но ведь дед Матвеич…
– Точно. Паромщик. Он говорил, что они с другом забирались в подземный ход со стороны крепости. Так. Будем вызывать Сашку-старателя.
– А кто это? Зачем?
– А вот зачем. Иди сюда, – позвал Игнат, – смотри.
В освещенном кругу на стене смутно просматривался позеленевший от влаги и времени кованый, размером с мужскую ладонь, круг, а в нем – только на ощупь – солнечный круг с широкими девятью лучами, похожими на лепестки пиона или языки огня. В солнечном круге извивалась ящерица.
– Саламандра? – тихо спросил Игнат. Скорей, сам себя спросил. – Сашка – любимый ученик нашего Тищенко. Блистательный был студент. Носом чует металл и воду в земле. Правда, там история была одна странная… Копает он сейчас или нет, я не знаю.
– Что копает? Где?
– Археолог он.
– Ну?
– Он, видишь ли, черный археолог. Копает без разрешения. Но как-то слишком смело. И некоторые говорят, что его кто-то прикрывает.
– Что значит – прикрывает?
– Ох, Маша. Ну… Кто-то влиятельный прикрывает его увлечение. Работает он на кого-то. Я даже знаю, на кого. И все знают.
– Омерта! – Машка прошептала, вытянув указательный палец. На стене тень Машкиной руки в свете фонаря казалась даже зловещей. – Омерта. Все знают, никто не говорит? А на кого работает?
Игнат положил руку девушке на плечо и вдруг прошептал нежно и тепло:
– Маха… Маааха, слушай…
– Что?
– Маха, пожалуйста…
– Что? Что, Игнат, что?
– Маха, маленькая. Ты…
Машка замерла в темноте, ожидая чего-то и твердя про себя: «Ой, не надо, не надо, не надо пока, не надо!»
– Маш, – опять легким шепотом дохнул в лицо Игнат, – знаешь что?
– Что? – хрипло отозвалась Маша.
– Это… Не морщи лоб!.. – И засмеялся: – Не бойся. Но будь осторожна. Давай выбираться. А то простудишься.
Ребята полезли обратно тем же путем, то пригибаясь, то протискиваясь боком.
«Ну не прибить этого клоуна? – думала Машка разочарованно, выползая почти на коленках из узкого, как кроличья нора, хода. – То ли смеяться, то ли плакать».
«Ну ты же сама не хотела, – злорадно отозвался внутренний ее голос. – И надо наконец следить за собой и научиться не морщить лоб!» Когда наконец они вышли в коридор с лестницей, Игнат подхватил Машу за талию – держись! – звонко чмокнул ее в щеку и подсадил на целую перекладину гнилой, почти развалившейся лестницы.
Глава одиннадцатая
Сашка-старатель
– Черный археолог? Все знают, чем он занимается, но никто не говорит. Все знают, кто его прикрывает, но никто не говорит. – Машка отряхивала джинсы от пыли, пока Игнат, набирая коды, закрывал замки на люке.
– Да, никто не говорит. Мало ли сейчас черных археологов. Одно дело – раскапывать курганы. Другое – искать оружие Первой и Второй мировых войн. Я не знаю, где именно копает Сашка-старатель. И что находит. Все знают, что он копает, но никто не говорит. Вот и судачат, что кто-то ему покровительствует.
– Познакомь меня! Ну возьми меня с собой на эту встречу! Кто тебе подземелье показал? Ты что, жадничаешь? Ты предатель? Цапнул мою загадку и оставляешь меня на обочине?
У Маши такое бывало. Обидно: идея твоя, работа твоя, результаты тоже твои, а пожинает их почему-то другой человек. Его хвалят, ему платят. А ты в это время сидишь в машине, где тебя оставили, ждешь, жмешься от неловкости, мерзнешь и чувствуешь себя выставочной собакой. Выступила? Отплясала? Место! Сидеть! Ждать! Охранять!
И тогда Машка подумала: если Игнат не возьмет ее с собой знакомиться с Сашкой-старателем, тогда к черту его мягкий голос и красивый профиль, его длинные музыкальные пальцы и его стихи, и запихнуть поглубже воспоминания, как он тащил ее на руках домой, когда она подвернула ногу, и вообще забыть навсегда, пусть себе уйдет и живет где-нибудь подальше от меня, – так думала Машка.
И продолжала ныть: познакомь да познакомь меня с Сашкой-старателем. Короче, достала уже своим нытьем. Игнат дал ей Сашкин электронный адрес: договаривайся сама. Он человек-погода. Как ветер задует. Как Луна меняется. От всего он зависит.
…Сашка-старатель ответил Маше в этот же вечер и прислал свою фотографию… с карнавальными заячьими ушами на голове. Серьезный, по-своему даже красивый, в очках, сидит, как будто фотографируется на партбилет, при галстуке, сосредоточенный. Но с ушами. Белыми и пушистыми. «Это ж какой свободный, легкий человек, – думала Машка, – если он послал незнакомой девчонке такую свою фотографию, чтобы я его узнала при встрече. Написал мне, мол, я готов разговаривать, я вообще разговаривать люблю, и назначил свидание в кафе «Калинка».
Приехали они на встречу к Сашке-старателю чуть раньше. Кафе – фу и жуть. Пахнет пережаренным. Маша задумалась: зачем он назначил встречу в этом вот гиблом месте: играет попса, какие-то дяденьки вчерашней свежести пиво пьют, галдят. Столы грязные с пятнами пролитого. Рядом же приличный ресторанчик, тихий, все равно ведь мы угощаем, ну что ему стоило согласиться. Нет – только туда. А потом она поняла, что, во-первых, это в контексте с его ушами. А во-вторых, возможно, он боялся. Не доверял им. Поэтому, кстати, и послал фотографию с ушами. И в конце концов, тут кафе, открытое на все четыре стороны – можно быстро уйти, если что. То есть сбежать.
Они ждали. Маша ожесточенно терла салфеткой деревянный стол без скатерти. А тут он появился… Нет, не так. Сначала в воздухе возник какой-то ритм. Тым-ты-дынц, тым-ты-дынц! И с жуткой музыкой в жутком кафе никак этот ритм не связан, а слышала его только Маша. В этом ритме вдруг задвигались автомобили, пешеходы. Рядом стояла передвижная лавочка с фруктами, продавец неожиданно заколотил ладонью по картонному ящику, отбивая такт. Колдовство и шаманство. Казалось, что все окружающее пространство к чему-то готовилось, приноравливалось и радовалось. И вот из-за поворота сыпанул ворох сухих шафранных и пурпурных листьев, сделалось светлей, ярче вокруг, заискрилась, зажурчала весело вода из откуда-то взявшейся тут поливальной машины, присланной, по-видимому, именно сюда небесным продюсером. Сашкин выход обставлялся дорого и красиво. Показался из-за угла качественный башмак, брючина узких джинсов, а следом как будто из кулис вышел весь он. Сашка-старатель. В воздухе вокруг однозначно стихло, а потом будто хор прозвучал:
– Сааааашка!
Походкой, верней, походочкой, а еще верней, походняком вихляющим, ногами чуть кривоватыми, расчетливо-спортивно двигая руками, разболтанными в суставах, худой, даже тощий, пружинистый и очень во всем этом органичный, какой-то юркий, вертлявый, подвижный как угорь, он, широко и благодарно улыбаясь всем вокруг – и не только посетителям кафе, но и поливальной машине, улице, торговцу фруктами, солнцу, засиявшему вдруг ярче, – подгреб к их столу и остановился, застыл, элегантно и одновременно насмешливо поклонившись и притопнув. Очень фактурный, некрасивый, но интересный. Как для кино. Без заячьих ушей.
Как и оказалось, он этой своей внешностью и всем видом так подходил к нелепому этому уличному кафе, что Маша немедленно смирилась, обрадовалась и уселась поудобней, чтобы его слушать.
– На! – сказал вместо «здравствуйте». – Это первый век нашей эры. Римский император Траян. Динарий.
Он положил на грязноватый, сбитый из некрашеных досок стол мелкую монетку с дырочкой.
– Ого! Откуда такой? – насторожился Игнат.
– А шел-шел и нашел, – не мигая и преданно, честно глядя в глаза, ответил Сашка-старатель, – на Траянском валу, – весело заржал, приобнял Игната и взял в свою крепкую сухую и шершавую от мозолей лапу Машину руку: – Будем знакомы. Сашка-старатель…
Так и познакомились.
И вот они уже были достаточно знакомы. И доверяли друг другу, заключив триумвират. Сашка-старатель, Игнат и Маша. Сашка-старатель много чего интересного рассказал и показал. И целый день они бродили вокруг крепости и сидели над старыми книгами в кабинете отца Васыля, в боковой холодной комнате храма, и как-то, утомившись, выйдя на воздух, щурясь на свет, присели на развалинах сторожевой башни, и Сашка-старатель со вкусом закурил.
– А знаете, Тиша однажды… То есть профессор Тищенко говорил, что Аргидава играет со временем. Тут в разных местах время течет по-разному. В подвалах и подземельях – быстро. И если мужчина забирается туда на несколько часов, обратно он может выйти очень заросший или даже с бородой. А если подымаешься на самую высокую башню, бродишь там по переходам, рассматриваешь, думаешь часами, то, когда спускаешься, тебя спрашивают: «А что ты так быстро? Ведь и пятнадцати минут не прошло». Хотелось бы знать, что там происходит. И почему так?
Есть вещи, – продолжал Сашка, глядя туда вдаль, где молчала в ожидании упрямая и раздраженная в тот день крепость, – есть вещи, которые не должны быть известны человечеству. И не надо туда лезть.
– А вам? – спросила Маша.
– И мне.
– Но вам же известно… – стала она горячиться.
– Нет. Я ничего об этом не знаю. Я – никто и ниоткуда. Человек без родины. Родился на корабле. На Камчатку мать плыла, откуда, зачем, теперь уже никто и не узнает. Дядька меня забрал. У него в доме и вырос. Всю жизнь его боялся. Тяжелый человек. Несносный. Загадочный. Очень умный. – Сашка затянулся и добавил: – Нет, пожалуй, не очень умный, скорей изобретательный. И ужасно, ужасно жадный. Вот, знаете, такой. Алчный. И много для меня сделал.
Луша, которая весь вечер лежала у порога храма на солнышке, встала, подошла к Сашке, посмотрела ему в лицо, фыркнула от табачного дыма и улеглась корабликом рядом с Машей, аккуратно сложив перед собой лапы, мордой к крепости, хвостом к людям. Сашка-старатель ей не нравился. Он вызывал тревогу. Маше с Игнатом она доверяла. Они ее любили и были ей понятны. Луша вытянула шею, старательно нюхая воздух, глядя далеко, в сторону крепости. А та – обиталище душ ушедших, но не нашедших покоя, – угрожающе глядела – шевелилась, шептала, шуршала, шелестела, меняла очертания, температуру и запахи, охраняла тени, шаги, следы и голоса таинственных своих обитателей.
– Но вы же стоите на пороге, вам нужно сделать только один шаг… Мы стоим на пороге, – уточнила Маша.
– Мы. Ну знаете, я не идиот! Чтобы делать необдуманные шаги…
– А я с детства мечтаю, чтобы она мне открылась.
– Зачем это тебе? – однажды спросил Сашка-старатель. Один-единственный раз спросил.
Маша пожала плечами в недоумении: действительно, зачем это ей? Приступать, а потом волноваться, болеть, страдать, не спать, бояться видений, теней, звуков, непонятно кого и чего. Ей это зачем? Не могла ответить. А Игнат спокойно предположил:
– Ей незачем, – глядя на Машу, как будто видит впервые. – Это вообще не Машке нужно. Верней, Машке это точно не нужно. – Игнат накинул ей на плечи свою куртку. Дул ветер от Днестра, похолодало. – Это нужно ей, – указал подбородком Игнат в сторону широко и в тот день особенно основательно и даже вызывающе разлегшейся внизу, как в чаше, крепости.
– Сколько же здесь слоев, – завистливо и тоскливо прошептал Сашка, – сколько же здесь всего можно накопать! Тут ведь каждое новое селение просто возводилось поверх старого.
– А почему они строили так низко? – не отводя завороженного взгляда от играющей с ними крепости, спросила тихо Маша.
– Потому что раньше люди, жившие в гармонии с природой, никогда не селились выше родника.
– Но Аргидава же стоит рядом с Днестром!
– Это значит только то, что река поменяла русло.
– А если Днестр разольется? Как Прут, например, недавно. И затопит крепость.
– Нет. Тут тысячелетний договор.
– Какой договор? Между кем договор?
Сверху, от Турецкого моста, раздался оглушительный крик:
– Гобнээээта! Гобнэээта!
Так кричал кто-то, призывая кого-то.
– Гобнэта – знаете что это? Это значит «маленький кузнец», – Игнат объяснил. – С латыни.
Из-за разрушенной сторожевой башни выбежала девочка, видимо сидевшая за их спинами до поры тихонько. Выбежала девочка странная и, роняя полевые цветы из корзины, побежала наверх, к мосту, где старая кузня разрасталась новыми пристройками. Где кузня звенела и стучала, бряцала и лязгала, пела свою ритмичную песенку под соломенной крышей, обжитой ласточками, и светилась в сумерках теплом своего работящего жара. Побежала девочка прямиком в кузню известного кузнеца Мэхиля. Побежала девочка торопливо, даже не поглядев на этих троих.
– Она слушала нас, что ли? – спросил, глядя ей вслед, Игнат.
– Служба у нее такая, – ухмыльнулся Сашка. – Хотя сможет ли она что-нибудь пересказать?
– Она немая?
– Она глухая.
– Но она ведь побежала на… как это… Гоб…?
– Гобнэта. Как-то она слышит. Кожей, наверное. Ну, нам не понять все равно. Такая странная, особенная девочка. Что мы о таких знаем?
Сашка затушил сигарету о портсигар, аккуратно уложив в него окурок.
– Ну пошли, – жестко приказал он.
Они так и не поняли, им ли с Игнатом, собаке Луне ли он велел следовать за ним, но все подчинились и поплелись все трое.
Из блокнота
…Словом, я изводила себя и других, пока однажды не пошла в собор недалеко от старинной крепости. Пошла к знакомцу своему Василию Николаевичу, отцу Васылю, с вопросами, на которые, возможно, и не было никогда ответов. Из собора он, отец Васыль, настоятель, вышел мне навстречу с трудом, давно всем знакомый, очень многими любимый за честность, за скромность, за доброту, за силу духа, но уже совсем больной, с отекшим бледным лицом, с покрасневшими больными глазами. Вышел не велеречивый и сладкоголосый, как некоторые его коллеги, а приветливый и немногословный. Он как раз тогда даже разрешил мне посмотреть свою библиотеку, где были толстые рукописные книги, позволил сидеть там подолгу, читать все, что я захочу, но выносить ничего не велел. И даже дал мне ключ. Верил. Тогда я спросила:
– А почему я?
Отец Васыль ответил:
– А кто?
Подобный ответ на вопрос «Почему я?» мне доводилось слышать в своей жизни довольно часто. И я понимала, что таким образом на меня возлагают большую ответственность.
– Ой, Господи! – вскрикнула я, когда палка отца Васыля соскользнула со ступеньки и батюшка чуть не упал, но мы с мужем быстро подхватили его с двух сторон.
И, видя лихорадочный блеск в моих глазах и трясущиеся руки и правильно расценив и мое состояние, и голос дрожащий, и торопливые мои вопросы: зачем именно я должна это писать и нужно ли вообще мне это, батюшка остановил меня – остановил чуть ли не взглядом – и мягким своим, бархатным голосом спокойно произнес:
– Тихо, дитя, тихо. Не призывай Создателя в суете. (Я пишу здесь «Создатель» с заглавной буквы – так, как говорил о нем отец Васыль, с искренним почтением). Не надо беспокоить Всевышнего по пустякам. Давай-ка сначала сама попробуй, а уж если не будет получаться, попросишь, позовешь…
– Что вы, Василий Николаевич! – чуть не обиделась я. – Вы же священник, а такое говорите. Ладно я, безбожница и отступница, пионерка-комсомолка, хиппи и прочее. Но вы, отец Василий! Как же без помощи небесной?
– Знаешь, какие слова чаще всего произносит Ангел твой хранитель? Главное, его услышать. Знаешь, что Ангел сказал Марии? – Отец Васыль остановился на середине лестницы передохнуть.
– Что? – Это я даже еще и не сообразила, о чем он.
– Он сказал: «Не бойся».
«Откуда вы знаете?» – спросила бы моя Маша, а я промолчала.
Но отец Васыль безмятежно ответил бы:
«Мне сказали».
Моя Маша, выпучив глаза, сглотнув от нетерпения, спросила бы:
«Ккк… кто?!»
Отец Васыль мягко, смиренно улыбнулся бы, мол, подумай.
Так было бы. Батюшка как-то совсем по-человечески, очень по-семейному просто, тепло, великодушно, бескорыстно и честно нес Слово Божье людям. И в силу того, что он был так тяжело, неизлечимо болен и столько времени проводил в больнице на грани между мирами, что и вправду во вневременье своем мог вести душевные беседы с ангелами.
Но в тот яркий летний день он наклонился и заглянул мне, психованной, дерганой, в лицо своими темными вишневыми уставшими глазами, погладил по голове и, сильно хромая, опираясь на палку, медленно, грузно сошел со ступенек собора и кинул через плечо, тяжело и сипло дыша:
– Тебе там куртку мою… Не смотри, что старая. Матушка почистила для тебя. Теплая… Принес… Ветер сегодня с Днестра. Когда ветер от реки, холодно наверху, в храме. И чаю принесут. Проси чаю, если замерзнешь. Не бойся.
«Не бойся», – написала я на обложке своего рабочего блокнота. Чтобы не забыть. И чтобы не бояться.
Глава двенадцатая
Елисеевна
Как-то на днях пришла Елисеевна. Любимая семьей, почти родная им всем Елисеевна.
Но сначала о соседке с верхнего этажа, которая приходит к ним чуть ли не каждый день. И главное, что – как в лавку приходит. Дикая женщина. Глаза долу держит всегда. Веки тяжелые. Кажется, что подымает их с большим трудом. Нерадостная. Подозрительная. Завистливая. Говорит: о, вы опять новый коврик в прихожую купили красивый. Просит кофе, потому что у нее болит голова. Она стоит у двери и кротко, но четко спрашивает: даете мне кофе? А то голова болит. Только растворимый не давайте. Я не люблю растворимый. Или говорит: дайте чай. А! В пакетиках? Не надо. Я в пакетиках не люблю. Дайте тогда кофе. Еще просит подсолнечное масло, соль, сахар, одолжить денег.