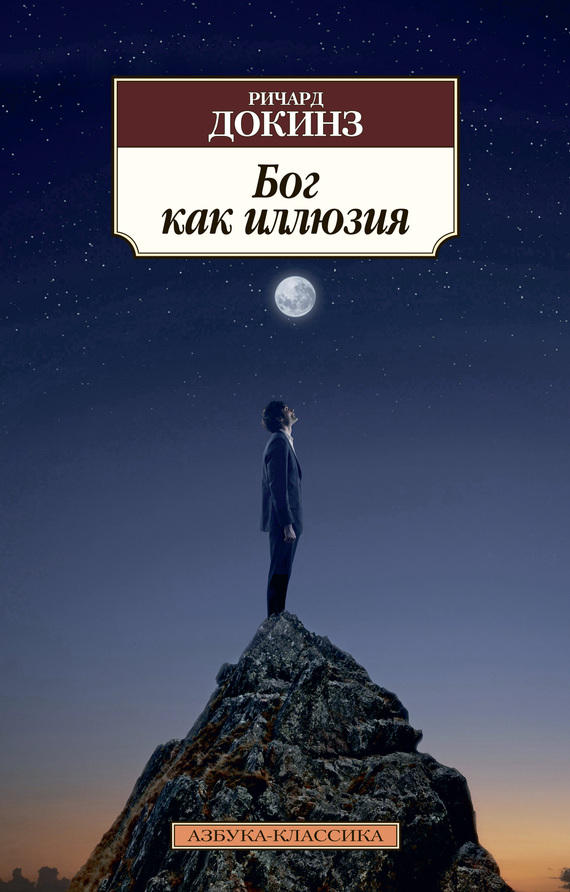Последний берег Шанель Катрин

Он словно слышал мои мысли.
– Рашель предлагала мне свое кольцо. Такое шикарное. В нем и бриллианты, и изумруды, чего только не было. Но я хотел подарить тебе кольцо, которое купил бы сам, пусть и не такое дорогое.
Он открыл коробочку.
– Ювелир сказал, что это опал.
– Ох, – только и смогла вымолвить я.
В молочно-белом тумане – точно таком же, как тот, что окружал нас, – вспыхивали синие и красные колдовские огоньки.
– Оно очень красивое, – искренне сказала я. – Франсуа, я согласна стать твоей женой.
Мы поцеловались, неловко и быстро, как в первый раз. И у него, и у меня губы были холодные и дрожали.
– Поедем, а то ты замерзнешь…
Заводя машину, он вдруг засмеялся.
– Что такое?
– Мне пришло в голову, что даже в белой горячке никто не повез бы меня в клинику Шато-де-Гарше. Это местечко для богачей. Я бы протянул ноги в каком-нибудь сумасшедшем доме, скажем, в Вильжюифе. Там умерла одна из моих теток, впавшая в старческий маразм. Жуткая дыра. Тетушка была там самой умной, даже учитывая персонал.
Я рассмеялась. Но отчего-то я думала о том, что Франсуа не сказал, что любит меня. Ни разу еще не сказал.
– А мы отпразднуем нашу помолвку?
– Если ты хочешь. Я не слишком знаю, как это делается. Может быть, ты хочешь пригласить гостей? Знаешь, таких… настоящих гостей. Людей своего круга.
– У меня почти нет знакомых в этом «своем» кругу. Разве только… моя мать? – И тут же я представила себе мать в моей гостиной. Дети Рахиль дергают ее за юбку, галантный испанец предлагает ей одну из своих вонючих папиросок, Франсуа пытается занять тещу светской беседой, а Плакса жует в углу ее сумочку… Право, на это стоило бы посмотреть! Но моя жизнь и так была насыщена впечатлениями. – Пожалуй, не стоит. Я не юная девушка, которая выходит замуж с благословения семьи. Я взрослая, самодостаточная женщина. Познакомитесь потом… на свадьбе.
Мне показалось, Франсуа остался доволен моим решением. Он ничего не сказал, но я поняла – в душе он побаивается знакомства с моей матушкой.
Вечером я попросила мадам Жиразоль купить кое-каких продуктов – наши кладовые порядком опустели после того, как в доме стало обитать больше людей, чем обычно – и приготовить на завтра легкую закуску.
– У нас будет праздник, мадам Жиразоль! Франсуа предложил мне руку и сердце!
Моя экономка охнула.
– Деточка моя! Дайте же я вас обниму! Ох, какая радость, какая радость! Вы же такая красавица, такое доброе сердце, кому же быть счастливой, как не вам?
Она стиснула меня своими мягкими, будто подошедшее тесто, руками и прижала к своей необъятной груди.
– И вы такая чудесная пара! Ох, если парнишка любит от всей души, то кому интересно, есть у него деньги или нет. Любви-то за деньги не купишь!
Мне было приятно слышать эти слова. И на минутку я замечталась – представила вдруг, что мать поздравит меня так же, как мадам Жиразоль. Но шансов на это было не так чтобы очень много…
– Он подарил мне кольцо, – сказала я и вытянула руку. – Посмотрите. Красивое, правда?
Мадам Жиразоль снова охнула, но уже не так радостно.
– Что такое? – удивилась я.
– Ох, мадемуазель Катрина! Нет, нет, я ничего не хотела сказать.
– Да говорите же, а то я напридумываю черт знает что!
– Это же опал!
– Ну да. А что? Он краденый?
– Что вы такое говорите, мадемуазель Катрина. Даже будь он и краденый, как бы я это поняла, едва взглянув на него? Просто примета плохая – опалы носить и дарить. Камень несбывшихся надежд, так его называют.
У мадам Жиразоль всегда находилась какая-то примета, и обычно дурная. Нельзя садиться за стол, если гостей тринадцать – это насмешка над Тайной Вечерей. Хлеб надо класть на плоскую сторону: сколько раз экономка сердито переворачивала багет, если я клала его «на спинку». Хлеб, который пекли для королевского палача, откладывали именно таким образом, а кто съест хлеб палача, будет его следующей жертвой… Нельзя проходить под приставленной к стене лестницей: лестница вместе со стеной образует треугольник, а треугольник – это Троица. Боже упаси раскрыть в комнате зонт для просушки, это приносит неудачу. Опрокинув солонку, нужно бросить через левое плечо щепотку соли, чтобы прогнать злых духов. За купленные в кухню ножи мадам Жиразоль отдавала мне мелкую монетку, чтобы наша дружба не перерезалась. А теперь еще и опалы!
– Не думайте о плохом, мадам Жиразоль. Все эти приметы – сущая чепуха. Камень может навредить только в том случае, если вам запустили им в голову… Или если он краденый. Приготовьте нам хороший стол, достаньте из погреба вино. И помните, вы приглашены!
Она удалилась, ворча.
А я решилась позвонить матери.
Она не дослушала.
– О, дорогая, надеюсь, ты не будешь на меня в обиде за то, что я не смогу приехать? Ганс уехал в Англию, а мы с Тео решили прокатиться в Нормандию, проверить, как идут дела на моей фабрике…
Тео – это, конечно, Теодор Момм. Я так и знала, что мать спит еще и с ним. Что ж, это ее дело.
– Мне жаль.
– Я пришлю вам подарок. И будь добра, сообщи мне дату свадьбы заранее. Мне хотелось бы сшить тебе платье. Кстати, в чем ты будешь завтра?
– О, это неважно!
– Это очень важно! – разумеется, возразила мама. – Надень то, из японского шелка, с цветами и птицами, хорошо? Только пусть кто-нибудь из подруг поможет тебе завязать сзади пояс.
Мама забыла, что у меня нет подруг. Разумеется, я не могла пригласить Рене. Она приехала бы с мужем, а он был членом правительства Виши. Его появление могло быть неуместным.
– А вы уже выбрали, куда поедете в свадебное путешествие?
Свадебное путешествие! Вдруг у меня стало легко на душе. Я подумала, что мы с Франсуа можем уехать… Уехать далеко. У меня довольно денег. Мне представлялись роскошные купе международных экспрессов, каюты океанских лайнеров, номера отелей. Шелковое белье, шампанское, цветы и любовь… Любовь без конца.
Любовь изменила меня. Впервые в жизни мне хотелось роскоши, хотелось утонченной красоты вокруг себя. Мать всегда высмеивала меня из-за моей аскезы, но теперь я удивлю ее.
– Знаешь, мне очень хочется поехать, – призналась я. – Может быть, в Америку, а потом в Австралию. Может быть, мы поживем на каком-нибудь тропическом острове, в крошечной гостинице, и чтобы по утрам пахло магнолиями…
– Как прекрасно, моя дорогая. – Голос матери изменился, потеплел, заиграл нежными нотами. – Наконец-то ты захотела посмотреть мир. Я знала, что это произойдет, как только ты полюбишь. Твое сердце раскрылось, и теперь оно готово вместить в себя весь мир.
Это были прекрасные слова. Правда, закончила мать весьма прозаически:
– Надеюсь, ты позволишь мне оплатить все расходы, связанные со свадьбой и путешествием?
– Это очень щедро, мама. Спасибо.
– Ты не отказываешься! – поразилась мать. – Нет, ты и в самом деле изменилась. И мне это нравится.
Я думала пригласить кого-нибудь из клиники, может быть, Лолу, симпатичную медицинскую сестру, с которой часто пила кофе в маленьком кафе в Сен-Клу. Но Франсуа с улыбкой попросил, «чтобы были все свои», и я согласилась. Отчего-то я целый день была на нервах, хотя, казалось бы, ну что тут такого? Формальное предложение уже сделано, а до свадьбы еще далеко, так к чему же этот мандраж? Я не могла проглотить ни кусочка, не могла прочитать ни строчки в истории болезни нового пациента, и когда Жанна подошла ко мне в холле, смогла обронить только несколько ничего не значащих слов.
Я едва дождалась окончания своего рабочего дня. Забрала свой дневник из ящика стола – право же, не стоило оставлять его здесь, если я пишу в нем такие личные вещи… Вот и доктор Дюпон смотрит на меня искоса, одновременно с сожалением и с торжеством. О боги, он что же, полагает – я до сих пор переживаю из-за его измены и женитьбы? Странно, он же несколько раз видел, как меня увозил Франсуа. Право же, этот самоуверенный индюк слишком много о себе думает! Как они все удивятся, когда я выйду замуж и уеду. Впрочем, доктора Дюпона здесь уже наверняка не будет – отчалит в Америку вместе с Жанной. Посмотрим правде в глаза: вряд ли мне удастся так быстро, за несколько сеансов, снять с нее гнет, наложенный излишне властной матерью, а теперь еще и корыстным муженьком. Так не проще ли будет отпустить ее, дать ей в кои-то веки сделать выбор, свой собственный выбор, пусть даже первый и последний раз в жизни?
Это были дурные, эгоистичные мысли. Счастье вообще эгоистично. Но я устыдилась их. Нет, я непременно поговорю завтра с Жанной. И буду работать с ней столько, сколько потребуется. Или столько, сколько мне позволят.
Усевшись в машину, я раскрыла дневник. Не помешает вспомнить, что я писала вчера…
Прямо поперек страницы было написано крупными скачущими буквами:
УЕЗЖАЙ. УЕЗЖАЙ. НЕМЕДЛЕННО УЕЗЖАЙ.
Это было написано с таким яростным нажимом, что кое-где перо прорвало плотную бумагу, и на странице остались микроскопические брызги чернил.
Разумеется, я сразу поняла, кто это писал.
Спичка.
Я едва не расхохоталась – надо же, нахальная девица мне угрожает!
Нужно признаться, я совершила огромную глупость, не прихватив с собой дневник, оставив его раскрытым на столе. Конечно, Спичка прочитала мои записи, вероятно, она мало что поняла, но кое-что дошло и до ее поврежденного перманентными завивками мозга. Ее возлюбленный только-только решился довести свою жену до растительного состояния, чтобы самому славно повеселиться на ее денежки, и тут какая-то пигалица встревает, угрожает такому близкому счастью! Но что она сделает мне? Подсыплет мышьяку в кофе? Плеснет кислотой в лицо? Фу, как это мелко.
Вилла «Легкое дыхание» сияла всеми огнями. В маленькой столовой был накрыт легкий ужин, благоухали в вазах цветы, мадам Жиразоль вихрем пронеслась мимо меня с подносом тартинок.
– C чем это, мадам Жиразоль?
– C тапенадом, самые вкусные!
Я ухмыльнулась. Моя экономка была родом из Прованса и обожала тапенад – густую пасту из измельченных оливок, анчоусов и «тапен», так южане называют каперсы. Я дала мадам Жиразоль полную волю в том, что касалось стола, значит, тапенадом будет нафаршировано все, включая и профитроли.
Я оказалась права. Утка была с тапенадом, но очень вкусная. Мне показалось, в последнее время я стала острее чувствовать вкус еды. После ужина и пары бокалов вина я впала в некую сонную прострацию – словно меня, маленькую и сонную, укачивали чьи-то теплые всемогущие руки. Я почти не участвовала в общей беседе, тем более что ничего в ней не понимала. Часто повторялось знакомое мне имя Жана Мулена[6].
– Это, кажется, префект департамента Шартр? – спросила я точно в полусне.
Франсуа, смеясь, рассказывал, как в Париже он обнаружил, что если кого и видели с немецким коллаборационистским журналом «Сигнал» в руках, так это бойцов Сопротивления, которые использовали это издание, чтобы узнавать друг друга при встрече в общественных местах.
– Если бы немцы арестовывали всех, кто вертел в руках «Сигнал», они бы моментально подавили Сопротивление!
Все засмеялись. Рахиль наклонилась ко мне и шепнула:
– Знаешь, Сопротивление устроило мой отъезд. В одну из ближайших ночей меня с девочками отвезут в Швейцарию.
Я переводила взгляд с одного гостя на другого. Все же это очень странно – идет моя помолвка, но многих, кто сидит за столом, я вижу первый раз в жизни. И я рада этим людям, ведь у меня всегда было мало друзей, мне некого было бы усадить за этот огромный стол. Мне было приятно, что рядом со мной сидит румяная от радости Рахиль, что ее дочки увлекают меня в свои игры. И все же я скучала по Рене… Вот и Рахиль вскоре уедет, спасая свою жизнь.
– Катрина, вы грустите? Мы утомили невесту своими разговорами, – сказал один из только что представленных мне гостей. Его звали Раймон, он был высокий, симпатичный, с высокими залысинами на лбу. Вдруг я подумала, что они называются «треугольники тайного советника» и свидетельствуют о том, что их хозяин умен и хитер… Но я же не верю в лженауку физиогномику?
– Давайте выпьем за самую красивую невесту, – предложил Раймон.
Повинуясь вечному женскому инстинкту, я покосилась в огромное зеркало, висящее напротив окна. Нет, я не была красива в тот вечер. Мне не удалось уложить волосы в прическу, на щеках отчего-то выступили белые пятна, а рот выглядел странно увеличившимся – вокруг губ залегла коричневая кайма, которой я раньше не замечала.
И еще я уловила в зеркале движение. Там, за окном, в саду, кто-то был. Кто-то, кто не хотел до времени обнаружить свое присутствие.
Я наклонилась к Франсуа, он быстро коснулся губами моего виска и отвернулся, чтобы продолжить разговор. Но я потянула его за руку, заставила наклониться к моему лицу и прошептала:
– Кто-то следит за нами из сада.
В глубине души я надеялась, что он усмехнется и скажет:
«Все в порядке, дорогая, это всего лишь твое воображение».
Но он принял мои слова очень серьезно. Кивнул и шепнул что-то Раймонду. Раймонд немедленно поднялся.
– Дамы и господа, у нас незваные гости. Мадам Жиразоль, утка была прекрасна, но сейчас я предложил бы вам вернуться в кухню. Рахиль, дети – поднимитесь на чердак. Катрина, вам лучше…
– Я останусь здесь, – сказала я, сама удивившись тому, как спокойно прозвучал мой голос. – Я хозяйка дома и хочу знать, что здесь будет происходить.
– Хорошо, – помедлив, сказал Раймонд, и я увидела, как он медленно тянет из кармана тускло поблескивающий ствол.
– Не надо, – сказал Франсуа. Без голоса, одними губами. – Раймонд, тут женщины. Тут дети. Если мы начнем стрелять – они положат всех. Ты же их знаешь…
– «Они» – это полиция? – переспросила я.
– Кажется, это гестапо, дорогая. Тебе незачем волноваться. Ты не знаешь ничего. Ты пустила в свой дом и в свое сердце не того человека. Я прошу тебя стоять на этом и больше не говорить ничего. Ты меня поняла?
Я кивнула. В продолжение этого короткого диалога все присутствующие продолжали сидеть за столом. Мадам Жиразоль даже преспокойно вкушала профитроли. Моя толстуха экономка всегда была без надобности слезлива, но, видимо, в трудной ситуации способна была проявить редкое самообладание.
– Я бы все-таки настаивал на том, чтобы Рахиль ушла в спальню. Пусть уложит детей. Если нам удастся уладить дело миром…
Он не докончил. Рахиль встала, подозвала Лию и Мари и пошла к дверям. Когда она поравнялась со мной, я поняла по ее лицу, что она смертельно напугана. Но отчего тогда были так спокойны Франсуа и Раймон? Они были внутренне готовы к визиту гестапо, к аресту? К пыткам, к заключению в концлагерь и смерти? Что ж, тогда и я должна быть спокойна. Краем глаза я увидела, как Франсуа наклоняется к камину – в этот теплый вечер его разожгли для уюта. В руках у него был багорик, словно он хотел помешать угли. Я заметила, как Франсуа достает из кармана свою записную книжку, разбухшую от адресов, писем, заметок. Он бросил ее в камин и быстро засыпал пламенеющими углями. Языки огня побежали по углям, мгновенная вспышка…
Залаял Плакса. Он лаял яростно и вдруг взвизгнул и умолк. Я почувствовала, как мои ногти впились в мою же ладонь. К глазам подступили слезы. Но я не могла позволить себе заплакать. Не стоит плакать о собаке – ведь, возможно, мы все будем мертвы через несколько минут.
В дверь позвонили. Фантазия моей матери подсказала ей когда-то подвесить к дверям китайский гонг. Звук получался торжественный и печальный, исполненный значимости. Я встала.
– Я открою, мадемуазель, – сказала мадам Жиразоль. Она высоко держала голову, и я вдруг вспомнила, что ее муж был убит на этой войне, был застрелен гитлеровцами в полевом госпитале – беспомощный, прикованный к походной койке.
Она пошла в холл, я услышала звук отодвигающегося засова и ее возмущенный голос:
– Господа, что это значит? У мадемуазель помолвка… нельзя же вот такими сапожищами, господа!
Сапоги ввалившихся в столовую служителей гестапо и в самом деле были густо залеплены грязью – вероятно, они долго топтались по клумбам вокруг виллы, пытаясь что-то высмотреть или подслушать. Эти грязные сапоги находились в контрасте с аккуратной светло-серой формой, и я почувствовало, как во мне ослабла туго натянутая струна. Удивленно слыша словно со стороны свой красивый, звучный и спокойный голос, я сказала:
– Добрый вечер, господа. Я хозяйка этого дома. Чему обязана столь поздним визитом?
Вперед выступил офицер. Вероятно, он был в чинах – это я поняла по двум серебристым звездочкам и двум рядам сдвоенного серебристого сутажного шнурка на его мундире. Мать научила меня обращать внимание на такие вещи. Мама! Я должна попытаться оставить ей записку.
– Добрый вечер, мадемуазель. К сожалению, я вынужден арестовать вас. И всех, кто находится в этом доме.
– Но… почему? В чем меня обвиняют?
– Обвинить может только суд, мадемуазель. Чтобы не быть виновной еще и в неповиновении, вам следует немедленно собраться и следовать за нами. Я провожу вас в вашу комнату, чтобы вы могли взять с собой необходимые вещи.
– Но…
– Не стоит больше пререкаться, мадемуазель. Позвольте…
Он подхватил меня под локоть. Едва я ступила на лестницу, как услышала шум в гостиной – незваные гости вовсе не были так любезны с остальными. Я не оборачивалась, но боковым зрением увидела, как скручивают руки Франсуа.
И все же я была спокойна. Мы арестованы. Но мы арестованы вместе. Мы вместе или пройдем через это и снова будем свободны и счастливы, или погибнем… Ведь его могли арестовать или убить так, что я никогда не узнала бы об этом. Какая радость, что они явились именно сейчас! Именно сюда!
– Что мне взять с собой? – спросила я у офицера. – Знаете, меня раньше никогда не арестовывали. Не представляю, что мне может понадобиться в тюрьме.
Мне показалось, что по непроницаемому лицу гестаповца пробежала улыбка.
– Прежде всего, я бы советовал вам переодеться во что-то… Более практическое.
Он был прав. Платье сиреневого шелка, бледно-розовые туфельки и нейлоновые чулки оттенка чайной розы мало подходили для предстоящих мне испытаний.
– Я бы просила вас отвернуться…
Все же я была права, когда отказывала матери в просьбе выбросить «эти ужасные» американские свитера. На хлопчатобумажную блузку я надела шерстяной жакет, потом широкую юбку с большими карманами, теплую, на подкладке. Простые чулки и грубые ботинки, в которых совершала длительные прогулки по заброшенным тропинкам Сен-Клу. Я собрала в сумку документы, дюжину носовых платков и белья, взяла все наличные деньги, выгребла украшения из шкатулки, накинула пальто из верблюжьей шерсти и даже прихватила лисий палантин, словно не в тюрьму шла, а в оперу. Впоследствии оказалось, что я поступила разумно и все захваченные из дома вещи сослужили мне хорошую службу. Пальто служило одеялом в холодные ночи, колечки и браслетки обернулись кусками хлеба и масла!
И только одно кольцо я не захотела с собой брать. Гестаповец все так же смотрел в сторону. Тогда я быстро наклонилась… В паркете была щель. Кольцо, подаренное мне Франсуа, легло туда, словно в шкатулку. Быть может, оно дождется моего возвращения?
Из коридора послышался детский крик. Я бросилась к дверям, опередив офицера.
Рахиль тащили по коридору, она не отбивалась, но и не переставляла ног. Ее голова болталась, из разбитого носа на розовый шифон вечернего платья капала кровь. Поверх на нее был наброшен все тот же прорезиненный плащ, один из немцев нес ее чемоданчик, второй тащил за руки плачущих Лию и Мари. Его лицо было искажено гримасой брезгливости, он поправлял полуоторванный рукав мундира. Вдруг я поняла, что произошло – он прикоснулся к девочкам, и Рахиль, на какое-то мгновение сойдя с ума от ярости, кинулась на защиту, как волчица, защищающая своих детенышей.
Только тогда до меня стал доходить ужас происходящего. Быть может, для меня и нет смертельной угрозы – но Рахиль и ее чудесные девочки будут просто уничтожены, перемолоты жерновами войны… Кажется, я вскрикнула – не помню своего голоса, а только саднящее горло и железную руку офицера, сомкнувшуюся поверх моего плеча. Он почти волоком протащил меня через весь дом и кинул в закрытый грузовичок, где уже сидела нимало не потерявшая в достоинстве мадам Жиразоль – ни один волосок не выбился из ее прически! – девочки Рахиль, плачущие, жмущиеся друг к другу. Сама Рахиль лежала на полу. Она все так же была без сознания. Кровь у нее шла не только из носа, но и из раны на затылке. Я отерла ее носовым платком и убедилась, что там была только рассечена кожа – вероятно, ее ударили рукоятью ножа или чем-то в этом роде.
Мужчин, вероятно, посадили в другую машину. Скоро мы тронулись, и тут я вспомнила, что не оставила матери записки. Впрочем, я не сомневалась, что самое большее через три дня она пустится на поиски. Ей наверняка захочется узнать, как прошло празднование помолвки и как мне понравился подарок (а я ведь даже не открыла его, видела только логотип Тиффани на упаковке). Она вызволит меня отсюда с помощью своего любовника или всех своих любовников сразу. И Франсуа. И нашу экономку. И Рахиль – невзирая на неприязненное отношение к евреям…
Как я ошибалась!
Глава 8
Нас привезли в тюрьму Фрэн.
Тюрьма была переполнена.
В камере, куда меня привели, на восьми квадратных метрах размещалось пятнадцать женщин. Никто не приветствовал меня, никто не говорил со мной. Впоследствии я узнала, что все эти женщины были невестами, женами, сестрами членов борцов Сопротивления. Многие из них состояли в Сопротивлении сами. Разумеется, они проявили осторожность – я могла быть подослана. В дамочке с роскошным лисьим боа они увидели угрозу для себя.
Рахиль и детей я больше не видела. Я собралась с духом и спросила у одной из женщин:
– Когда меня арестовали, со мной была подруга, еврейка, и две ее дочки. Вы не знаете, куда их могли упрятать? Здесь есть еще камеры для женщин? Или для женщин с детьми?
Моя собеседница только фыркнула:
– Для женщин с детьми, как же! Вернее всего, их запрятали в подвал.
– Как в подвал? Но…
– В подвал переводят всех, кто ждет транспорта.
– Транспорта? Куда?
– В концентрационный лагерь. Она же еврейка? Вот и поедет в концлагерь.
И женщина отодвинулась от меня, словно желая показать, что разговор окончен.
Я попыталась выяснить что-нибудь у охранника, который приносил нам еду. Это был заключенный, но уголовный заключенный, как мне объяснили. Уголовники пользовались большим благоволением «нового порядка», их еще можно было перевоспитать, в то время как политические заключенные полагались безнадежными. У этого здоровенного рыжего парня руки были покрыты пикантными татуировками. На кисти была наколота женщина, указательный и средний палец были как бы ее ногами, довольно кривыми и волосатыми. Когда парень шевелил пальцами – дамочка пикантно двигала ножками. Этот фокус он проделывал всякий раз, когда я подходила к окошечку со своей миской. Потом парень глубоко зачерпывал ковшом и доставал со дна гущу. Видимо, это был нешуточный знак внимания. Тщетный – я все равно не могла есть. Я питалась только хлебом и водой, а похлебку отдавала сокамерницам. Впрочем, они все равно относились ко мне с подозрением.
Я описала охраннику Рахиль, и он обещал посмотреть.
– Хотя мне все эти жидовочки все на одно лицо. Носы – во, глаза навыкате… То ли дело ты, хорошенькая мордашка…
Пришлось проглотить грубый комплимент и даже улыбнуться в ответ. Но в тот же день мне пришла неутешительная новость – Рахиль с детьми была увезена в концлагерь Дранси.
– Что это за место? – спросила я у своего рыжего благодетеля.
– Фью-уить, – высказался он неопределенно. – Не хочешь поцеловать меня, крошка? Я ведь выполнил твою просьбу?
– Этого мало, – сказала я нахалу. – Еще мне нужно узнать, где находятся Раймонд Обрак и Франсуа Пелетье.
– Ты такая любопытная, – наигранно удивился уголовник. – Но и на этот вопрос у меня есть ответ. Их только что отвезли на улицу Соссэ, в гестапо.
– Что с ними там будут делать? – вскрикнула я.
– Пытать, – пожал дюжими плечами уголовник. – Там всех пытают. Иной раз такое оттуда привозят, что и на человека-то непохоже – так, груда кровавого тряпья. И тебе тоже туда дорога, так что спеши любить, моя дорогая… Или хотя бы плати!
Я отдала этому мерзавцу одно из своих колец. Не могла не заметить, что после нашего разговора большинство заключенных женщин прониклось ко мне сочувствием.
– Ты, оказывается, знаешь Раймонда, – сказала мне соседка. – Откуда?
– Он бывал у меня в доме. Вилла «Легкое дыхание» между Булонским лесом и Сен-Клу, слышали?
Она отодвинулась от меня, посмотрела пристально.
– О-о, так ты и есть хозяйка «Легкого дыхания»? Слышала. И о тебе тоже. Ты давала приют тем, кому некуда было больше бежать. Ты лечила раненых.
– Я?
Действительно, я помогла Франсуа. Еще был тот человек с внешностью буржуа, плотненький, в хорошем костюме. Франсуа привез его в клинику. У него голова была поцарапана пулей, я сделала ему перевязку, и он ушел.
– У тебя издавался листок «Оборона Франции», – закончила соседка. – А меня зовут Ивонна Одон. Ты не слышала обо мне?
Я покачала головой.
– Франсуа… он почти ничего не рассказывал мне. Он не хотел, чтобы я участвовала в борьбе. Он хотел уберечь меня.
– И не очень-то преуспел, верно? – горько усмехнулась Ивонна. – Вы попались, так? Я услышала о провале вашей группы раньше, чем вас привезли. Кто-то предал вас. Катрина Боннер, ты знаешь предателя?
Ее глаза жгли меня. Приветливый тон сменился на змеиное шипение.
– Ты приезжаешь сюда… Такая дамочка, куколка, в мехах, с бриллиантовыми кольцами. Тебя сажают в камеру, но не водят на допросы, не пытают… Так может, ты и есть предатель, и тебя подсадили к нам, чтобы ты втерлась в доверие? Передай этим мерзавцам – я ничего не скажу, ничего!
И она зарыдала, упав лицом на грязный соломенный тюфяк. К нам подошла еще одна женщина, постарше, и, обняв мою собеседницу за плечи, увела ее в другой конец камеры. Я увидела, что Ивонна шла с трудом. Потом пожилая дама вернулась ко мне.
– Не принимайте ее слова близко к сердцу, моя дорогая. Ивонна немало пострадала.
– Она сказала… пытки?
– К сожалению, да. Арестованных в индивидуальном порядке гестапо почти всегда пытает при допросе. У этих свиней нет ни малейшего понятия о гуманности – даже удивительно, что их нация дала миру таких гениев, как Бетховен, Моцарт, Бах…
От этой женщины, матери активного деятеля Сопротивления, в прошлом – учительницы музыки, а сейчас – узницы, дожидавшейся высылки, я узнала многое, что предпочитала бы не знать. В гестапо были в ходу пытки. Допрашиваемым пилили зубы напильниками, клещами вырывали ногти, тело жгли паяльной лампой. Пускали в ход электрический ток. Ножом иссекали кожу на подошвах ног и заставляли ходить по рассыпанной соли. Между пальцев ног зажимали смоченные керосином жгуты и зажигали их. Поджаривали пятки над углями. Держали голову под водой до тех пор, пока заключенный не начинал захлебываться. Подвешивали на дыбе и избивали – ногами, кулаками, кнутами из воловьих жил. Пытки, применяемые к женщинам, были просто невообразимо бесчеловечны и отвратительно изощренны. Одной из таких и подверглась Ивонна.
– Плохо, если повезут на улицу Соссэ, там орудуют французские подручные гестапо, они еще хуже своих нацистских патронов. Есть отделения гестапо на улице Лористон, на бульваре Розен… Но на улице Соссэ хуже всего.
У меня кровь стыла в жилах. Ночью я почти не спала – от духоты, от головной боли, от голода и страха. Так кто же предатель, думала я.
Кто знал о Франсуа?
Неужели мать?
Нет. Она не могла.
Или могла?
Ночью мне приснился брат. Это было не видение, а именно сон, как будто в нацистскую тюрьму не было хода даже призракам, даже галлюцинациям. Действие необыкновенно реального сна происходило в клинике Клиши. Он сидел в углу моего кабинета, а за столом сидел доктор Дюпон и читал мой дневник. По его лицу метались тени. Рядом стояла Спичка и грызла ногти – они у нее вечно были обкусанные, вросшие в темно-розовое воспаленное мясо. Доктор дочитал, закрыл дневник, аккуратно положил его на стол. Он обратился к Спичке, словно продолжая давно начатый разговор:
«Достаточно доложить о ее антигерманских настроениях. Ее арестуют для проверки, а там мы успеем осуществить наш план».
«Доносить ведь дурно», – прошептала Спичка.
Надо же, а у нее, оказывается, есть принципы. Вот уж не ожидала.
«Ничего подобного. Это недонесение по нашим-то временам приравнивается к соучастию в преступлении. Кроме того, ты видела ее любовника? Я мог бы поручиться, что он скрывается. Так и напишем: у нее живут подозрительные типы. А ты уж, будь добра, перестань изображать пай-девочку. Раньше надо было думать. Ну-с, я пойду на обход. Ты идешь?»
«Сейчас», – прошептала Спичка.
«Тебя замучает совесть», – сказал ей мой брат Октав, как только за доктором закрылась дверь. Спичка не смотрела на него и не слышала.
«Так ей и надо, – сказала она сквозь зубы. – Расфуфыренная зазнайка…»
«Ты не сможешь больше спокойно жить, не сможешь ничему радоваться…»
Теперь она услышала. Поколебавшись несколько секунд, она распахнула мой дневник, схватила ручку и написала поперек страницы несколько слов. Потом она бросила дневник в ящик стола и выбежала из кабинета. Октав посмотрел мне прямо в глаза, и с этим ощущением его взгляда – глубокого, печального, жалеющего взгляда я и проснулась.
И, конечно, меня повезли на улицу Соссэ. Когда автомобиль подъехал и меня повели в ворота, я украдкой оглядывалась, хотя и сама не понимала, что хочу увидеть. Вырванные зубы и ногти в сточной канаве? Ручейки крови, просачивающиеся из-под двери? Здание выглядело вполне мирно.
– Вы будете ждать своей очереди на допрос в камере временного содержания, – сказал мне сопровождающий унтер-офицер.
Камера временного содержания раньше была просто подсобкой, в ней еще сохранился запах моющего средства. Обстановка состояла из одной-единственной скамьи. Я присела на нее, но вдруг заметила какие-то бурые пятна рядом. Не знаю… Там было мало света. Но мне показалось, это была кровь. Тогда я вскочила и решила больше не садиться. Ради развлечения я вспоминала всех поэтов, которые когда-либо сидели в тюрьме, и читала вслух их стихи, посвященные этому захватывающему приключению. Я начала с Артюра Рембо, с выражением продекламировала «Тюрьму Сантэ» Аполлинера и дошла, наконец, до Оскара Уайльда:
- Мы знали только, что закон,
- Написанный для всех,
- Хранит мякину, а зерно
- Роняет из прорех,
- C тех пор как брата брат убил
- И миром правит грех…
Мне не дали дочитать «Балладу Рэдингской тюрьмы». Заскрежетал замок, дверь открылась.
– О, – сказал мне гестаповец, входя. – Многое слышал я в этих печальных стенах, но поэтические строки еще не звучали. Мадемуазель любит поэзию?
– Только поэзия и украшает жизнь. Поэзия и любовь, – сказала я, вдруг сообразив, как мне надо себя вести.
– Прекрасные слова! Но здесь не место для изящной беседы. Не угодно ли вам будет пройти в мой скромный кабинет?
Мне угодно было немедленно оказаться где-нибудь подальше от этого места, но я ничего подобного не сказала, а с улыбкой приняла протянутую мне руку. Я была рада тому, что в первый же день, очутившись в тюрьме, решила не опускаться. Я видела женщин, у которых волосы сбились в колтун; женщин, чьи чулки болтались на щиколотках, а глаза были в желтой засохшей слизи. И я дала себе обещание до тех пор, пока меня не изуродуют палачи, до тех пор, пока мое голое, обезображенное тело не сволокут за ноги куда-нибудь в общую могилу – я буду стараться пристойно выглядеть. Не исключено, что меня уводят для пытки, – что ж, я намерена держаться с достоинством до последнего.
Этого бы хотела от меня моя мать. Она бы поступила так же.
Но в комнате, порог которой я перешагнула, не наблюдалось ни дыбы, ни жаровень. Обычный кабинет – дубовый стол, кожаные диваны, портрет Гитлера над столом (до чего же отталкивающая рожа у этого их фюрера!) и легкий запах кухни. Хозяин повел носом с досадой.
– Прошу прощения, мадемуазель, здесь поблизости столовая, и с вентиляцией нелады. С вашего разрешения, я открою окно. Надеюсь, вы не попытаетесь бежать – все же третий этаж.
– C чего бы мне бежать, – пожала я плечами. – Я не чувствую за собой никакой вины, и бежать мне незачем, да еще таким… головоломным способом.
– Головоломным, – рассмеялся гестаповец. – А вы остроумны, мадемуазель, как истинная парижанка. Так значит, никакой вины? Ни малейшей?
– Я виновата только в том, что полюбила не того человека, – вздохнула я. – Я догадывалась, но сердце женщины, вы должны понимать…
– Прекрасно понимаю, – отчеканил мой собеседник. Он подошел ко мне и, раскрыв портсигар, предложил мне сигарету. На внутренней стороне крышки портсигара я увидела фривольную картинку – две пухлые дамочки играли в лошадок. Одеться они, очевидно, забыли. Хозяин портсигара слегка покраснел. Я взяла сигарету и уселась в самой изящной позе. – Прекрасно понимаю, но не могу не осудить. Как вы, женщина образованная, состоятельная, красивая… Как вы могли связаться с евреями и коммунистами?
Я распахнула глаза.
– Простите, офицер, но я не очень вас понимаю. Кто евреи? Где коммунисты? Мой дружок Франсуа… Он вор и, может быть, даже грабитель! Но совершенно не еврей, можете мне поверить!
Тут я подмигнула собеседнику. От неожиданности он сам заморгал, а потом, поняв пошлую шутку, рассмеялся.
– Он не еврей, а коммунист.
– Мне он не излагал своих политических воззрений. У нас… гм… были другие темы для беседы. Я видела у своего дома людей с какими-то узлами, вещи приносили и уносили, и я поняла, что это значит. О господин офицер, я вовсе не такая дурочка! Я поняла, что Франсуа занимается криминальными делишками, но уже принадлежала ему всецело. Я надеялась, что со временем мне удастся оторвать его от преступного мира и уехать с ним куда-нибудь, где он, оказавшись вне своей среды, откажется от своих преступных наклонностей. Но у меня не вышло, а потом этот шум, крики, гестапо… Почему гестапо? Почему не полиция?
– Потому что ваш Франсуа – коммунистический преступник. Он издавал коммунистический листок – и где! На Елисейских Полях, в непосредственной близости от пропагандштафель!
Я подумала, что неплохо было бы упасть в обморок, но здраво оценила свои артистические данные и только, прикрыв глаза, покачала головой, выражая высшую степень изумления и недоверия.
– Для коммуниста он что-то слишком любил подарки!