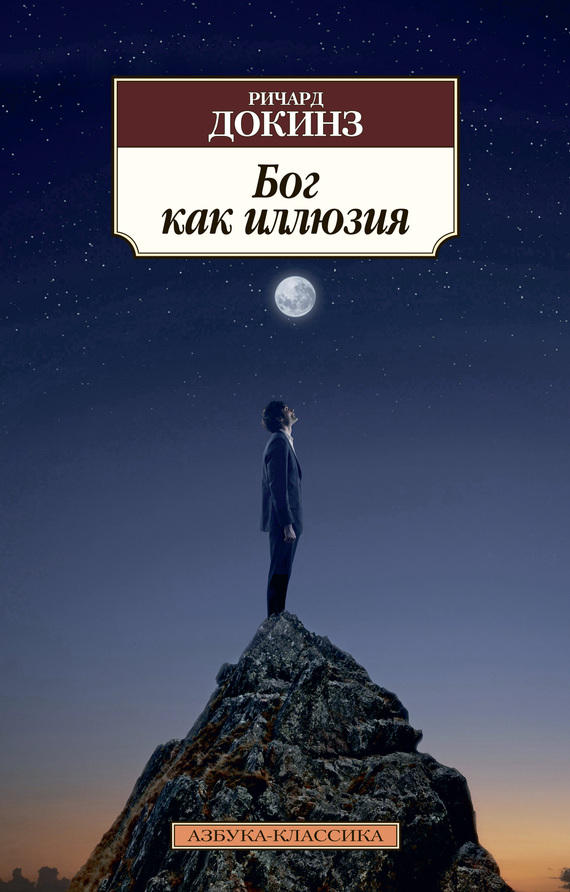Последний берег Шанель Катрин

– Обрить ее! – крикнул кто-то.
– Обрить! Обрить!
Меня спасло то, что ни у кого не нашлось с собой бритвы – думаю, именно это. Мне удалось отступить, смешаться с толпой, которая в патриотическом запале даже не рассмотрела толком своей жертвы.
– Которая? Которая тут немецкая подстилка?
– Вон та, в синем костюме! Да не в синем, а в черном!
После этого случая я почти не выходила из дома. Я утешала себя, что это даже к лучшему: вдруг Франсуа не застанет меня дома? Но он не приходил сам и не присылал писем. Зато мать просто забрасывала меня посланиями. Первое пришло из Лозанны, на бумаге с логотипом отеля «Риваж», потом из «Палас Бон Сит», «Централь Бельвю», «Ройяль» и «Савой». Зимой она звала меня в Женеву. Летом – в Уши…
«Представь себе полную гостиную пожилых миллиардеров обоих полов. Дамы в черных шелках и бриллиантах, джентльмены высовывают из цветных галстуков морщинистые черепашьи шеи… Они так стары, что называют меня деточкой… Дамы каждый день занимаются своей красотой, с утра к ним приходят косметички, массажистки, парикмахеры. Наводят марафет, подтягивают и разглаживают, полируют ногти, рисуют ало рты, взбивают кудри. Сеанс восстановления молодости занимает часа три, после чего дамы обессиленно засыпают в своих креслах. А когда они просыпаются, впору все начинать сначала… Я же отправляюсь на прогулку в горы, это дает энергию и прекрасный цвет лица. Один господин помоложе других – всего-то девяносто с лишним лет – решил мне сопутствовать, но забыл трость, из-за чего нам пришлось вернуться. Хорошо хоть ушли не далеко, не более чем на два шага…»
Я с удовольствием читала ее письма, они были полны остроумных заметок и тонких наблюдений. Иногда я думала, что моя мать и сама могла бы стать писателем, к определенному возрасту она выработала свой стиль.
«Я научила этих дам носить черное, а сама вхожу в зал ресторана в белоснежном, как снежные шапки Альп, костюме, с поддельными жемчугами на шее. Помнишь ли ты, мой Вороненок, как подарила мне нитку поддельного жемчуга? Ты всегда была моим вдохновением. Так вот, все эти динозавры смотрят на меня, и вдруг их лица изменяются, словно их озаряет солнце. Они вспоминают старые добрые времена, довоенные годы, роскошь и шик и прочую прекрасную эпоху. Они были тогда такими молодыми, всего-то семидесятилетними, вся жизнь была у них впереди! Я теперь их талисман, их богиня, их Психея – ах, и стоило так бороться, любить и страдать, чтобы стать кумиром горстки смешных стариков?»
«Знаешь, говорят, сам Петен здесь. Немцы помогли ему устроиться где-то в Швейцарии. Говорят, де Голль не хочет суда над своим бывшим полковником, ведь во время той, первой войны он сражался под его началом и даже назвал в его честь своего первенца. Генерал намекал послу Швейцарии, чтобы они не выпускали старика, если тот вздумает рваться на родину – тогда его придется отдать под суд. Что ни говори, он много сделал для Франции».
Этого матери, пожалуй, не следовало писать – временами она была так неосторожна! Но Петен все же вернулся на родину не без помощи союзников, которые не рассматривали тонких дипломатических шагов де Голля. Его дело рассматривалось в Верховном суде Франции. На всех заседаниях маршал Петен твердил, что в душе всегда был сторонником Сопротивления, что защищал родину от оккупантов, как мог, что судить его должен весь французский народ, а не Верховный суд, и наконец отказался отвечать на вопросы, предложенные ему судом. Думаю, на самом деле он хотел крикнуть, как та «горизонтальная коллаборационистка», – а где вы тогда были, герои? Подсудимый был признан виновным в государственной измене и военных преступлениях, за что приговорен к смертной казни через расстрел, общественному бесчестию и конфискации всего имущества. Но Председатель Временного правительства де Голль из почтения к солидным годам осужденного помиловал его. Должно быть, Петену не так уж плохо жилось в тюрьме, потому что он проскрипел там еще шесть лет. В тюрьмах правительства Виши узники столько не жили!
А Шанель не уставала звать меня к себе.
«Ты ведь можешь сказать на почте, чтобы корреспонденцию переслали тебе в Швейцарию? Подождешь своего американского вызова тут, тут тебе будет лучше. Знаешь, я арендовала виллу в Лютри, кантон Во. Тебе понравится этот небольшой средневековый городок, рыбацкий и винодельческий, на берегу Женевского озера. Пять минут езды от Лозанны, и ты окунаешься в удивительную тишину. Вороненок, я все время вижу тебя здесь. То ты осматриваешь кусок крепостной стены тринадцатого века, то присутствуешь в качестве гостьи на свадьбе в ратуше… Тебе понравилось бы здесь. А какое дивное вино! Правда, странно слышать это от француженки? Я полюбила Йохансберг, выпиваю не меньше литра в день и чувствую себя превосходно».
Это письмо соблазнило меня. Мне вдруг захотелось отведать этот самый Йохансберг. Пить вино на набережной с видом на Альпы, закусывать свежей рыбой, слушать голоса рыбаков и вдыхать воздух страны, не знавшей войны… Я собралась и поехала.
О своем решении я пожалела, едва переступив порог виллы – в самом деле очень миленькой, утопавшей в виноградниках. Мать намекала, что меня будет ждать какой-то сюрприз, но я не предполагала, что она считает сюрпризом… Своего любовника! Да-да, прыткий воробушек Диклаге каким-то невообразимым образом выкрутился и прискакал в Швейцарию, клевать зернышки, которые ему щедро подсыпала его подруга. Вероятно, мама и в самом деле истомилась своей бездеятельностью, если решила устроить себе жалкое подобие семейного очага!
Что ни день, они отправлялись на прогулку: то на лыжную, то на конную, то на водную. Барон был очень мил с матерью и заигрывал по-отечески со мной, но меня он раздражал, как никто и никогда. Я ненавидела его улыбку, рост, выправку, его стройную дородность – как будто он все это украл у кого-то дорогого мне.
Не выдержав бездействия, я написала в нервную клинику Вальмонт, предложив свои услуги в качестве врача. Мать расстроилась:
– Едва приехав, ты хочешь меня бросить?
– Я не ожидала, что стану участницей семейной идиллии. Признаюсь, я оказалась к этому не готова.
Ближе к старости у матери стали случаться вспышки гнева. Одна из них не миновала меня теперь.
– Ах, вот оно что! Так и сказала бы прямо – ты завидуешь, что у твоей матери есть любовник, а у тебя нет!
– Да, мама. Так оно и есть. Я завидую. Ничего не могу с собой поделать.
Согласиться с Шанель всегда было куда дешевле, чем спорить.
– Так вот что я тебе скажу, голубушка. Поезжай-ка ты не в эту дыру, как ее там зовут…
– Монтре.
– Так вот, не в Монтре, а в Сан-Франциско. Деньги у тебя есть, а если нет, то я тебе отсыплю. Найди себе там самца, знаешь, такого, с яркими губами, бугрящимся пахом и рубашкой, расстегнутой до солнечного сплетения. Заплати ему и получи наконец от жизни все, что полагается получить женщине.
– Я еще не так стара, чтобы заводить себе ручного альфонса, мама.
Я задела ее за живое. Я знала, что она платит своему барону и содержит его, а за это позволяет себе много лишнего. Однажды мне пришлось наблюдать за их ссорой. Он что-то говорил ей, она яростно отказывалась. Полагаю, речь шла о поездке в казино. Воробышек пристрастился к карточной игре, а Шанель, несмотря на авантюрный склад своего характера, совершенно чужда была азарту. Игра вызывала в ней раздражение бережливой нормандской крестьяночки – как можно бросать деньги на ветер, не покупая себе никакого удовольствия, кроме нескольких часов в чаду и духоте казино? Поэтому она отказывалась, и барон, вероятно, сказал ей дерзость, я успела заметить издалека издевательскую улыбочку, скользнувшую по его сытому, лоснящемуся лицу. Тогда моя невозможная мать подняла свой кокетливый розовый зонтик в духе прекрасной эпохи и со всей силы треснула Диклаге по плечу. А ведь она была вдвое меньше него, он мог бы раздавить ее голову своими огромными руками. Но он только рассмеялся и поцеловал ее руку, все еще сжимавшую зонт. Шанель в ответ встала на цыпочки и поцеловала его в губы, и…
Дальше я не стала наблюдать.
Она платила ему и поколачивала его – нечего сказать, многое может получить от жизни женщина, даже если она богата, независима и знаменита! Нет уж, лучше я буду заниматься делом в клинике. К слову сказать, Шпатц все же бросил мать. Он приобрел хобби, которое она не оценила, – эротическую живопись. Молодые натурщицы раздражали мать, ее мумифицированная красота не выдерживала сравнения с их цветущей красотой… И она выпроводила его. Остатки дней он провел где-то на Ибице, малюя свои полотна и впадая постепенно в слюнявое безумие.
Я уехала в Монтре, а мать решила проведать Париж, как будто ее там кто-то ждал. У нее случилась большая удача: она наконец продавила братьев Вертхаймеров, которые долгие годы фактически обкрадывали ее, отдавая ей ничтожнейший процент от продажи духов. Правда, и этот ничтожный процент многие из смертных посчитали бы невероятным состоянием, но матери этого было мало. Она планировала вернуть себе славу, планировала въехать в Париж победительницей, на белом коне или на черной машине…
– Знаешь, я больше не надеюсь на суд. Адвокаты только тянут из меня деньги, а дело не движется. Я решила сделать новые духи, такие, которые побили бы рекорд «Шанель № 5».
– Мне кажется, это просто. Позвони Бо или напиши ему. Вдруг он готов выдать миру новый шедевр?
– Вот еще! Никогда. Он предатель. Я такого не прощаю. И ты наивна, моя дорогая, о, как ты еще наивна, это просто разбивает мне сердце!
– Что ты задумала?
– Ах, солнышко, совсем не обязательно сделать духи, достаточно сказать, что ты сделал духи. Ты чувствуешь разницу? Всего лишь небольшой блеф. А обойдется куда дешевле.
– Это выйдет наружу.
Шанель щелкнула пальцами:
– Ни за что! Я умею врать. Ты забыла?
Я помнила. И мать в самом деле состряпала виртуозную ложь. Она нашла в Швейцарии молодого парфюмера и заплатила ему – немало, но и не столько, сколько заплатила бы за создание оригинальной формулы духов. Парфюмер согласился «сотрудничать» – продажная душонка! – и по секрету разболтал всем, что работает на великую Коко, что создал для нее новый шедевральный аромат, который затмит успех прелестных, но уже очень распространенных духов «Шанель № 5».
Со своей стороны и мать тоже не таилась. Она рассказывала всем своим знакомым и вообще желающим слушать, что намерена открыть фирму на имя своей племянницы Катрины Боннер и утопить весь мир в новых духах. Ах, что за колдовской аромат! Назовем его… «Коко»! Просто «Коко». Духи с таким названием обречены на успех.
Вертхаймеры занервничали. Они сильно потратились на рекламу, вложили огромные средства в расширение бизнеса. В доползших до них слухах они увидели угрозу своему финансовому благополучию. Я наблюдала за этой драмой жадности с любопытством: мне интересно было, как выкрутится мать, когда выяснится, что никаких новых духов «Коко» просто не существует в подлунном мире. Я была в некотором роде участницей этой пьесы и не последним лицом: именно от моего имени должны были продаваться новые духи. Ко мне даже приехал журналист – полагаю, шпион, подосланный Вертхаймерами. Он долго расспрашивал и разнюхивал, и я врала напропалую: сказала даже, что уже разослала пробные флаконы хозяевам многих модных магазинов и универмагов как в Европе, так и в Америке. О, все в восторге!
Мать рукоплескала мне. В кои-то веки она была мною довольна.
– Малютка, теперь ты должна поехать со мной в Париж, чтобы встретиться с этими жадными еврейчиками.
Я согласилась. Как я и думала, серьезных больных в Вальмоне не водилось – дамы с неврастениями, и только. Они только и делали, что меняли по шесть раз в день туалеты и влюблялись в своих врачей. Я мало подходила для флирта, хотя одна истеричка все-таки попыталась оказывать мне недвусмысленные знаки внимания. Пришлось сбежать в Париж: она оказалась очень настойчивой, а всякие отношения между женщинами всегда были мне отвратительны.
Во Франции я в первый же день съездила на виллу «Легкое дыхание». Я не знала, что мать сдала ее в долгосрочную аренду какой-то буржуазной семейке. Когда я увидела перекормленных бледных детей, резвившихся на крыльце, откуда когда-то увели Франсуа, заломив ему руки – а он все оглядывался, все искал меня глазами, – меня передернуло. Я плакала и не могла остановиться. Почему он оставил меня? Почему все так печально в моей жизни?
Заплаканная, я приехала на улицу Камбон и удостоилась трепки от матери.
– Вороненок, ты не могла выбрать другого времени для сентиментальных прогулок? Именно сейчас, когда мне так нужно твое участие…
Я смолчала. Скоро в особняк прибыли адвокат матери Рене де Шамбрэн и братья Вертхаймеры.
– Чего вы хотите, мадемуазель?!
Но мать голыми руками не возьмешь. Она сделала такое милое и невинное личико, словно ее только вчера выпустили из пансиона в Обазине.
– Господа, и это вместо приветствия? Что за тон после стольких лет разлуки? После того, что мы все пережили тут… Ах, я совершенно не могу продолжать беседу на подобном уровне. Не желаете ли пообедать со мной? У меня как-то пропало настроение говорить о делах.
Поль Вертхаймер покраснел так, что я решила – его вот-вот хватит инсульт. Пьер выглядел более уравновешенным. Он посмотрел на меня и ласково воскликнул:
– А это и есть малютка Катрина Боннер? Мадемуазель Шанель, на правах старого знакомого хочу сказать, что племянница удивительно похожа на свою тетушку!
– Она похожа на мою покойную сестру, а у нас с ней было просто удивительное сходство…
Мать так никогда и не отказалась от этой легенды – даже тогда, когда ее роковые секреты перестали кого-то интересовать.
– Разумеется, разумеется. Значит, юная мадемуазель намерена разорить нас, а? И у нее уже есть производственные мощности и рынок сбыта?
Этот хитрец принял условия игры. Он говорил со мной так, словно мне было не сорок лет, а пять.
– Есть, – с усилием улыбнулась я. – и аромат прекрасен, поверьте мне.
От меня не укрылось, что Пьер, приблизившись ко мне, поводит своим внушительным носом, явно полагая, что «юная мадемуазель» не преминула надушиться новыми духами. Но он ошибался. Я вообще не была надушена.
– Может быть, мы смогли бы договориться?
– Очень просто, – радостно согласилась Шанель. – Два процента от всех продаж «Шанель № 5» во всем мире. И компенсация в те же два процента за все прошедшие годы.
– Это грабеж, – простонал Поль.
Я дала себе слово не забыть дать ему врачебную консультацию. Ему нужно принимать таблетки, снижающие давление.
– Это… Разумное условие, – кивнул хитрый старикашка Пьер. – Как же в этом случае дело будет обстоять с новыми волшебными духами?
Он смотрел на меня, но я молчала, предоставив Шанель выкручиваться самостоятельно.
– Мы решим это так, – сказала она после короткого размышления. – Я завещаю формулу духов Катрине. Она выпустит их после моей смерти, если ей будет угодно. Могу оговорить в завещании, что она должна выпустить их через десять лет после этого знаменательного события.
Братья вздохнули с облегчением.
– Шампанского? – предложил пройдоха адвокат.
Мать подвыпила и с восторгом прыгала по диванам, хохоча над тем, как ловко она разыграла «этих еврейских старикашек». Кажется, она совсем забыла о собственном возрасте.
– Катрина, я хочу выйти в свет! Черт побери, давненько мы не блистали!
Блистать было негде и не перед кем. Обломки аристократии разметало бушующее море войны. Знаменитые меценаты и покровители искусств – виконтесса де Ноай, и графиня Пастре, и княгиня де Полиньяк, все бывшие клиентки Шанель – теперь уже сошли со сцены. Поэты, писатели и художники были оттеснены новой талантливой молодежью. Перед кем мать могла бы блистать своим остроумием? К примеру, Камю – активный член Сопротивления, анархист-синдикалист? Что у них могло быть общего с Сартром, чью «Тошноту» она так и не смогла осилить, как ни старалась? Или с Вианом; его роман «Я приду плюнуть на ваши могилы» она сумела прочитать, была восхищена им, хотя, как мне кажется, мало что поняла…
– Ох, Вороненок, я динозавр…
Глава 14
– Убирайся, сука! Немецкая подстилка!
Нет, это теперь не мне. Это теперь относится к моей матери. Какие-то молодые люди увидели наш автомобиль, застрявший в парижском тупичке между двух строящихся зданий, и закидали его камнями. Если это и слава, то какая-то сомнительная. Мать крутила рулевое колесо, губы ее были крепко сжаты, но в глазах стояли непролитые слезы.
– Ты думаешь, они узнали меня?
– Нет. Им всем едва по двадцать лет. Посмотри на них – низкорослые, субтильные. Это дети войны, дети оккупации. Они увидели дорогой автомобиль, хорошо одетых женщин и поняли, что женщины эти живут такой жизнью, которая им не достанется никогда. Эти мальчики ничего не могут знать ни о тебе, ни обо мне. Они оскорбили недоступное им.
Она прерывисто вздохнула.
– Я хочу уехать. Я думала, что пришло время вернуться, но слишком рано.
– Хорошо, мама, – согласилась я.
В Швейцарии она сделала новую безумную покупку – виллу на холме над городком Совбален. Со смотровой площадки видны были Альпы и озеро Леман, и воздух был прекрасный. Но построена вилла была плохо, водопровод в ней никуда не годился, и что-то не так было с вентиляцией – стены отсыревали, капало с потолка. Шанель не теряла оптимизма и пыталась приукрасить свою неудачную покупку, как могла – сначала при помощи своих излюбленных раззолоченных ширм, потом призвав целую армию маляров и обойщиков. Но все было тщетно. От сырости у матери стали распухать суставы, она впервые пожаловалась на боли в сердце. Я стала волноваться за нее.
– Я перееду в какой-нибудь отель. Знаешь, жизнь в отеле хороша тем, что всегда можно завести новое знакомство. А на вилле сидишь себе и поджидаешь, словно паучиха в паутине, когда кто-то из старых друзей пожалует на ужин…
– Тогда тебе, может быть, захочется пожить в Вальмонте? Уж чего-чего, а новых знакомств тебе туда привезут.
Мать посмотрела на меня с подозрением. Она опасалась клиник, недолюбливала врачей и не любила лечиться. Каждый раз, навещая меня на месте моей службы, она выглядела так, словно боялась: вот сейчас ее свяжут и запрут в обитой войлоком комнате… до конца дней.
Виллу она оставила своему племяннику Андре. На мой взгляд, кузена, который так и не вылечил окончательно туберкулез, эта вилла должна была доконать. Но он удачно перестроил этот несчастный дом, а матери в Вальмонте понравилось. Особенно после того, как она убедилась, что публика и в самом деле аристократическая, а связывать ее никто не собирается. Она обладала завидной для своего возраста энергией, но нервы у нее были расшатаны. Мать неспособна была сосредоточиться, а ведь когда-то это было ее коньком. Я пыталась составить для нее режим дня, и она подчинялась на время: легкий завтрак, просмотр корреспонденции, прогулка пешая или автомобильная, в зависимости от самочувствия, потом визиты. К обеду приезжали гости, но чаще мать уходила к себе, не дожидаясь десерта. Ею овладевало нервное раздражение, она пыталась прилечь и отдохнуть, но словно внутренняя пружина, разжимая тугие кольца, подбрасывала ее над кроватью. Она садилась за руль и снова мчалась куда-то – то в ресторан «Сосновая шишка», несмотря на то, что полчаса назад обедали, или просто в пивную, где танцевали под звуки музыкального автомата, проигрывавшего сентиментальные песенки, то в гости к баронессе Мэгген ван Зюйлен де Ниевельт де Хаар. Это была совершенно безумная дамочка, чья кровь была подпорчена близкородственными связями нескольких поколений и которая лелеяла мечту выдать свою бледную и золотушную дочь баронессу Мари-Хелен за Ги де Ротшильда, который, конечно же, тоже приходился им родней. Дамы целыми ночами напролет попивали дижестивы и обсуждали жизнь дворянства. Полагаю, мать пыталась щеголять своими знакомствами в самых высших кругах, потому что именно после такой вечеринки она заявила мне:
– Знаешь, Вороненок, я хочу написать мемуары.
– Вот как? – вежливо отреагировала я.
Мать приехала в клинику на рассвете. Чудо было, что она не попала в автокатастрофу – прославленная Шанель была под хмельком. Я воспользовалась ее отсутствием, чтобы поработать, мне хотелось написать небольшую статью на острую тему. В то время шел судебный процесс над нацистскими преступниками, вырабатывался так называемый Нюрнбергский кодекс, и мне хотелось сказать кое-что о правах и свободах человека в психиатрии. Я засиделась до рассвета и уже мечтала, как лягу в прохладную постель и вытянусь, но тут приехала Шанель и попросила меня помассировать ей ступни.
Я массировала, но сил поддерживать беседу у меня не осталось.
– Ведь я сыграла не последнюю роль в жизни своей эпохи, так?
Я поняла, чего от меня ожидают.
– И продолжаешь играть. Я уверена, имена политических деятелей, которые сейчас ведут большую игру, через сто лет забудут, а тебя будут помнить.
– Через сто лет! Я не смею заглядывать так далеко. Знаешь, мне просто хотелось бы снова привлечь к себе внимание. Напрасно меня сбросили со счетов. Пока я жива – я способна на многое.
– Не сомневаюсь, – пробормотала я, массируя ее ступню. Ноги у мамы были молодые, не изуродованные косточками и отложениями солей, крошечные, с ногтями, отливавшими вишневым лаком.
– И ты мне поможешь.
– Я?
– Ну конечно. Ты же пишешь статьи. И вообще – много времени отдаешь литературе.
– Мама, ведь я пишу научные статьи. Это другое. И я не отдаю много времени литературе, я просто люблю читать.
– А я что сказала?
Она была непробиваема.
– Ты любишь петь, но ты смогла бы написать оперу?
– Я тебя поняла, – вздохнула Шанель и встала. – Тебе просто не хочется. У тебя нет на это времени. Что ж, я найду человека, который на это согласится. Почтет за честь!
Лучше бы я согласилась тогда – все равно этим кончилось.
Мать сначала отыскала какого-то писателя, который называл себя философ-экзистенциалистом. Я не помню его имени, потому что его сотрудничество с матерью оказалось милосердно коротким – он решил поразить ее авангардным стилем письма, которого она не поняла. Потом она забрасывала телеграммами Реверди, умоляя его приехать и поправить свое здоровье, а попутно увековечить свою былую возлюбленную. Но, вероятно, он ответил отказом. Переписка увяла.
Тогда она остановила свой выбор на господине Моране. Он был образованным человеком, учился в престижных парижских лицеях, закончил Оксфорд, водил дружбу с Прустом и Кокто. Пруст написал предисловие к его первому сборнику рассказов, и сборник получил известность – хотя я-то полагала, что все дело в предисловии. Он писал длинно, скучно и много. В общем, Поль Моран был обычным графоманом. Но в сорок втором он подвернулся под руку вишистскому правительству и был отправлен послом Франции в Румынию. Из Румынии его выгнало наступление русских, и он спрятался в Швейцарии. Теперь он, так же как и мы, был изгнанником, прозябающим вдали от родины, и вокруг его скучной головы витал мученический нимб. Он продолжал писать, в основном эссе и портреты великих современников. Книги его продавались плохо, и Моран едва ли не бедствовал. Возможно, мать пожалела его…
Они стали вести долгие разговоры в гостиной – потихоньку расходились пансионеры и обслуживающий персонал, пригашали верхний свет, а они все говорили и говорили. Вернее, говорила мать, прикуривая одну сигарету от другой, время от времени делая глоток минеральной воды, то повышая, то понижая свой прекрасный хрипловатый голос. Она могла быть очаровательна в такие минуты, и я не удивлюсь, если Моран влюбился в нее по уши. Его книга, которую я прочитала через много лет, носила на себе следы и его графомании, и его влюбленности. Она беспомощна, но беспомощна по-хорошему, словно он считал себя не вправе украшать натуру Шанель своими жалкими художественными методами. Кажется, мать скоро разочаровалась в нем, хотя он еще долго ходил к нам обедать – высокий, в тщательно отчищенном бензином костюме, с обмахрившимися манжетами сорочки… Мне было жаль его, но вскоре его дела пошли на лад, и он умер членом Французской Академии наук. Помню, как я, войдя в гостиную, поймала на себе его взгляд… Вдруг он ласково улыбнулся мне и прикоснулся кончиками пальцев к моему локтю, словно хотел ободрить. И тогда я поняла, что мать рассказала ему обо мне. Его робкая дружеская ласка тронула меня…
Следующей жертвой матери стала Луиза де Вильморен. О литературных талантах этой дамы я ничего не знаю, потому что никогда не читала любовных романов – это Шанель зачитывалась ее романами. «Кровать с балдахином», «Жюльетта», «Госпожа де…» Мне всегда казалось, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на подобное чтение. Но что я знала точно – что Луиза была изумительно красива искушающей, нежной красотой. Когда-то она была любовницей и невестой Антуана Сент-Экзюпери, но покинула его. Теперь же она спала с британским послом Купером, и с леди Купер тоже.
– Мне казалось, женщины подобного стиля жизни тебе неприятны, – поддела я Шанель.
– О да. Но Луиза такая приличная дама. Что значит воспитание – женщина может вести себя как ей угодно и все равно быть принятой в любом обществе. Хороша собой, воспитанна, талантлива, она может позволить себе многое…
Могла бы позволить себе многое – но была, увы, на мели. Чета Куперов не баловала свою любовницу подарками, состояние, оставленное ей покойным мужем, успело истощиться, а гонорары за романы не покрывали потребностей этой фарфоровой куколки. Шанель обещала ей деньги, и Луиза согласилась.
– Я уверена, что гонорар за издание мемуаров позволит мне окупить эти траты, – высказалась мать.
Увы. Шанель могла быть предельно откровенна с Мораном, с его грустным взглядом и обтрепанными манжетами. Но откровенничать с женщиной, с молодой и красивой соперницей, ей показалось невозможным, невероятным. Как могла, она приукрашивала прошлое, стирала, словно влажной губкой с доски, часть воспоминаний и на их месте писала новые. Она утверждала, что ее родители были зажиточными фермерами; что она воспитывалась у крайне набожных тетушек; что прозвище Коко ей дал ласковый папенька… И ни слова о кафешантане, ни полслова о магазине готового платья, где над крошкой Коко, над ее субтильной фигуркой смеялись дородные покупательницы! Она убавила себе десяток лет, а о моей скромной персоне речи вообще не шло. Любовники, дававшие ей деньги на мастерскую, превратились во внимательных и почтительных поклонников. Случайные связи превращались в нежную дружбу. Ошибки приукрашивались. Разочарования отметались. Горечь жизни становилась пикантной. Была, разумеется, в этих рассказах и щемящая искренность, но настоящей жизненной правды не было. Впрочем, способна ли была автор «Кровати с балдахином» написать настоящую правду?
Мать снова связалась не с тем человеком. Она очень рассчитывала продать рукопись в Америке и улетела в Нью-Йорк с волюмом своих мемуаров, не сказав мне ни слова. Просто сбежала, как Сандрильона на бал. Меня беспокоило, как она перенесет отказ, в котором лично я не сомневалась.
Но Шанель была куда крепче, чем я о ней думала. Она сумела не только легко отнестись к отказу, но и свалить вину на Луизу. Любимая подруга, талантливая писательница и воспитанная женщина в мгновение ока обратилась в собственную противоположность. Теперь она была бездарна и безнравственна. Вильморен кротко снесла критику и вернулась под крылышко к Куперам, даже не огрызнувшись на свою покровительницу. Полагаю, она не была такой уж безответной овечкой, просто ей смертельно не хотелось возвращать матери те деньги, которые она перебрала у нее в качестве аванса. А мама и не думала требовать их назад.
– Я поставила не на ту лошадку, это бывает, – сказала она мне. – Я ошиблась. Я должна напомнить о себе по-другому. Я создам новую коллекцию и вернусь в Париж с триумфом, поверь мне, дитя мое. Кто у нас нынче там за мэтра моды?
Еще пока не за мэтра, но вот-вот уже должен был прогреметь Кристиан Диор. Этот человек был во всем противоположен Шанель. Она выросла в бедности – он был богат с рождения. Она не получила образования – он готовился к карьере дипломата. Возможно, было нечто, сближавшее их. Когда-то Шанель поймала носившуюся в воздухе идею и воплотила ее в жизнь. Теперь то же самое сделал Диор. Но идеи были противоположны друг другу.
Шанель освободила женщин. Диор снова закрепостил их.
Мы не были на том прославленном показе, состоявшемся на авеню Монтань в начале февраля. Но его достаточно хорошо осветили журналы. Патрон Диора, текстильный фабрикант Бюссак, не поскупился на рекламу. Он вложил в «начинающего» сорокалетнего кутюрье шестьдесят миллионов франков и намеревался вернуть себе все до последнего. Ему льстили модели своего подопечного, на каждую из которых уходили десятки метров самых дорогих тканей. Почва была подготовлена заранее, хитроумный Бюссак заранее проплачивал «случайные» слухи: говорят, первая коллекция Диора станет откровением. А кто такой этот Диор? Ну, как же, он еще работал у Лелонга! Мало кто проигнорировал приглашение.
Мать читала «Харпер» и «Вог» и поскрипывала зубами.
– Ты посмотри, что пишет эта ведьма Беттина Баллард! «Именно этого все ждали тогда от Парижа. Не могло быть более подходящего момента для появления Наполеона, Александра Великого, Цезаря моды. Ей нужна была твердая рука мастера, потрясение, новое направление. Никому не удавалось завоевать нас так легко и бесповоротно, как это сделал Кристиан Диор». Никому! А мне? А Кристина Сноу еще хлеще: «Диор спас Париж так же, как Париж был спасен в битве на Марне. Все говорят о перевороте в моде, но это всего лишь возвращение к норме и хорошему вкусу. Диор вернул в моду романтический и женственный образ. Он возрождает традиции великой роскоши во французской моде. Диор говорит нам: «Европа устала от падающих бомб. Теперь ей хочется зажигать фейерверки». «Нью-Йорк геральд трибюн» – «Диор превращается в чародея, становится идолом моды, создает сказочные наряды, навеянные Ватто, Веронезе, Винтергальтером». Что случилось с хваленым американским здравомыслием и практичностью? – Мать отшвырнула в угол газеты. – Как будто раньше не было хорошего вкуса!
– Мама, все эти журналисты не имели намерения оскорбить тебя. Они вовсе не имели тебя в виду. Ты выпустила последнюю коллекцию перед войной. Напротив, тебе надо бы радоваться: скорее всего, они говорят о Скиапарелли.
Я кривила душой. Нелюбимая матерью итальянка уехала в Америку перед войной. Ее платья с омарами и шляпки в виде яичницы уже ушли в прошлое. Вряд ли кто-то вспоминал бы их иначе, чем курьез. Скиапарелли отозвалась на войну выпуском практичной и вместе с тем очень концептуальной одежды, создав линию «Гони наличные и забирай». На юбках были огромные карманы – разве не юбка Скиапарелли была на мне в тюрьме? Да, да, именно так. А еще она выпустила косынки с выдержками из закона о режиме экономии: «Понедельник: без мяса. Вторник: без спиртного. Среда: без масла. Четверг: без рыбы. Пятница: без мяса». Прямая юбка длиной до пят, зато с высокими разрезами вдоль бедер, с защелками-«пажами». Велосипедистки надевали под эти юбки разноцветные велосипедные бриджи. И только в названиях своих моделей она сохранила экстравагантность: «Линия Мажино», «Иностранный легион», «Серый самолет»… Я узнала, что она жалела о своем бегстве в Америку и, чтобы успокоить совесть, решила стать там медицинской сестрой. После курсов она устроилась работать в госпиталь, куда попадали с улиц опустившиеся, отчаявшиеся люди: наркоманы, самоубийцы, бездомные. Скип мыла полы, выносила судна, обрабатывала отвратительные гниющие раны. Она сделала карьеру операционной сестры и только тогда решила, что имеет право вернуться в приютившую ее Францию. На свою беду, я рассказала об этом матери, и та смертельно разобиделась:
– Мне тоже нужно было мыть американских бездомных? Ты это хотела сказать?
Теперь она только торжествующе улыбнулась и, успокоившись, снова взялась за журналы:
– «В ход идут самые лучшие ткани: шерсть, шелк, шифон и бархат. В облегающий фигуру лиф и широкие нижние юбки вшиты пластины китового уса. Глубокое декольте открывает плечи, и его форму поддерживает проволочный каркас. Грудь нимфы, талия Сильфиды и юбка из тысячи складок, на которую пошло 80 метров белого фая, водоворотом ниспадающего чуть ли не до щиколоток. Это полный разрыв с военной модой, это смелый шаг, это новый взгляд, это Диор!» Право же, не стоило столько лет раскрепощать женщин, чтобы они так охотно снова попали в капкан из китового уса. Это Диор, он гомосексуалист, я ручаюсь, или он серьезно болен. Он боится женщин и боится всего на свете вообще, он сам хотел бы смотреть на жизнь из клетки, чтобы она не тронула его. Пф-ф, не могу поверить, что он нормандец!
Иногда мать проявляла потрясающую проницательность. Да, Диор был как раз таков – маменькин сынок, пугливый, мягкотелый, мечтательный и вежливый. Знающие его люди утверждают, что он был одинаково любезен с уборщицами и с лучшими заказчицами. Он любил вкусно поесть, ненавидел одиночество и был до крайности суеверен. Он окружал себя избранными людьми, стараясь спрятаться за их спинами от несовершенства этого мира. У него была личная гадалка, без консультации с которой он не начинал ни одного дела. В пятьдесят первом году мне случилось консультировать его по поводу обострившегося тревожного расстройства личности. У господина Диора случались мучительные панические атаки. Он был подвержен агарофобии[8]. Порой Диор не мог преодолеть даже расстояния от автомобиля до подъезда. Повсюду его сопровождали его шофер и постоянный любовник Перротино и его гадалка, госпожа Делахайа. Шофер был смазливым, но уж очень разжиревшим итальянцем, Делахайа – типичной шарлатанкой, напыщенной, напускающей на себя этакий мистический флер. Эта парочка произвела на меня тяжелое впечатление. Они казались неопрятными, сальными. Мне пришло в голову, что они обирают господина Диора и запугивают его, чтобы пользоваться его состоянием. Скорее всего, так оно и было, потому что, невзирая на психотерапию и применение самых новых лекарств, состояние его не улучшалось. Он вздрагивал от резких звуков и настаивал на том, чтобы все, кто приходил к нему домой, надевали меховые туфли. Но больше всего Диор боялся звука летящего над городом самолета. Он говорил:
– Я уверен, что у меня больное сердце. Оно все время куда-то проваливается. Но я не хочу идти к врачам, не хочу узнавать, что со мной. Мне кажется, как только я узнаю правду, я сразу упаду и умру. Только потому и могу жить дальше, что не знаю.
Он был очень мнителен, и я думала, что у него просто кардионевроз и переутомление. Диор слишком много работал, открывал филиалы в разных странах, изобретал специальные модели для своих салонов в Лондоне, Нью-Йорке и Каракасе, ориентированные на потребности и пропорции фигур местных покупательниц. Разрабатывал около тысячи оригинальных моделей в год. И его личная жизнь была непроста – ему не отвечали взаимностью, его обирали и обманывали, над ним смеялись. Его погубили сердечные дела, и в прямом, и в переносном смысле. Диор влюбился в чернокожего юношу, бредил им и мечтал произвести на него впечатление. Почему-то он решил, что для этого ему нужно похудеть. Диор отправился на специальный курорт, где изнурял себя долгими прогулками, занятиями на тренажерах и клизмами. Там он и умер от сердечного приступа. Ему было всего пятьдесят два года.
У меня остался на память о нем огромный сувенирный флакон духов «Мисс Диор». Говорили, что в этом аромате Кристиан воплотил память о своей матери, нежной, утонченной даме, о единственной женщине, которую он любил и не боялся. Я не пользовалась этими духами, потому что боялась собственной матери – что, если она приревнует меня к чужому парфюмерному гению? Но со временем Шанель стала относиться к Диору много лояльнее, мне кажется, она тоже попала под обаяние его личности. В то время, когда он лечился у меня, мама даже приказывала кланяться ему от нее. Я ни разу не передала поклона – опасалась, что мнительному Диору это будет неприятно.
Глава 15
Странно, но письмо из Америки все же пришло. Написал его человек, о котором я не забывала никогда во все эти годы.
«Дорогая Катрина, помните ли вы меня? Это доктор Карл Бирнбаум, психиатр из Германии, с которым вы когда-то исследовали один очень интересный случай анорексии – в Баварии, в деревушке Коннерсрейт. Как-то теперь наша Тереза? Не могу узнать, потому что воспользовался вашим прекрасным советом и удрал из Германии раньше, чем там запахло жареным. Теперь я живу и работаю в Филадельфийском институте психиатрии. Не мог вас найти, пока не увидел вашу статью о переходе от фрейдистской традиции к биологическому подходу в психиатрии. Великолепная статья, и есть о чем поспорить. Приезжайте, Катрина. Америка – страна великих возможностей, особенно сейчас, когда война кончилась. У нас тут затевается прелюбопытнейшее исследование, и как раз по теме вашей статьи… Вечно ваш Бирнбаум».
Какие дальние-дальние дни вспомнились мне, когда я дочитала письмо! Я вспомнила и Терезу, нашу милую святую, которую я, наглая и самонадеянная девчонка, пыталась загипнотизировать, но вместо этого сама оказалась под ее гипнозом. Тереза ничего не ела тридцать лет, у нее были стигматы, ее посещали видения – она стала свидетельницей многих сцен из Евангелия и Деяний Апостолов. Тереза каждую пятницу претерпевала Христовы муки, умела определять подлинность реликвий и святынь. Она исцеляла молитвами и обращала в веру еретиков. Что ж, я могла бы рассказать Карлу, как она поживает теперь. Она пережила гитлеровский режим, войну, разруху, издевательства и гонения. Гитлер преследовал всех, кто писал о Терезе, но поднять руку на церковь не решался, хотя унижал женщину и издевался над ней, через нацистскую прессу заявляя, что она якобы представляет собой угрозу «народной гигиене и просвещению». Звучали требования подвергнуть ее новому обследованию. Семья Терезы была настроена решительно против этого – к тому времени врачи уже достаточно измучили Терезу, и их дальнейшие планы в ее отношении (например, срезать стигматы и взять их на обследование в лабораторию, кормить внутривенно или через зонд) могли внушить только ужас. Не говоря уже о том, что на языке нацистских докторов «обследование» чаще всего являлось деликатным эвфемизмом «эфтаназии». Сама Тереза кротко выражала готовность подвергнуться любому обследованию, если на то будет повеление церковных властей. Но церковные власти на это не пошли, а Гитлер не стал настаивать. Полагаю, что он не так боялся лишиться поддержки церкви, сколько опасался самой Терезы. Как все неуравновешенные типы, он был до крайности суеверен. Впрочем, жители Коннерсрейта утверждали, что в деревушку то и дело присылали шпионов. Одна из них, приехавшая под видом учительницы математики, была просто-таки возмущена непатриотичным образом жизни коннерсрейтцев. При встрече они смели говорить друг другу: «Благословен будь Господь наш Иисус Христос» и отвечать «Аминь», а не выкрикивать «Хайль Гитлер». Тереза же настолько зарвалась, что вообще запретила произносить при себе имя фюрера, и даже не узнавала его на портрете, но и это сошло ей с рук. Нацисты отважились расправиться с Терезой только после капитуляции Германии, когда им нечего было терять. Американская армия подошла вплотную к Коннерсрейту, и отважные войска фюрера решили выместить досаду поражения на Терезе. Ее дом был окружен, эсэсовцы ворвались в дом, но комната прославленной пророчицы была пуста и прибрана. Родственники клялись, что ничего не знают. Тереза, предвидя визит военных, заранее укрылась в тайнике, который устроил священник под церковью – для хранения церковной кассы и особенно важных документов. И документом, и драгоценностью – всем была Тереза для Коннерсрейта, и с ней укрыли еще четырнадцать детей… Разъяренные нацисты вывели танки из города на ближайший холм и оттуда обстреляли деревушку – наскоро, потому что американцы вступили в бой. Но все же большая часть домов была разрушена, всюду пылали пожары. Тереза еле успела вывести детей наружу через запасной выход. И церковные ценности, и архивы погибли в огне. В числе сгоревших бумаг был и архив, касавшийся самой Терезы – итоги практически ежедневных наблюдений за ней в течение более чем тридцати лет. К счастью, это был не единственный источник документированных сведений о стигматичке из Коннерсрейта – я сама писала о ней и напишу еще.
Я ответила Бирнбауму, что готова приехать.
Мать устроила мне небольшую сцену.
– Ты заманила меня в эту клинику, а теперь уезжаешь, чтобы они меня тут залечили до смерти?
– Мама, что ты говоришь. У тебя достаточно денег, чтобы купить себе жилище в любой части света. Почему ты так полюбила строить из себя бедную сиротку?
– Вероятно, с возрастом я стала больше ценить семейные узы, моя дорогая. А вот ты напротив. Кстати, этот твой доктор – он еврей? Ты же не выйдешь за него?
– Я не выйду ни за кого. Хватит с меня матримониальных планов. Скажи, ты не хотела б напоследок произвести небольшую увеселительную поездку? Развеяться?
– Хорошо. А куда именно ты бы хотела отправиться?
– В обитель сестер милосердия, где я выросла.
Мать посмотрела на меня искоса, словно хитрая птица:
– Странное у тебя представление об увеселительных поездках.
И все же мы поехали – вдвоем, как я всегда мечтала. И по дороге я рассказывала матери о своем детстве. О том, как добра была ко мне сестра Мари-Анж.
Шанель сдвигает черные брови:
– Эта монашка заменила тебе мать, не так ли? Я буду очень рада познакомиться с ней. Надеюсь, она не похожа на тех сестер, что воспитывали меня. Все они были отвратительными грымзами, помешанными на чистоте и дисциплине. Оно бы и неплохо – да только в их сердцах совсем не оставалось места для любви…
– Она тебе понравится, – обещаю я.
Я рассказываю ей о гипсовой фигурке святого, которую я обожала. Ее разбила вредина Виржини, и для меня это было первой утратой, настоящей утратой. А сейчас уже даже не помню, что это был за святой.
– Это хорошо, моя дорогая. У тебя легкое сердце.
– Что это значит?
– Не могу объяснить. Но мы с тобой с легкостью прощаемся с прошлым и всегда смотрим вперед. Нет ничего хуже для женщины, чем застрять сердцем в прошлом.
И я рассказываю ей об Октаве, которого вижу и сейчас.
Шанель долго молчала.
– Ты звала его Октавом?
– Да. Наверное, в детстве услышала это имя, и оно мне понравилось.
– Возможно. Или ты вычитала его в какой-нибудь старой книге. Похоже на имя какого-то романтического героя. Скажи, ты не обижена, что я не проявляю никакой привязанности к… к Октаву?
– Нет. Ты ведь совсем не знала его. Я знала его больше, чем ты. Хотя я знала только призрак, но он всегда мне помогал.
– Должно быть, страшно видеть мертвеца?
– Для меня он никогда не был мертв. Кого страшно было видеть, так это того доктора-наци, который исследовал связи между близнецами. Он убивал их медленно, и все, что смог доказать, – что эта связь не прекращается даже после смерти одного из них. Вероятно, наши души едины, и после смерти сольются в одну… А изучение медицины помогло мне понять: Октав, который видится мне, – это выведенная вовне фантазия, которая служит облегчающим механизмом. Проще говоря, он помогает мне преодолевать вину.
– Ты-то в чем виновата?
– В том, что осталась жить.
– C этим трудно поспорить. Знаешь, вероятно, я вообще не создана для материнства, Вороненок. Но я всегда хотела иметь сына. И когда ты в следующий раз увидишь Октава – скажи ему, что я любила бы его, если б он остался жить.
– Хорошо.
– Ты обиделась?
– Нет. Ведь я-то осталась жить.
Вот и стены монастыря. Они изменились, словно уменьшились, в них стало больше трещин, из трещин растет трава. Монахиня, чьего лица не разглядеть, выходит из ворот и идет по тропинке в рощу. Там, я знаю, бьет родник с удивительно вкусной и холодной водой, которая пахнет травяной свежестью. Для хозяйственных нужд воду берут из колодца на территории монастыря, но воду, над которой свершится потом таинство освящения, набирают именно из родника. Так и есть – монахиня несет в руках церковный сосудец с крестом и сердцем. Видимо, у нее хорошо на душе, она идет почти вприпрыжку и даже напевает что-то…
– Сестра!
Она замедляет шаг.
– Сестра Мари-Анж!
Она останавливается, и я спешу, бегу к ней, словно мне снова пять, семь, девять лет. Но ее лицо… Что с ее лицом?
Она доброжелательно улыбается, глядя на меня. Круглые розовые щеки, круглые ясные глаза. Эта сестра совсем молода, она даже не похожа на Мари-Анж. Только легкой походкой и жестом, которым она приветствует меня, округло поводя рукой, словно охватывая свои владения.
– Вы не узнаете меня?
Я качаю головой.
– Когда-то вы перевязали мне колено. Помните?
Я помнила, очень смутно, не лицо девочки, а рану на ее ноге. Рана была глубокая, но девочка не жаловалась. У нее была другая рана, в душе. Ее мать умерла, и она тоже хотела умереть. Хорошо, что она передумала.
– Вы дали мне платок, чтобы я вытерла слезы. Он пах чудесными духами, и я любила его нюхать. Я ждала, что вы вернетесь, чтобы отдать вам его. Сестра Мари-Анж говорила, что вы непременно вернетесь.
– А где она? – осторожно спрашиваю я. Но я уже знаю ответ. У этой серой сестры такое славное лицо. Она не хочет приносить дурные вести. Она машет рукой туда, где, я знаю, раскинулось маленькое кладбище – на нем хоронят только сестер и пансионерок.
– Она покинула нас сразу после войны, – говорит сестра. – Она совсем не хворала, просто время ее пришло. Когда война кончилась, в ней тоже словно кончилось что-то. Как будто сестра Мари-Анж только и ждала того момента, когда немцев прогонят, чтобы упокоиться с миром.
Я чувствую, как во мне поднимается протест. Она не должна была умирать, не повидавшись со мной! Она должна была быть здесь всегда, чтобы я в любой момент могла упасть лицом в складки ее серого платья, пахнущего лекарственными травами, и выплакать свою боль, свое разочарование.
– Она была уверена, что вы придете, – говорит сестра. – И даже оставила для вас кое-что. Очень просила меня передать. Она заменила мне мать, и не мне одной… Знаете, во время войны она прятала в монастыре еврейских детей.
Я кивнула. Откуда-то я знала это.
– Пойдемте внутрь, – пригласила монахиня. – Меня зовут Мишель. Сестра Мишель.
– Я помню, – сказала я, хотя и не помнила.
– И приглашайте вашу спутницу. Это ваша мать?
– Моя тетя, – зачем-то солгала я.
Я не могла сказать этой девочке, ставшей монахиней, что у меня есть мать.
Нас поили молоком и угощали свежими пирогами с черникой. Шанель осматривалась. Я чувствовала, что ей не по себе, и в то же время – что она в восторге от этого приключения. Сестра Мишель отвела нас на могилу Мари-Анж, а затем – в подземную молельню, где во время оккупации монахини прятали еврейских детей.
– Мы слышали, нацисты за это могут повесить. Но все равно принимали детей. Мы не понимали, что делать, пока наш архиепископ монсеньор Сальеж не осудил депортацию евреев как акт бесчеловечной жестокости и грех. Монсеньор был так смел, что упрекнул духовенство в том, что оно уступило нацизму… Я слышала это послание. Оно было прекрасным. Монсеньор говорил: «Почему в наших церквях больше не действует правило убежища? Почему мы сдались? Господи, сжалься над нами!» Сестра Мари-Анж сказала нам, что монсеньора убьют в его собственной постели, и велела молиться за него, но он был слишком заметным человеком, и его не тронули. Он говорил вещи, которых никто не смел сказать – что в нашей стране наблюдаются сцены неописуемого страдания и ужаса; что в Париже с десятками тысяч евреев поступают самым варварским образом, что с мужчинами и женщинами обращаются как с животными… Во имя христианской совести он объявил протест и заявил, что все люди – братья, созданные одним Богом, что нынешние антисемитские меры являются нарушением человеческого достоинства и священных прав человека и семьи. Теперь Папа повысил архиепископа Сальежа в сан кардинала. Кардинал Сальеж успел поблагодарить сестру Мари-Анж за все, что она сделала для гонимых. Она очень страдала за этих детей… Она знала, что многие из них больше никогда не увидят свою семью. Их приводили ночью, и матери плакали, прощаясь с ними. А когда в обитель пришли солдаты, сестра Мари-Анж сказала нам, что если нацисты захотят убить детей, то им придется сначала убить всех нас. И мы собрались в часовне и начали молитву, и солдаты не тронули никого… Они просто ушли.
Ее звонкий голос странно звучал под каменными сводами. Я посмотрела на мать – у той в глазах стояли слезы. И я поняла, что мы правильно сделали, приехав сюда.
Сестра Мишель передала мне маленький сундучок с пещерой Массабьель[9] на крышке – такие сундучки любят привозить паломники в качестве сувениров.
– Она просила отдать вам, когда вы приедете.
В сундучке лежала кукла, когда-то подаренная мне матерью, – большая будуарная кукла в черном вечернем платье, в шляпке-колокольчике. В уголке ее красного рта лихо торчала папироска в мундштуке. Блестящие глаза куклы, сделанные из черного агата, слегка потускнели, но я протерла их платком, и они снова весело сверкнули. С длинной шейки свисала нитка поддельного жемчуга, с запястья – бархатный мешочек. Я заглянула в мешочек и со смехом показала матери маленькие ножницы и миниатюрный флакончик духов «Шанель № 5».
– Это первого, самого первого выпуска, – ахнула мать. – Какая ценность! Храни.
Сестра Мари-Анж оставила мне свой молитвенник – сильно истрепанный, в потертом кожаном переплете. На последних страницах, где были оставлены чистые страницы, я увидела свое имя, написанное рукой Мари-Анж. Она молилась за меня всю жизнь…
Вдруг я услышала, что сестра Мишель разговаривает с матерью. Оказывается, она узнала ее.
– Это невероятно, – говорила она, смущаясь. – Знаете, мы ведь учим девочек шить. Сейчас появилось много магазинов готового платья, и это уже не так необходимо, но ведь и эти платья кто-то должен шить, и потом, жена и мать, хранительница очага, должна уметь это делать… Не согласитесь ли вы выступить перед девочками, сказать им несколько слов?
– Даже не знаю, что я могла бы им сказать, – отнекивалась мать, но я видела, что ей приятно и что она согласится.
И она согласилась.
Я боялась за это выступление. Боялась, что мать начнет рассыпать перлы своего парижского остроумия перед этими детьми, которых сиротами сделала война. Боялась, что она будет выглядеть надменной и резкой…