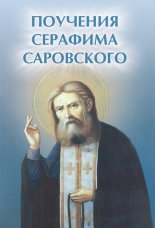Серьезные мужчины Джозеф Ману

На столе у Айяна зазвонил телефон. Ачарья. Велел распечатать электронное письмо. Обычное дело. Ачарья предпочитал просматривать письма по старинке и выдал Айяну свой почтовый пароль – «Лаванья123». Посвящение паролей – новая приверженность браку. Супруги стали друг для друга символами, скрытыми звездочками. В остальном, понятно, браки не изменились.
Он распечатал сообщение от человека по имени Ричард Смут. В теме письма стояла шифровка: «Кр-b3». В начале их переписки Айян не понимал, что они сообщают друг другу в строке темы шифрами «К-f3», «а6» и подобными. Но потом понял, что когда Смут отправил свое первое письмо, спрашивая у Ачарьи о возможности его лекции в Нью-Йорке, он обозначил в теме письма «е4» – так записывают первый ход в шахматах. Со временем Айян понял, что у яйцеголовых это обычное дело – обозначать начало диалога «е4». Ачарья, отвечая запросом о подробностях предстоящей лекции, вписал в тему сообщения «е5». Видимо, «е5» – традиционный ответ черных на ход белых «е4». Смут ответил анкетами других докладчиков, принявших приглашение, и в строке «Тема» написал «К-f3». Конь Смута атаковал пешку Ачарьи. Ачарья ответил «K-f6». И вот теперь эти два безумца были в разгаре не только долгой переписки, но и шахматного поединка.
Вошел холуй, плюхнул Айяну на стол одинокое курьерское письмо.
– Большому Человеку, – сказал холуй. – Мани, – продолжил он шепотом, – мне нужно подтверждение проживания. Устраиваюсь на работу в Заливе. Паспорт надо делать.
Айян изобразил задумчивость.
– У меня есть один друг, может помочь, – сказал он. – Дай мне ровно два дня.
Холуй ушел, а Айян принялся разглядывать письмо. В левом нижнем углу значилось: «Министерство обороны». Научно-исследовательский институт подчинялся Министерству обороны, потому что изначально его создали как прикрытие Индийской ядерной программы. Институт со временем выпутался из нее, заявив, что ядерная физика – устаревшая дисциплина и слишком уж она прикладная, чтобы чаровать поэтические сердца физиков-теоретиков. Но финансировать Институт Министерство обороны продолжало.
Айян потеребил конверт. Какой-то он примечательный. Хотя Министерство теперь отправляло по чти все свои депеши по электронной почте, оно иногда отправляло письма курьерской или скорой доставкой. Айян слыхал пылкие дискуссии в столовой: ученые обсуждали, есть ли скрытый физический закон, согласно которому Министерство решает, что слать электронной почтой, а что – курьерской. Отчетливой закономерности все никак не обнаруживалось. Но в целом решили, что плохие новости почти всегда доставляли курьерской.
У Айяна в нижнем ящике стола был запас чистых конвертов с пометкой «Министерство обороны». Обычно он вскрывал официальную курьерскую корреспонденцию Ачарьи, читал его письма, клал их в свежие конверты, подделывал конторские загогулины и цеплял на место квитанции о доставке. Он еще чуть-чуть по изучал свежую доставку, после чего вскрыл конверт.
Письмо было от Бхаскара Басу, могущественного крючкотвора из Министерства обороны, который некогда всерьез пытался прибрать Институт к рукам. Он считал, что ученым нельзя доверять управление Институтом. Управлять положено бюрократам. Но по легенде на той встрече, где Басу попробовал взять власть в свои руки – сделал затейливую презентацию своих планов, – повисла долгая неуютная тишина, которую Ачарья прервал, высказав спокойное наблюдение: «Но у вас же степень по социологии». Он не произнес больше ни слова, однако планы Басу рухнули.
Доктор Арвинд Ачарья [так начиналось письмо], Надеюсь, Вы в добром здравии. Позвольте отвлечь Вас по одному серьезному поводу. Я глубоко обеспокоен Вашим неофициальным запретом на поиск внеземного разума (SETI). Я изучил жалобы нескольких глубокоуважаемых ученых Института и пришел к выводу, что с ними обращаются несправедливо. Я также убежден, что Индийские исследования внеземной жизни премного укрепят престиж страны. Посоветовавшись с самим Министром, Министерство приняло решение, что Институт начнет программу SETI, у которой будет статус подразделения и самостоятельный бюджет. Ее возглавит доктор Джана Намбодри. Кроме того, доктору Намбодри поручат управление Исполинским ухом. Поскольку он выдающийся радиоастроном, было решено предоставить ему полную свободу определять, для каких целей применять имеющиеся большие телескопы метрового радиодиапазона, а также в каком режиме допускать к их использованию сторонние организации. В целях административного удобства и дабы избавить Вас от хлопот по такому мелкому поводу, мы освободили доктора Намбодри от ответственности отчитываться перед Вами о работе с Исполинским ухом. Этот замысел лежит в русле постоянных усилий Министерства по увеличению синергии различных исследовательских программ, которые оно финансирует. Официальное письмо воспоследует. Я завтра буду в Мумбаи, чтобы встретиться с Вами и новой командой SETI. Надеюсь на встречу завтра в одиннадцать.
Айян сложил письмо и поместил его в свежий конверт. Затем открыл толстый словарь – проверить значение слова «синергия». Не впервые он за ним лез, но, сколько ни пытался, все равно до конца не понимал его значения. Попробовал еще раз, но плюнул. Смысл письма он усвоил. Это мощный удар. Под вопросом оказался авторитет Арвинда Ачарьи. Первая стрела прилетела. Айяна захлестнуло волнение зрителя дуэли, которому досталось лучшее место в зале. Он решил: что бы ни происходило в его жизни, в ближайшие дни – никаких отгулов. Битва браминов надвигалась теперь и на Институт, а это развлечение, каким в разное время и по-разному даже его предки наслаждались и слагали о них развеселые народные песни, которые пели когда-то под звездами.
Намбодри был не из тех мужчин, что ввязываются в сражение без уверенности в победе. Потому что он трус. Ачарья же, напротив, не умел воевать с людишками, которые, возможно, и были по праву наследниками постов – любых постов. Зато он обладал устрашающим качеством, именуемым достоинством, с чем его коллеги, со своей стороны, считались. Из того, что Айян слыхал о битвах браминов, эта будет бескровной, но жестокой. Они будут сражаться, как демоны, вооруженные исключительно коварством и идеалами – еще одной разновидностью коварства среди мужчин из хороших семей.
Айян отправился с письмом во внутренний чертог. Осторожно положил конверт на пустующий островок среди моря бумаг на столе Ачарьи.
– Из Министерства, – сказал Айян.
Ачарья даже не взглянул. Распечатал письмо он через двадцать минут. Прочитал всего разок и поместил в большую корзину, высотой почти со стол. Затем повернулся к окну и уставился на море.
Айян зашел с какими-то папками – проверить, прочел ли Ачарья письмо. Конверта на столе не было, а лицо Ачарьи утратило привычное мирное выражение. В блеске закатного солнца глаза директора полыхали огнем.
Когда Айян вернулся в приемную, мобильный телефон ожил у него на столе. Он едва узнал голос Оджи.
– Он сжег ее, – проговорила она сквозь слезы, – он сжег ее. – Она звонила из телефонной будки рядом с БДЗ. Даже сквозь фон автомобильных гудков и мужской смех Айян расслышал, как она отчаянно хватает ртом воздух.
Горести Оджи всегда ранили его. Она сказала, что мальчик из Тхане пришел домой с новостью, что Гаури сжег ее муж. Гаури – двоюродная сестра Оджи, с которой они вместе росли. Жестокость субсидированного керосина, которая, по страхам матери Оджи, могла бы постигнуть дочь, пожрала другую женщину. Айян ее знал. Он был на ее свадьбе. Неприметная, очень смешливая девушка. Он вспомнил ее лицо, прикрытое красной накидкой дешевого свадебного сари. Она всю свадьбу изо всех сил старалась не хихикать. Ей пред стояла жизнь лютых побоев, а теперь вот как. Она умерла в городской больнице два часа назад от страшных ожогов. Ее тело все еще лежало в морге. Оджа не хотела туда ехать. Она сказала, что не хочет знать, как выглядит сожженная женщина. Любая девчонка из ее знакомых, пока они росли, видела этот кошмар во сне.
– Люди говорят, что обычно от ожога лицо делается белое, а не черное – если оно вообще там осталось, – проговорила она в трубку и умолкла. Ей больше нечего было сказать, но разъединяться не хотелось. Айян слышал, как она дышит.
Входная дверь открылась, появились двое ученых. У них полным ходом шла шумная дискуссия.
– Когда эти поправки делаются значительными, нет больше такой геометрии времени-пространства, какая уверенно описывала бы результат, – сказал один.
Другой ответил:
– Да, согласен, уравнения определения геометрии перестают быть решаемыми – без жестких ограничений по симметрии. Но я вот о чем… – он нетерпеливо глянул на Айяна и указал на дверь Ачарьи. – Нам назначено, – сказал он, хмурясь, возможно, от раздражения, что нахал служащий болтает по телефону.
Айян снял трубку городского телефона и приложил к другому уху:
– Сэр, доктор Синха и доктор Мурти.
Голос Ачарьи буркнул в ответ:
– Никого сегодня не принимаю.
В другое ухо Айяну что-то говорила Оджа, но хаос вокруг телефонной будки, из которой она звонила, и дебаты ученых рядом не давали ему толком расслышать.
– И это подсказывает нам, что, вероятно, геометрия времени-пространства – не что-то фундаментальное в теории струн, а нечто, возникающее в ней в масштабах больших расстояний или же слабых связей, – продолжал ученый.
– Я пойду, у тебя там много работы, наверное, – еле слышно сказала Оджа.
– Алло! – позвал Айян, но на том конце уже загудело.
Он убрал мобильник в ящик стола и поглядел на мужчин, усевшихся на древний кожаный диван, – такие они все из себя мудрые и ладные в своих строгих нарядах.
Один меж тем продолжал:
– Кривизна вселенной, со слов Хэррисона, будет подтверждена еще при нашей жизни, и, думаю, это очень важное утверждение. Приятно осознавать, что есть люди, прозревающие дальше коллайдера.
Айяну эти мужчины показались еще менее реальными, чем он когда-либо прежде себе их представлял. И они были отвратительны. Он открыл внутреннюю дверь. Ачарья задумчиво смотрел в окно.
– Сэр, они настаивают на встрече с вами.
Ачарья оторвал взгляд от заоконной дали и мгновение прожигал им стол. Затем подошел к двери, зверски распахнул ее и заорал на ожидавших его мужчин, поглощенных описанием кривизны вселенной:
– Вон отсюда, вон отсюда! Сейчас же! Вон!
Струнники вздрогнули. Вид у них был оторопелый и обиженный, но они ушли, не сказав ни слова.
В глубине души Айян ревел от смеха. На лице же этот смех проступил легким подергиванием уголков рта.
Ачарья вернулся в кресло и продолжил насупленное созерцание Аравийского моря. Он просидел так больше часа, а затем почувствовал смутную боль, в которой опознал знакомую печаль. Постепенно он понял, что это: Лаванья. Зрение у нее ухудшалось, а еще стент в сердце. Но почему он сейчас о ней задумался? Ах да, в шесть ему нужно везти ее в больницу. Шофера сегодня не было, и придется вести машину самому. Что-то в этом похоронное, подумал он: старик везет свою старуху в больницу. Что-то очень одинокое. Что-то очень грустное и американское. Он встал из-за стола и крутнул брюки на талии.
В конце главной улицы Профессорского квартала находился теннисный корт с твердым покрытием. Инструктор наставлял трех девочек в плиссированных теннисных юбочках. Он осторожно бросал им мячик через сетку. Одной девочке было скучно. Она принялась подбирать цветки жасмина, опавшие на корт, и выкладывать их на поблекшую заднюю линию.
Лаванья смотрела на нее. Вспоминала Шрути – ныне замужнюю женщину во многих мирах отсюда. На миг Лаванья почувствовала, что ее бросили, но утешилась мыслью о муже, который скоро протопает по улице. Она стояла под сенью нима, опершись на древний небесно-голубой «фиат» – предмет антиквариата, который в Квартале ошибочно считали символом непритязательности Ачарьи. На самом же деле у него не было ни денег, ни терпения заниматься продажей своих наследных владений и покупкой автомобиля на мелкие наличные. Когда-то она говорила ему чуть ли не ежедневно, что нужно продать эти никчемные поля и чудовищный дом в Шиваганге, где обитали призраки ее свекров и свояков.
Она глянула на часы. Время подошло, но она знала, что звонить ему не потребуется. Странное дело: он забывал почти обо всем, а вот о ее визитах в больницу помнил всегда. И вот уж он у ворот, идет по дорожке – в точности так, как она представляла себе. Он уже старик, подумала она, и от этого ей почему-то стало смешно.
Ачарья ничего ей не сказал. В этом не было ничего необычного. Они сели в машину и молча поехали. Такси нарушали разметку и подрезали его, напевавшие велосипедисты чуть не погибали под его колесами и бросали на него взгляды праведного гнева, после чего вновь принимались петь, автобусы упирались ему в бампер, а пешеходы стояли посреди проезжей части, пытаясь перебежать оставшуюся половину, но давление у Ачарьи не подскакивало.
– Эта страна превратилась в видеоигру, – сказал он. Остаток пути молчал.
Добравшись до больницы Брич-Кэнди, он вышел из автомобиля, запер двери и поднялся на крыльцо. В регистратуре осознал, что оставил что-то в машине. Вернулся, бормоча себе под нос. Лаванья со спокойным лицом сидела внутри.
– Изнутри можно открыть, – сказал он ей.
– Знаю, – отозвалась она, выбираясь из машины.
– Так что же ты не вышла? – спросил он сердито. – Зачем этот театр?
– Это у меня театр?
– Я знаю, что забыл тебя в машине. И что?
– И ничего. Бывает. Я разве что-то сказала?
В тот вечер, вернувшись из больницы, Ачарья не мог уснуть. Замер на длинном узком балконе и смотрел на темное море и небеса над ним. Стояла безлунная летняя ночь, виднелись звезды. Когда-то он знал их близко и по именам. Кое-кому нужен восторженный поиск сигналов из дальних мест. Они – не романтики с милым отчаянием детей. Они прогнившие ученые, увязшие в посредственности, годами они пахали на радиоастрономию, а никакой победы не добились. Им хотелось легкой славы за счет картинной чепухи. И ради этого они рвались развязать войну с ним. Он знал, как с ними сражаться. Еще одна битва, подумал он – и вдруг устал.
Семеро мужчин собрались вокруг овального стола. В тишине выматывающего ожидания они слушали, как гудит кондиционер. Ждали, чтобы что-то произошло. Всякий раз, когда снаружи долетал малейший шум, они вскидывались и глядели на закрытую дверь, после чего возобновляли ожидание, которое, как им было ясно, скоро закончится.
Дверь открылась, и почти ощутимая волна страха и предвкушения накрыла залу. Но, увидев Опарну Гошмаулик, они почувствовали облегчение. Она уселась, недоумевая, кто тут помер.
– Спасибо, что пришли, – сказал Намбодри, хотя радость видеть ее несколько прибило тяжестью момента.
Она вскинула брови, вопрошая, что случилось.
– Скоро все узнаете, – ответил Намбодри.
Через несколько минут вошел Бхаскар Басу. Это был подстриженный чистенький мужчина, подозревавший, что хорош собою. Его жизнерадостные седые волосы – дальний кузен сияющего нимба Намбодри. Оправа очков толстая и изысканная. За очками узкие глаза, хитрые и ушлые. Засранец, предположила Опарна.
Прыткий взгляд Басу неизбежно уперся в нее. Он спросил Намбодри:
– Вы нас не представите?
Опарна не понимала этой вот привычки индийских мужчин. Уж коли они позволяют себе так открыто ее вожделеть, в таком случае пусть и поинтересуются напрямую, как ее звать. Зачем каждый раз обращаться к кому-то, еще и спрашивать: «Вы нас не представите?» Ничтожества.
– Опарна Гошмаулик, – сказал Намбодри, – глава астробиологии.
– Бенгалка, – проговорил Басу, и лицо его озарилось, словно внутри включили лампочку. Он сказал ей что-то на бенгальском, и она попыталась ответить – с чем-то смахивавшим на вежливую улыбку.
Затем Басу вновь сделался напыщенным и франтоватым. Он откинулся на стуле и прервал ученую тишину.
– Не волнуйтесь, я все улажу. Я же здесь, – сказал он. – Старик еще не прибыл? Думаю, ему нужно позвонить.
– Придет, – сухо сказал Намбодри. Он боялся, что присутствие Опарны вдохновит бюрократа на своего рода выпендреж, который мог оказаться самоубийственным. Ачарья, если его уязвить, мог швырнуть в обидчика пресс-папье. Опарна была здесь потому, что Намбодри хотел, чтобы она стала свидетелем первой дрожи при сдвиге властного равновесия, а также чтобы подорвать Шаровую миссию. Но теперь начал жалеть об этом решении. Басу понесло.
Басу взялся объяснять структуру нового подразделения SETI, хотя радиоастрономов уже успели во все посвятить. Пока говорил, он то и дело поглядывал на Опарну, решившую поиграть с мобильным. Наконец он умолк, поскольку больше ему нечего было добавить, а все вокруг сидели угрюмые и рассеянные. Насупленное ожидание возобновилось: все прислушивались к дверям.
Когда Арвинд Ачарья вошел, один из ученых по инерции вскочил и тем самым мощно порушил «агрессивную позицию», которую Намбодри велел всем занять. Ачарья уселся между двух радиоастрономов, которые вперялись в стол гораздо пристальнее необходимого. Намбодри спокойствие старого друга обеспокоило. Он знал: что-то тут не так.
– Спасибо, что пришли, – сказал Басу с благодетельной улыбкой. – Позвольте мне…
Ачарья вскинул руку и сказал:
– Заткнитесь.
Изящное лицо Басу словно усохло. Он попытался собрать слова.
– Простите? Не понял, – сказал он строго. – В каком смысле?
Ачарья сверился с часами.
– Я не понимаю, – возвысил голос Басу.
– А обычно вы всё понимаете? – спросил Ачарья. Было что-то в его тоне – эдакая глубокая безмятежность древнего педагога, и от нее вновь воцарилась тишина.
Радиоастрономы переглянулись. Ачарья еще раз посмотрел на часы. Послышалась вибрация мобильного телефона. Настойчивый судорожный скрип. Басу полез в карман пиджака и вынул мобильник. Увидев номер, встал и отошел в угол залы.
– Да, сэр. Да, сэр, – донеслось до астрономов, и им сделалось нехорошо. – Да, сэр. Да, сэр, – произнес Басу многократно. Это был тайный диалект бюрократов, и других слов в нем не существовало.
Когда Басу убрал телефон в пиджак, Намбодри понял, что революция окончена. Басу плюхнулся в кресло бледный.
– Доктор Ачарья, – сказал он, – Министр попросил меня извиниться за причиненные неудобства. Мы отменяем предложение об организации подразделения SETI и не вернемся к этой теме, пока вы против. – Басу примолк, потер нос и продолжил – несколько жалко: – Надеюсь, вы понимаете, что мои усилия – в интересах науки. Я действительно считал, что поиск внеземного разума – очень важный шаг вперед. Я думал, что это значимо и для обороны. Возможно, я ошибался, но, надеюсь, вы прозрите мои мысли и увидите, что…
– Я прозрел ваши мысли, – сказал Ачарья, – это нетрудно.
Басу покинул залу первым. За ним – Опарна. Радиоастрономы поднялись со своих мест, один за другим, и траурной процессией вышли вон. Остались Ачарья и Намбодри. Они сидели молча, разделенные официозной параболой овального стола. Намбодри улыбался, но эта улыбка напомнила Ачарье араковых пьянчуг, побежденно валявшихся на заливных полях его детства.
– А я думал, ты выше кабинетной политики, – произнес Намбодри, – но, похоже, ты кое-чему научился у людишек, как ты нас именуешь. Я забыл, насколько ты знаменит, Арвинд. Кому ты позвонил? Премьеру? Президенту? Кому ты позвонил?
– Я хочу тебя убрать, Джана.
Ачарье было жаль этого старика, не знавшего, что он старик, – человека, с которым они провели в юности столько лет в далеком холодном краю, когда у них было столько надежд – и друг на друга, и на белый свет.
– Чего ты хочешь, мерзавец? – спросил Ачарья почти с тоской.
– Чего я хочу? – переспросил Намбодри, печально хмыкнув. – Да просто искать внеземной разум, Арвинд. Проще некуда. А ты чего хочешь?
– Я хочу, чтобы в моем институте ученые трудились над настоящей наукой. Если радиоастрономам скучно с пульсарами, пусть увольняются и собирают резину на холмах отцов. А не гоняются за инопланетными сигналами.
– Мы говорим это друг другу давным-давно, – произнес Намбодри, – как пара в скверном браке.
– Скажи мне вот что, – отозвался Ачарья удивительно по-доброму. – Ты правда веришь, что поймаешь сигнал от развитой инопланетной цивилизации?
– Почему бы и нет? Не вижу причин.
– Я не об этом спрашиваю. Ты веришь? Во что ты веришь? Помнишь слово «вера»? Эта штука у тебя была лет в двадцать. Во что именно ты веришь? Когда утром просыпаешься, что именно ты считаешь правдой?
– Не всем нам суждено верить, Арвинд. Некоторые могут только гадать или, в хорошие дни, надеяться. Ты правда убежден, что вся жизнь прилетела на Землю из космоса?
– Да. Я не просто убежден. Я знаю.
– Микроскопическими спорами, на кометах и метеоритах?
– Да, – ответил Ачарья миролюбиво. – И знаешь что? Еще я верю, что эти споры попали и в другие миры, в разных углах вселенной, и породили жизнь, подходившую тамошним условиям. И эта жизнь может сильно отличаться от того, что мы в состоянии вообразить. Эта жизнь могла развиться в существ с нулевой массой. Вроде больших облаков. В такое, чего мы себе даже помыслить не можем.
– Чего же ты не обнародуешь свою гипотезу?
– Это не гипотеза, – тихо сказал Ачарья. – Это теория.
В Институте гипотезой называлась хорошая мысль, а теорией – хорошая мысль, которая заслуживает финансирования.
Ачарья поднялся, на мгновение схватившись за коленку. Добравшись до двери, он услышал грустный тихий голос:
– Можно мне как-нибудь остаться, Арвинд?
Айян Мани бесновался. Война браминов закончилась так скоро. И закончилась банально: бездарности Средневековья так завершали свои морализаторские притчи – низость побеждена величием. Предвкушение в нем умерло, от этого унылость повседневных дел лишь усилилась, и его захлестнуло томлением невыносимой скуки. Когда перед его столом возникла Опарна и попросилась к Ачарье, он на нее даже не взглянул. Просто позвонил, а затем предложил ей войти.
Она вступила в логово, как обычно размышляя, почему слышит свое сердце всякий раз, когда видит этого человека, и нет ли у этого страха других, более тревожных, имен.
– Я пришла сказать, что не знаю, зачем меня пригласили на это собрание, – сказала она. – Я не хочу, чтобы вы подумали, будто я участвовала в том, что они попытались сегодня провернуть.
– Я понимаю, – сказал Ачарья. Она все еще тщетно надеялась, что он предложит ей сесть и скажет, как некстати она оказалась во всем этом, или, может, они поговорят о шаре, который скоро отправят в стратосферу. Но он читал.
Опарна ушла, а Ачарья попытался вспомнить о чем-то. Он уговаривал себя, что вспомнит погодя, но никак не получалось определить, что же это. И тут до него дошло: это случилось, когда он увидел Опарну в зале, – он что-то почувствовал. Удар, обыденное ощущение, что его предали, а затем более затейливая агония, будто она умерла и бросила его одного. Он не удивился мысли о ее смерти. Все умирают – особенно юные. Но почему ее смерть для него – словно его бросили одного? Он несколько секунд поразмышлял об этом, но потом ум его поглотило торжество: он же вспомнил! Ныне вопросы, которые он себе ставил на будущее, никогда к нему не возвращались.
Выхлопы светились в лучах фар и отбрасывали длинные летучие тени пешеходов. В парах поздневечерней пробки легковые авто и грузовики застряли в проулке, словно пытались сбежать от надвигающейся стихии. Из окон торчали головы. Длинные очереди гудящих машин сливались и ширились, превращаясь где-то впереди в громадный недвижимый узел металла и дыма. В самом сердце пробки оказалась черная «хонда-сити» с оторванным бампером. Девушка с пупком, проколотым блеском серебра, в маленькой розовой футболке с надписью золотом «Тощая сучка» стояла ошарашенная. Она раскинула руки и несколько раз повторила по-английски:
– Что за хрень такая?
Брошенное такси все еще целовало ее машину в зад. Темный мужчина – похоже, таксист – стоял лицом к ней посреди проезжей части, робея и хихикая. Публика на тротуаре глазела и веселилась. Человек, сидевший на корточках и наблюдавший эту потеху, крикнул:
– Глянь теперь на ее бампер! – Айян прошел мимо с безмятежной улыбкой.
Через несколько метров была цирюльня «Главнокомандующий», за нею – ресторан с алюминиевыми столиками и деревянными стульями. У входа Айян приметил Тамбе, человечка, которому он отдал конверт с банкнотами на набережной Ворли. Они сели за столик и заказали чай.
– Статья отличная, – сказал Айян. – Мой сынок так счастлив.
– Надеюсь, другие газеты подхватят, – сказал Тамбе, хлопая себя по ляжкам. Он поймал официанта и спросил, есть ли в заведении туалет. Официант качнул головой.
Тамбе был репортером «Юга» – из тех заполошных мужчин, которые делали всякое, у чего нет названия. Он умел добывать утерянные удостоверения, создавать продовольственные карточки и знал номера мобильных телефонов правительственных служащих.
– Ты на самом деле великолепно помог моему сыну пробиться, – сказал Айян.
– Я считаю, что таких одаренных мальчиков, как твой сын, нужно поддерживать, – сказал Тамбе, наливая себе чаю.
– А кто-нибудь из английских газет на тебя с этим выходил?
– Нет, – ответил репортер. – Английские газетчики такие снобы. Никогда не перепечатывают ничего из нашего.
– Ясно. Знаешь, Тамбе, было бы здорово, если бы ты его на первую полосу поместил. В конце концов, одиннадцатилетний мальчик, выигравший такой конкурс, – достижение немаленькое.
– Да понятно. Однако передовица, – сказал Тамбе, грустно улыбаясь, – очень дорогая, Мани.
– Сколько?
– Ой, нам не по карману. Я туда и не суюсь даже. Это для больших людей.
– Твой редактор знает, что ты… помогаешь друзьям?
– Ты спрашиваешь, в курсе ли мой редактор, что я беру деньги за статьи? Давай уж начистоту. Мы же теперь друзья. Конечно, в курсе. Знаешь, какая у меня зарплата? Восемьсот рупий. Когда он меня нанял, сказал: «Мы платим немного». А потом достал пресс-карту и добавил: «А теперь топай на рынок и зарабатывай сколько хочешь».
Они молча попили чаю. Затем репортер сказал:
– Мне пора. Так что, если… – Айян вынул кошелек и отсчитал несколько банкнот.
– Это за дружбу, – добавил он, вручая Тамбе наличные. – И тот аванс тоже был за дружбу.
– За дружбу, конечно, – отозвался газетчик. Он взялся считать деньги, и лицо его посерьезнело. Такая же серьезность, вспомнил Айян, нисходила на великие умы Института, когда они пересчитывали наличные.
– Дружба – наше всё, – сказал Тамбе, кое-как найдя место для банкнот в нагрудном кармане рубашки, который уже оттопыривался. – Я поверил тебе на слово, Мани. Ты сказал, что твой сын выиграл конкурс, я тебе поверил. Никаких вопросов. Это дружба.
Айян лукаво улыбнулся.
– А есть ли какой-нибудь способ, чтобы дружба устроила статью о моем сыне в английских газетах?
По дороге домой Айяна одолела знакомая угрюмость. Он попытался превозмочь ее, представляя лицо Оджи Мани, – как она ликовала, когда учительница Ади впервые прислала ей отчаянную записку о бунтарской гениальности ее сына. Но сумрак лишь перерос в кислотный страх в животе. Страх его беспокоил, потому что напоминал: мир – не всегда привычное место. Игра, в которую он теперь ввязался, была гораздо больше остальных его затей. На кону в этот раз был его сын.
Взлет Ади как юного гения начался примерно год назад, когда Айян однажды пришел домой поздно и Оджа открыла ему в слезах и с радостной улыбкой, отчего он заподозрил, что его слабоумная теща наконец выиграла в лотерею.
– Мой сын набрал сто процентов на контрольной по математике, – сказала Оджа. – В классе сорок два мальчика. Все благородные, богатые и толстые. А мой сын один набрал сто процентов.
Оджа, обычно смотревшая на него безо всякого выражения, порыва или надежды, а иногда и с печалью человека, застрявшего в душном аду, в тот вечер ликовала так, что лишь слезы могли выразить ее радость. В тот вечер он повел Ади за мороженым. Пока они шли по набережной Ворли, Айян услышал, как мальчик бормочет названия всех подряд проезжающих мимо машин. Ему достаточно было увидеть автомобиль, хоть перед, хоть зад, – и он тут же определял, что это за марка. Это могло показаться исключительным, однако Айян понимал, что ничего тут такого нет, кроме простой смышлености, какая есть почти в любом ребенке. Он тысячу раз слыхал, как мужчины треплются в поезде о гениальности своих детей: «Моему сыну всего три, а он уже умеет включать компьютер и отправлять электронную почту. Он гений… Моей дочке десять, а она знает названия всех озер на свете». Вот так и Ади.
– «Сити», «амбассадор», «дзэн», «эстим», «сити», – проговаривал мальчик, шагая по променаду. Недреманный ум Айяна принялся измышлять простенький план – только ради кое-какой потехи и отвлечения от неизбежных мытарств в БДЗ, больше ни для чего.
В тот вечер он заключил с Ади пакт.
– Никому ни слова, – договорился он с сыном и велел запоминать вопросы, которые нужно задавать учителям. Айян придумывал незатейливые, вроде: «Из чего состоит гравитация, мисс?» – или: «Почему листья зеленые?» Он наказал Ади задавать эти вопросы прямо посреди урока, просто так. – Будет весело, – сказал он.
Поначалу вопросы мальчика все воспринимали с умилением. Учителя считали его обаятельным и, конечно, умным и пытливым. Постепенно вопросы Ади усложнились: «Если растения едят свет, почему нет таких штук, которые едят звук?» Или, услышав ключевое слово «океан», он орал на весь класс: «Средняя глубина океана 3,7 километра, а почему озера не такие глубокие?» Когда учителя, все еще очарованные его странностями, пытались вступить с ним в беседу о свете, звуке или океане, Ади замыкался, потому что знал лишь то, чему научил его отец. Но его молчание школьный персонал не удивляло. Он же, в конце концов, маленький мальчик. Странный, немногословный мальчик, да еще и частично глухой.
Когда это все началось, Ади лепетал матери об их с отцом тайном пакте, но она не обращала внимания – какая-то там у них с отцом болтовня. Со временем Ади понравилось внимание, которым его одаряли в школе. Он начал понимать, что его считают необычным, – а не «особым», как именовали инвалидов. Теперь пакт с отцом приобрел в его глазах некоторую важность, и он даже сообразил, почему его нужно хранить в тайне. Он смутно знал, что мать не потерпит эту их с отцом игру и ее неприятие отнимет у него положение, которое он занял в школе.
Он рвался внести сумятицу в каждый урок. Сумятица эта учителям стала надоедать. Он все сильнее смущал их своими вопросами. Ему в дневник стали писать замечания и звать родителей в школу, от чего дома случались страх и потеха. Оджа тревожилась, но перспектива ребенка-гения ее будоражила. «Я хочу, чтоб он был нормальным», – бурчала она, однако о гениальности Ади рассказывала всем. Она водила огнем вокруг его лица и пачкала ему щеки черным порошком, отвести дурной глаз. Создать миф о маленьком гении оказалось поразительно просто, осознал Айян, – особенно вокруг мальчика, который от природы смышлен и носит слуховой аппарат. Ади довольно было раз в неделю говорить на уроках что-нибудь странное, и легенда продолжала жить.
Просто и весело – но Айяну хотелось большего. И он устроил поддельную новость об Ади. Что оказалось так же легко. Всю эту игру можно было прекратить в любой момент. Как бы то ни было, рано или поздно придется – и прежде, чем их поймают. В глубине души он верил, что им все сойдет с рук. Его несколько утешало, что не он первый придумал создать миф гениальности вокруг своего ребенка. Были люди – особенно матери, – сплетавшие куда более грандиозные байки. Он как-то читал о невероятной истории французской девочки Мину Друэ – ему это имя почему-то никогда не удавалось произнести. Ей исполнилось всего восемь, а ее стихи уже издали. Эти стихи потрясли исполинов французской литературы, но кое-кто поговаривал, что за нее их пишет мать. Малышку Мину подвергли испытанию. Ее попросили написать стихотворение в присутствии свидетелей. И она написала. Но дело все равно осталось непроясненным. И по сей день никто не знал, была ли она гениальным ребенком или это уловка ее матери. Или вот другая девочка, русская, по имени Наташа Демкина, чья мать заявляла, будто у ребенка рентгеновское зрение. Многие врачи подтвердили, что у Наташи есть такая способность, однако бытовало и мнение, что это жульничество. Айян желал бы встретиться с этими восхитительными матерями. Ему казалось, что он понимает и их самих, и их мотивы.
Но слишком далеко он не зайдет. Игру нужно скоро сворачивать. Его временами тревожило, с какой готовностью его сын в нее играет. Иногда Айян даже замечал, что мальчишка предпочитает не помнить, что это все игра. Ади верил, что он и взаправду гений. Ему нравилось это слово. Он бормотал его во сне.
Айяна преследовал призрак невинного лица Оджи в сиянии ее ночных притирок из куркумы и иллюзий внезапно необычайной жизни. Оджа нипочем не должна узнать правды, потому что этого она Айяну никогда не простит. Враки, что он ей наплел, уже пустили корни у нее в уме и создали легенду. Теперь уж не вынешь. Придется ей жить с этой ложью всю жизнь. Его пугала эта мысль – быть с женщиной до самой смерти и не говорить ей, что когда-то ее обманул. Выживая в этом мире благодаря матерой практичности, он все же верил: связь мужчины с женой негоже портить избытком рациональности. Браку нужен абсурд ценностей. В мире за пределами их дома не было ни правды, ни кривды. Всякий миг – сражение, и выигрывает хитрейший. Но его дом – не пустячок, как этот ваш мир. Морочить Одже голову тем, что ее сын гений, – преступление, причем до того тяжкое, что для него не существует наказания. Однако была в этой игре и неотразимая прелесть. Она ему очень нравилась.
Вот что его пугало. Невзирая на отвращение к жестокости мифа, создаваемого им вокруг собственного сына, Айян боялся, что не сумеет остановиться. Игра пьянила его, азарт был слишком силен. Он вспоминал своих братьев-алкоголиков, в чьих глазах он когда-то видел отчаянное желание жить, но они не смогли преодолеть мощь пристрастия, и оно побеждало дух жизни. Восторг возведения небылицы о юном гении и баек, которые стягивали его маленькую семью в уютный клубок в их однокомнатном обиталище, – вот чего он не желал терять. Ничего большего у них не было. Так что ж мужчине должно делать?
Обычный мужчина хочет, чтобы его жена чувствовала бурление жизни. Айян родился в бедности, какую ни одно человеческое существо не должно переживать; он впитал крохи знания при свете муниципальных фонарей; он научился лгать, чтобы кормить себя и свою семью; а теперь увяз, потому что выше головы сыну дворника не прыгнуть. У Айяна не было никаких особых дарований, но хватало мозгов, чтобы отчетливо понимать тщетность надежды и мрак предстоящей неприметной жизни. Так что же должно делать мужчине? Не будь потехи в виде гениальности сына, рутина рано или поздно удушит его жизнь, он это понимал. Не будь этой потехи, грядущее стало бы слишком предсказуемым. Он продолжит печатать браминам письма, принимать их звонки и претерпевать от их поисков истины. И каждый день своей жизни будет подниматься по крутой колониальной лестнице БДЗ, протискиваться между местным зомбачьем и искать утешения в безразличной любви женщины, которая на него толком уже и не смотрит. Он проживет всю жизнь, такую невыразимо обычную, в однокомнатном обиталище площадью сто восемьдесят квадратных футов (включая нелегальные антресоли).
Айян прибавил ходу – это обычно отменяло все его печали и страхи. Вид у него, когда он вошел в чоулы БДЗ, был до того целеустремленный, что унылые очи пьяных мужчин в разбитых проулках взирали на него с завистью. Здесь человек с целями считался везучим. Айян прошел меж желтых стен верхнего этажа, ощущая на себе взгляды из открытых дверей. В коридоре играли и вопили дети. Женщины, лишенные грез, неторопливо причесывались. Молчаливые вдовы, древние и согбенные, сидели на порогах, устремляя взоры в рошлое.
Он шел мимо распахнутых дверей по коридору и ловил голоса жизней из каждой местной клетки. Вот женщина сказала, что никогда больше не станет покупать лук, и Айян не знал почему. Следующая дверь: холуй только что вернулся с работы и делится тортом, который увел с чьего-то дня рождения в конторе. Далее: мужчина спрашивает по мобильнику, почем «марути-дзэн». Эти голоса он обычно и слышал. Но тут вдруг услыхал чуждый ему язык. Мать шлепнула сына. Тот заорал. Она стукнула его по спине. Мальчик выскочил в коридор, хлопая себя по рту, и забегал туда-сюда, словно пытаясь увернуться от своей же боли. Пока ничего особенного. Но тут женщина прокричала, перекрывая рыданья сына:
– Делай домашнее задание, или я тебя убью!
Вот такого он здесь не слыхал никогда. Значит, правду Оджа говорила. С тех пор как Ади появился в газете, матери – особенно в их корпусе – с ума посходили. Они пороли сыновей ремнем и заставляли их учиться, а Оджа меж тем покупала сыну воздушных змеев, крикетные биты и комиксы, опасаясь, что он может стать еще ненормальнее.
После ужина они втроем пошли на залитую битумом террасу. Под ущербной луной ошивалось несколько смутных фигур. Из далеких теней одинокий пьяница пел о любви и освобождении. Девочки-подростки стояли компаниями и хихикали над мальчиками. Те же, бледные и тощие, впали в возбуждение и развлекались между собой показными драчками, чтобы привлечь внимание девочек. Оджа пошла поболтать с молодыми матерями, тоже облаченными в халатики, отмеченные неуничтожимыми следами куркумы и чили. Женщины глядели на Оджу с обожанием либо злорадством – Айяну не удавалось разобрать, – но пристальнее, чем раньше. И у Оджи внезапно появилось эдакое изящество, своего рода старательная скромность, как у Мисс Мира, навещающей больных раком детишек.
Айян взял сына за указательный палец и повел его в тихий дальний угол. Там сделал вид, что возится с мобильником, чтобы старые друзья не лезли. Те все равно подходили, но Айян, хоть и улыбался, и здоровался, глаз с телефона не сводил.
Ади приметил теннисный мячик, застрявший в стоке. Огляделся по сторонам, не видит ли его кто-нибудь еще. Попытался высвободить палец из отцовой хватки, но Айян не отпускал его. Ади потянул изо всех сил, но их все равно недоставало. И вот уж они рассмеялись оба – отец и сын. Ади изловчился укусить отца за руку, но и это не помогло.
– Пусти, – попросил он.
– Скажи «сверхновая», – услышал он отца. Ади тут же позабыл про мячик. Он обожал эту игру. – Сверхновая, – повторил отец.
– Сверхновая, – сказал Ади. – Легко.
– Как умирают звезды, мисс? – выговорил Айян по-английски.
– Как умирают звезды, мисс?
– Как умирают звезды, мисс, если не считать превращения в сверхновые?
– Как умирают звезды, мисс, если не считать превращения в сверхновые?
– Как умирают звезды, мисс, если не считать превращения в сверхновые?
– Как умирают звезды, мисс, если не считать сверхновых?
– Если не считать превращения в сверхновые?
– Как умирают звезды, мисс, если не считать превращения в сверхновые?
– Умница.
Ади высвободился от отца и пошел доставать мячик, застрявший в жерле водостока. Он невинно огляделся по сторонам, после чего сел на корточки и извлек добычу. Немного поиграл с мячиком. А потом сказал отцу:
– Мне нравятся простые числа.
Айян не обратил внимания.
– Мне нравятся простые числа, потому что их нельзя предсказать, – сказал Ади небрежно, как бы между делом.
– Со мной так не обязательно, Ади.
– Как?
– Вот так, как сейчас, – про простые числа.
– Мне нравятся простые числа, потому что их нельзя предсказать.
– Брось, Ади, со мной не нужно так разговаривать. В эту игру мы играем только иногда. Не все время. Понял?
Часть третья
Подвальная фифа
Опарна Гошмаулик сочла это забавным. Что занавес кроваво-красен, что он вознесся над сценой сонными складками и что вокруг воцарилась задумчивая тишина предвкушения. И весь этот сыр-бор вокруг приглашенного лектора, обещавшего доложить о «Толкованиях квантовой механики». Даже свет пригасили. Итак, Беседы начались. Таково было ежегодное чествование отбывавших из Института молодых ученых, местная версия соборного благословения, но без черных сутан или обязательного условия, что все ученые потом должны понести слово в мир.
Аудитория была битком. Силуэты в проходах. Орды людей за дверями – им отказали в толковании квантовой механики. Безутешные. Она слышала их гневные требования пустить их хотя бы в проходы. Но проходы уже заняли. Странный параллельный мир.
Раздались оглушительные аплодисменты. На сцене появились дружелюбный белый мужчина и Арвинд Ачарья. Мужи уселись в плетеные кресла в центре озаренного круга. Простора сцены хватило бы и для балета, но Институт разрешал только лекции. Смазливая девушка, почему-то зацикленная на своих длинных прямых волосах, взошла на кафедру. «Гляньте, какие у меня волосы, гляньте», – Опарна подумала, что девушка начнет с этого, но та сказала:
– Наука – это эволюция человеческого ума. Это подлинная история человечества.
Еще несколько таких фраз – и она заявила, что мужчины на сцене не нуждаются в представлении, и представила их. Девушка не институтская, и Опарне стало интересно, где они ее взяли. Она помнила, что Джана Намбодри спрашивал, не могла бы она представить гостей и вручить им цветы. «Хочется добавить красоты», – сказал он. Она отказалась, потому что хотела ему отказать. К тому же, хоть и понимая облезлость мужчин и эстетические улучшения, какие могла бы привнести в такое событие женщина, она внутренне была против использования дам в качестве церемониальных кукол. А еще – по причинам, ей тогда еще не внятным, – ей хотелось смотреть на Ачарью из удобного кресла под прикрытием темноты.
Радушие его куда-то испарилось. Красные щеки пошли пятнами, младенческая лысая голова блестела под лампами, пока он смятенно обозревал аудиторию. Кибл поднялся из плетеного кресла и отправился к кафедре. Выпил два стакана воды. Это был высокий стройный мужчина, пожилой, приятный.
– Я рад общению с таким собранием, – сказал он, а затем, поглядев на Ачарью, добавил: – И я несколько робею.
Мягкий шелест смеха пробежал по залу. Кто-то засмеялся позже и громче – показать, что шутку поняли. Кибл приступил к лекции. Опарна вытерпела толкования квантовой механики, наблюдая всю лекцию, чем занимается Ачарья. Он открывал рот, впадая в транс, пялился в потолок, жестами просил принести ему воды, или же на лице его появлялась едва заметная ухмылка – отклик на произносимое Киблом.
В какой-то момент он посмотрел на Кибла сердито, и Опарна заволновалась. Понадеялась, что не выкинет ничего дурацкого. Кибл рассуждал о Времени и подобрался к опасному заключению:
– Хотя Стивен Хокинг сомневается в том, что говорил ранее, по моему мнению, стрела Времени двунаправленна. При некоторых условиях мы можем помнить будущее, а не прошлое: круги на воде могут быть причиной падения камня. Время можно повернуть вспять.
Глубоким оперным голосом Ачарья воскликнул:
– Невозможно. – И повторил это еще раз, тише: – Невозможно.
Кибл несколько смутился, но последовавший невольный «ах» в аудитории, а затем смех и веселый ропот смягчили потрясение. К тому же никакой угрозы в голосе не было. Комментарий Ачарьи воззвал к духу науки, и все именно так его и расценили.
– Поговорим об этом позже, Арвинд, – благодушно сказал Кибл. – Может, встретимся вчера, если у тебя есть время.
Когда Ачарья наконец встал, чтобы взять слово, и крутнул брюки на талии, Опарна рассмеялась. Задумчивый незнакомец рядом с ней глянул на нее с любопытством, но потом вновь упер выжидательный взгляд в сцену. Ачарья, как слон, протопал к кафедре. Опарна почувствовала, как мир вокруг притих. Повисла тишина, совершенная до жути. Ее прервал визг микрофона, по которому Ачарья постучал.
– Мне очень нравится Хенри Кибл, и потому мне больно говорить, что конец квантовой физики близок, – сказал он мужественно и мощно. И при этом невинно, просто и ясно. – Большой адронный коллайдер вскоре подтвердит, что многих экзотических частиц на самом деле не существует, и кое-кто из нас, как выяснится, последние тридцать лет молол чушь. Вероятно, мы не в силах понять физику на квантовом уровне без понимания кое-чего другого, что ныне физикой не считается. Например… – Он умолк. Словно решал, говорить или нет. Не сказал. – Я верю, что пришло время новой физики, – продолжил он. – Честно говоря, я не знаю, какой она будет. Да и во всяком случае сам я стар для этой революции. Может, кто-то в этом зале принесет ее нам. Но не об этом хотел я сегодня потолковать… Здесь есть аспиранты, которые в этом году покинут нас. Они отправятся за своими научными интересами в другие университеты. Езжайте с тем знанием, которое человек лишь чиркнул по поверхности. Чиркнул впечатляюще, нам есть чем гордиться. Но много, много еще всего предстоит сделать. Хотел бы я быть сейчас вашего возраста. Столько дел. Но подсказок, чем вам следует заниматься, у меня нет. Вообще-то я пришел сказать вам, чего никогда делать не следует. Никак тут не обойтись приятностями, поэтому позвольте выразиться, как мне хочется. Большинство из вас, вероятно, никогда и ничего не откроет. Возможно, вы ничего не привнесете в великие уравнения, описывающие человечеству вселенную. Но зато вам сильно повезет в другом: вы встретите людей исключительного ума. Людей гораздо смышленее вас. Никогда не путайтесь у них под ногами, не собирайтесь против них от недовольства, не затевайте игр. Уважайте талант, подлинный талант. Боготворите его. Умных людей всегда недолюбливают. Не наживайтесь на этом, чтобы влезть повыше. По законам вероятности вы – посредственность. Смиритесь с этим. Трагедия посредственности в том, что даже посредственные люди качают головами и размышляют о том, что «планка падает». Так вот, не размышляйте. Просто знайте, когда нужно убраться с дороги. Большинство из вас будет в подтанцовке, в массовке великого раскрытия истины. И это нормально. Приняв это и позволив лучшим умам делать свою работу, вы сослужите службу науке и человечеству.
Опарна вгляделась в лица слушателей. Увидела обиду, увидела и смирение. Увидела свет в глазах и поняла, что запомнит этот миг навсегда. Их зачаровало, они сдались на милость древнего гения, изъявлявшего свою волю. Напряжение спало: Ачарья сменил тему. Принялся рассказывать о Шаровой миссии и заразил аудиторию своей убежденностью, что микроскопические пришельцы постоянно падают на Землю.
– Мы их найдем, – сказал он.
Через два дня после Бесед работа на Шаровую миссию уплотнилась. Оживились спавшие в подвале машины и коробки, а также позаимствованные ученые руки. И лаборатория во чреве Института превратилась в бурливый пчелиный улей. Она стала важнейшим местом в Институте, спиритически связанным с покоями Ачарьи на третьем этаже. Теперь он приезжал в Институт еще до девяти утра, топая по коридорам с еще большей, чем прежде, целеустремленностью и с непременным кометным хвостом научных ассистентов. Один за другим прибывали на помощь, ненадолго, старые друзья Ачарьи из разных частей света. В их душевной компании он несколько расслабился, и его презрение к миру, казалось, несколько рассеялось. Опарна увидела, каким, по ее догадкам, он когда-то был.
Глаза, обычно уставленные в недосягаемую даль, теперь безмолвно допускали братство. Прибывших к нему друзей он пылко обнимал, а на встречах, превратившихся в некое праздничное воссоединение, старики перебирали воспоминания о золотых деньках и битвах с людьми, которых они уничижительно именовали «нормальными». С Ачарьей стало легко. Посреди одного обсуждения, когда кто-то сказал, что Шаровой миссии нужно название, он не счел это баловством. Он понял и включился. Даже коротко подумал и сказал возбужденно: