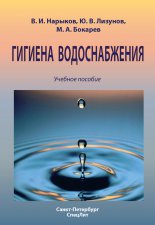Ахматова без глянца Фокин Павел

Я была с мальчиками в Коктебеле. И все шлю Виктору письма и телеграммы. Спрашиваю, как Анна Андреевна, приехала ли она уже в Москву или собирается? Получаю от него телеграмму: «Дура читай газеты». И я прочла постановление (о журналах «Звезда» и «Ленинград», о Зощенко и об Ахматовой). Немедленно стала собираться домой. Было трудно сразу достать билеты, с детьми… Приехала, стала пытаться пробраться в Ленинград (тогда еще были пропуска). Прошло еще несколько дней, пока я приехала к ней. Пробыла у Анны Андреевны три дня и привезла ее к нам в Москву. И когда мы шли по Климентовскому переулку, встречали писателей, они переходили на другую сторону.
Сурков мне говорил: «Как я вам благодарен, что вы ее привезли к себе».
А потом приехал из экспедиции Лёва, и они вместе уехали в Ленинград…
Ирина Николаевна Пунина:
В начале сентября на несколько дней из Москвы приехала Нина Антоновна Ольшевская. При ней А.А. сжигала свои рукописи и бумаги. Нина Антоновна, возвратившись в Москву, естественно, рассказывала, в каком положении она увидела Анну Андреевну. И в Ленинграде не все смирились с постановлением. Больше других, рискуя всем, открыто помогала Ольга Федоровна Берггольц.
Наталия Александровна Роскина:
Жизнь для нее остановилась. Когда я позвонила ей, приехав в Ленинград через десять дней, она ответила, что чувствует себя, спасибо, хорошо, но что повидаться со мной не сможет. Голос ее был мертвым.
Сильва Соломоновна Гитович:
А постановление росло, ширилось и двигалось семимильными шагами по стране. Все газеты того времени пестрят именами Зощенко и Ахматовой. Постановление изучают, прорабатывают. В народе только об этом и говорят, ничего толком не понимая, за что же их, бедных, так ругают.
Одна сердобольная старушка в очереди говорила, что всем известно, какой Зощенко подлец и мерзавец, а вот за что так ругают его жену Ахматову — это совсем непонятно. «Известно за что, — отвечала другая, — мужья подлецы, а жены бедные за них всегда в ответе».
А газеты не унимались. Вот их исключают из Союза, лишают карточек. Хлеб надо покупать на рынке втридорога. Денег нет. Если бы не друзья, жить было бы совсем невозможно… Время шло, и вдруг в верхах заинтересовались тем, как живут Зощенко и Ахматова. Их вызвали в Смольный, после чего им были выданы хлебные карточки.
Молоденькая секретарша, отмечая пропуск А.А. на выход из Смольного, вскинула на нее глаза и быстрым шепотом сказала: «А я ваши стихи все равно люблю…»
Ирина Николаевна Пунина:
29-го (сентября. — Сост.) позвонили из Союза и велели прийти за ахматовской карточкой. Дали рабочую карточку за весь прошедший месяц. Я пошла с ней в «наш» магазин, но там «отоварить» карточку отказались: она не была «прикреплена». Потом мы пошли вместе с Лёвой второй раз. Снова отказали. Встретили домработницу М. М. Зощенко. Она тоже хлопотала с целой месячной карточкой. Нас направили в дежурный магазин, около Казанского собора. Долго объяснялись. Лёва присел на бампер чьего-то автомобиля и отпускал меткие реплики. Наконец вышел заведующий и сказал, что мы можем все получить, но только теми продуктами, которые у них остались, а за хлеб — мукой. Завтра начинается другой месяц. Мы были на все согласны. Лёва подхватил мешок с мукой, я — сумки с другими продуктами, попрощались с домработницей Мих. Мих. Она сказала: «Все понесу моему Зощенке».
С тех пор А.А. давали одну рабочую карточку каждый месяц.
Галина Лонгиновна Козловская:
Мы были в это время снова в Ленинграде, и увидеть ее не пришлось. Она лежала за закрытой дверью. Лежала неподвижно, глядя в потолок, безмолвная, как бы лишившись речи. Так было долго-долго.
Наталия Александровна Роскина:
Неуют холодной ахматовской комнаты принял тюремный характер. Анна Андреевна дома почти ничего не говорила, а только все показывала на потолок. Однажды, придя домой, она обнаружила на подушке и на полу куски известки и уверилась, что в потолок вставлен микрофон. Обычно мы бесприютно гуляли по безлюдным местам, обмениваясь короткими репликами.
Галина Лонгиновна Козловская:
А вокруг бушевал литературный шабаш, и в клочья летели репутации и разбивались сердца. А люди, неведомые ей, в то ужасное для нее время стали вместо цветов посылать ей еще не отмененные хлебные и продуктовые карточки, которые она неукоснительно сдавала в домоуправление.
Елена Константиновна Гкльперина-Осмёркина
Доклад Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» я прочла в дачном поезде. Мне стало почти дурно, когда я с трудом вникала в грубые фразы, поносящие Зощенко и Ахматову. «Наверное, они оба умрут, не переживут позора и отверженности», — думала я.
Увидела я Анну Андреевну месяца через два в Ленинграде. Я пришла к ней с какими-то продуктами, захватила с собой даже буханку хлеба. К моему удивлению, Ахматова встретила меня с приветливой улыбкой и бодрым шагом провела в свою комнату. «О, какую тяжелую сумку вы тащите», — заметила она сочувственно. Я выложила все продукты из сумки на стол. «Анна Андреевна, я принесла вам то, что могла, ведь вы живете без карточек». Она неожиданно рассмеялась и приподняла коробку, стоявшую на столе. Под ней лежали продовольственные карточки. «Что это?» — изумилась я. «Это мне присылают на дом». — «Кто?» — «Право, не знаю, но присылают почти каждый день».
Ни капли раздражения, ни гнева… Я молчала, а в душе моей звучали строки ее стихотворения, обращенного к Музе:
- Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
- Страницы Ада?» Отвечает: «Я».
Наталия Александровна Роскина:
Друзья организовали тайный фонд помощи Ахматовой. По тем временам это было истинным героизмом. Анна Андреевна рассказала мне об этом через много лет, грустно добавив: «Они покупали мне апельсины и шоколад, как больной, а я была просто голодная».
Виталий Яковлевич Виленкин:
В Фонтанном Доме я у нее потом бывал несколько раз начиная с зимы 1946/47 года — каждый раз, как приезжал в Ленинград. Особенно мне запомнился первый мой приход к ней после катастрофы 1946 года…
Когда Анна Андреевна открыла мне дверь, я не мог не заметить сразу, как она осунулась и как изменилось, стало каким-то неспокойным выражение ее глаз. На этот раз были особые причины, затруднявшие начало разговора. Я боялся причинить ей какую-нибудь невольную боль.
Среди книг, как всегда повсюду разбросанных, которые я стал разглядывать, было много библиотечных — о Моцарте, о его жизни и творчестве, французских, немецких, английских; были тут и очень редкие старинные издания. На мой вопрос, почему у нее сейчас такое скопление «моцартианы», Анна Андреевна сказала, что книги эти приносят по ее просьбе из фондов Публичной библиотеки, что нужны они ей и для ее «пушкинских штудий» и потому что с некоторых пор ее «заинтриговал» Моцарт как личность, что она много думает о его судьбе, об истории создания «Реквиема», о тайне, окружающей его смерть и место погребения. Все больше увлекаясь, она мне рассказывала о женщинах, которых Моцарт любил, о его жене, которая оказалась способна не установить тогда же место захоронения его тела, о легендах, которые распространяли о нем и о его творчестве Сальери и другие его друзья-враги.
Все это в устах Анны Андреевны и в той обстановке было, конечно, очень далеко от желания занять гостя интересным разговором; я это почувствовал и тогда, но по-настоящему осознал гораздо позже. Она говорила со мной о том, чем сама в то время жила. К Моцарту ее притягивало его глухое, безысходное одиночество, его вопиюще незаслуженная обреченность.
И опять, как семь лет назад, мы пили кофе, только на этот раз Анна Андреевна извинилась, что придется без сахара. И так как у меня не оказалось папирос, то курили ее, какие-то самые дешевые. А одну из книг, лежавших на подоконнике, — альбом старинных литографий Петербурга — она меня попросила, если можно, взять с собой и продать в какой-нибудь букинистический магазин. Позднее я узнал, что в это время Ирина Николаевна и Борис Викторович Томашевские, ее старые, верные друзья, ежедневно посылали ей с кем-нибудь из своих детей горячую еду, заворачивая кастрюльку в несколько газет, чтобы не остыла. <…>
Анне Андреевне нужно было выйти из дому — куда-то не то на Литейный, не то на улицу Некрасова, к каким-то знакомым. Она меня попросила ее проводить, прибавив, опять шепотом: «Только на улице не будем разговаривать». Когда я уже подавал ей пальто в передней, она вдруг попросила меня минутку подождать и, вернувшись из своей комнаты, быстро протянула мне какой-то сложенный вчетверо лист бумаги, опять приложила палец к губам, молча показала рукой, чтобы я спрятал его во внутренний карман. «После прочтете», — тихо сказала она уже на лестнице. Мы шли молча по набережной Фонтанки, по Пантелеймоновской, простились где-то на Литейном.
Наталия Александровна Роскина:
Два месяца я знала об Анне Андреевне только одно — что ее не арестовали. В свой следующий приезд я была более настойчива, сказала, что очень прошу ее со мной встретиться. Ахматова назначила мне свидание у Русского музея. С ужасным волнением я ждала ее на холодной скамейке в плохую ноябрьскую ленинградскую погоду. Ахматова стала мне говорить, что с ней нельзя встречаться, что все ее отношения контролируются, за ней следят, в комнате — подслушивают; что общение с нею может иметь для меня самые страшные последствия. Нас обеих знобило. Анна Андреевна смотрела в сторону, не на меня. Но как только я почувствовала, что она просто за меня боится, я сразу повеселела и ответила ей, что я совсем и не думаю ни о чем таком и думать не хочу. Анна Андреевна продолжала говорить о необходимости быть осторожной, но я уже поняла, что это говорится по долгу, а не по сердцу. На самом деле она была мне рада, вдруг перестала это скрывать и, взглянув на меня с нежной жалостью, сказала тихо: «Миленький!» Страшный круг обреченности был тогда, и в этом круге был весь этот огромный прекрасный город, и честь наша, и правда, и я сама была в этом круге, но я все это забыла, радуясь, что она сидит рядом со мной и что я тоже ей дорога.
Провожая Анну Андреевну, я взяла с нее слово, что она не будет меня отталкивать. Но когда мы стали прощаться у Фонтанного Дома, на ее лицо вернулась каменная маска, и она едва кивнула мне, проходя в парадное.
Нина Антоновна Ольшевская:
Замечательно, что в первые же месяцы после августовского постановления, подвергшего ее остракизму, Ахматова написала свою лучшую исследовательскую работу ««Каменный гость» Пушкина». Набело переписанная ее рукой статья датирована 20 апреля 1947 г. Вероятно, к тому же времени относится пока не найденная, может быть незаконченная, статья о другой «маленькой трагедии» Пушкина — «Моцарте и Сальери». Что касается «Повестей Белкина», Ахматова вернулась к ним лишь через десять лет, когда наконец увидела свет работа о «Каменном госте». Вслед за этим Анна Андреевна немедленно захотела сделать к ней ряд добавлений, среди них — ее уникальные наблюдения над психологией творчества Пушкина на материале «Повестей Белкина». Эти дополнения опубликованы посмертно.
Исайя Берлин:
Когда мы встретились в 1965 году, Ахматова в подробностях рассказала о кампании, поднятой против нее властями. Она рассказала мне, что сам Сталин лично был возмущен тем, что она, аполитичный, почти не печатающийся писатель, обязанная своею безопасностью, скорее всего, тому, что ухитрилась прожить относительно незамеченной в первые годы революции, еще до того как разразились культурные баталии, часто заканчивавшиеся лагерем или расстрелом, осмелилась совершить страшное преступление, состоявшее в частной, не разрешенной властями встрече с иностранцем, причем не просто с иностранцем, а состоящим на службе капиталистического правительства. «Оказывается, наша монахиня принимает визиты от иностранных шпионов», — заметил (как рассказывали) Сталин и разразился по адресу Ахматовой набором таких непристойных ругательств, что она вначале даже не решилась воспроизвести их в моем присутствии. То, что я никогда не работал ни в каком разведывательном учреждении, было несущественно: для Сталина все сотрудники иностранных посольств или миссий были шпионами. «Конечно, — продолжала она, — к тому времени старик уже совершенно выжил из ума. Люди, присутствовавшие при этом взрыве бешенства по моему адресу (а один из них потом об этом мне рассказывал), нисколько не сомневались, что перед ними был человек, страдавший патологической неудержимой манией преследования». 6 апреля 1946 года, на следующий день после того, как я покинул Ленинград, у входа на ее лестницу поставили людей в форме, а в потолок комнаты вставили микрофон — явно не для того, чтобы подслушивать, а чтобы вселить страх. Она поняла, что обречена. И хотя официальная немилость последовала позднее, через несколько месяцев, когда Жданов выступил с официальным отлучением ее и Зощенко, она приписывала свои несчастья личной паранойе Сталина.
«Беспокойная старость»
Надежда Яковлевна Мандельштам:
До конца жизни она оставалась бездомной, бесприютной, одинокой бродягой. Видно, такова судьба поэтов. И она не переставала удивляться своей судьбе: «У всех есть хоть что-то — муж, дети, работа, хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь… Почему у меня ничего нет?..»
Наталия Александровна Роскина:
После смерти Сталина Ахматовой сразу стало легче, хотя бы в денежном отношении. Вышел ее перевод пьесы «Марион Делорм» в собрании сочинений Виктора Гюго, она получила первые крупные деньги — они доставили ей много удовольствия. Правда, она никак не изменила своего быта и не предалась жизнеустройству. Прожив всю жизнь бездомной, она не стала на склоне лет обзаводиться хозяйством. Я как-то спросила Анну Андреевну: «Если бы я стала богатой, сколько времени я получала бы от этого удовольствие?» Она ответила с присущей ей ясностью: «Недолго. Дней десять». Когда у меня завелись деньги, я спросила Анну Андреевну, что мне с ними делать. Она отвечала опять-таки твердо: «Строить жилье. Жилье — это главное». Но сама она по-прежнему просила пристанища, — когда, случалось, у Ардовых не было места, жила у Западовых, у Ники Глен, М. С. Петровых, Л. Д. Большинцовой, М. И. Алигер, Шенгели… А ее ленинградская комната и позднее — комаровская дача являли собой прежнюю неприкаянность…
Лидия Корнеевна Чуковская:
17 февраля 1963. …Дом — стены, окна, крыша, стол, стул, постель — у Анны Андреевны все это есть — там, дома, в Ленинграде, да еще Будка в придачу. Но ведь настоящий дом — это не стены и крыша, а забота. Ирочка и Аничка, видно, не очень-то. Хотя в Ленинграде Союз писателей в писательском доме предоставил квартиру Ахматовой (не Пуниным), они, живя с нею, не считают себя обязанными создавать в этой квартире быт по ее образу и подобию — быт, соответствующий ее работе, ее болезни, ее нраву, ее привычкам. Сколько бы они ни усердствовали, выдавая себя всюду за «семью Ахматовой», — это ложь. Никакая они не семья. Я-то ведь помню Ирину в тридцать восьмом году, как она обращалась с Анной Андреевной еще в Фонтанном Доме. Здешние друзья, принимая Ахматову, хотя и продолжают собственный образ жизни (продиктованный работой, болезнями, привычным укладом, стариками, детьми, теснотою), умеют устраивать так, чтобы, живя у них, жила она на свой лад. Потому, видно, и наезжает Анна Андреевна так часто из Ленинграда в Москву.
Иосиф Александрович Бродский. Из бесед с Соломоном Волковым:
Примерно четыре раза в год она меняла место жительства: Москва, Ленинград, Комарово, опять Ленинград, опять Москва и т. д. Вакуум, созданный несуществующей семьей, заполнялся друзьями и знакомыми, которые заботились о ней и опекали ее по мере сил. Она была чрезвычайно нетребовательна, и я не раз, навещая ее в гостях и особенно у Пуниных, заставал ее голодной — хотя именно там, у Пуниных, она «ежеминутно все оплачивала».
Анатолий Генрихович Найман:
И Пунина, и Каминская относились к Ахматовой, разумеется, уважительно, но с оттенком недовольства — легкого, без объяснения конкретных причин, и постоянного. Бывали периоды ласковости, большей близости, они сменялись охлаждением и ссорами, но некоторое недовольство, как и некоторая интимность, демонстрируемая обращением к Ахматовой «Акума», не подвергались колебаниям, они были вынесены за скобки. Про Пунину в ее лучший период Ахматова как-то сказала: «Ира — замирённый горец». К возвращению Ахматовой из Москвы зимой «дом» старался достать путевку в Дом творчества в Комарове; по возвращении из Будки ее, часто через считанные дни, собирали и отправляли в Москву. <…>
Жить в Доме творчества писателей она не любила: всегда на людях, причем не ею выбираемых, казарменный «подъем» и «отход ко сну», общая ванна, общий завтрак-обед-ужин, — но мирилась с этим, как с неизбежностью.
Наталия Иосифовна Ильина:
В течение многих лет каждую весну вставал вопрос: кто сможет поехать с Ахматовой в Комарове? Кто будет носить из колодца воду и готовить обед? Эти заботы брали на себя по очереди друзья, и однажды вышло так, что никто не смог поехать, и об Анне Андреевне пеклась жена поэта Гитовича, Сильва Соломоновна, жившая в соседней «будке»…
Анатолий Генрихович Найман:
Бездомность, неустроенность, скитальчество. Готовность к утратам, пренебрежение к утратам, память о них. Неблагополучие, как бы само собой разумеющееся, не напоказ, но бьющее в таза. Не культивируемое, не — спутанные волосы, не — намеренное занашивание платья до дыр. Не поддельное — «три месяца уже не дают визу в Париж». Неблагополучие как норма жизни. И сиюминутный счастливый поворот какого-то дела, как вспышка, лишь освещал несчастную общую картину. «Выгодный» перевод, который ей предлагали, означал недели или месяцы утомительной работы, напоминал о семидесятирублевой пенсии. Переезд на лето в Комарово начинался с поисков дальней родственницы, знакомой, приятельницы, которая ухаживала бы за ней, помогала бы ей. Вручение итальянской премии или оксфордской мантии подчеркивало, как она больна, стара. Точно так же ее улыбка, смех, живой монолог, шутка подчеркивали, как скорбно ее лицо, глаза, рот.
Виталий Яковлевич Виленкин:
Анна Андреевна в Москве бывала всегда, что называется, окружена. Друзья заботились о ней, каждый по-своему, не выпускали ее надолго из поля зрения, старались облегчить ее жизнь. Но то ли потому, что их было много и усилия их, естественно, не координировались, то ли еще почему-нибудь, но только как-то выходило так, что самый элементарный уход, в котором она нуждалась просто уже в силу возраста и болезни, везде, и «дома», в Ленинграде, и «в гостях», в Москве, подолгу отсутствовал. В Ленинграде она была «дома», а все-таки жила она там бездомной.
Наталия Иосифовна Ильина:
Мы влезаем в переполненный автобус, идущий на Хорошевское шоссе, где живет М. Петровых. Мест нет. Ахматова пробирается вперед, я задерживаюсь около кондукторши. Взяв билеты, поднимаю глаза и среди чужих голов и плеч различаю хорошо мне знакомый вязаный платок и черный рукав шубы. Рука протянута кверху, держится за поручень. Обледенелые стекла автобуса, тусклый свет, плечи и головы стоящих покачиваются, и внезапно меня охватывает чувство удивления и ужаса. Старая женщина в потрепанной шубе, замотанная платком, ведь это она, она, но этого никто не знает, всем все кажется нормальным. Ее толкают: «На следующей выходите?» Я крикнула: «Уступите кто-нибудь место!» Не помню: уступили или нет. Только это ощущение беспомощного отчаяния и запомнилось…
Эмма Григорьевна Герштейн:
В 1958 году вышла в свет ненавистная Ахматовой ее куцая книга «Стихотворения» — первая после постановления 1946 года. На подаренном мне экземпляре она надписала: «Остались от козлика ножки да рожки». Когда еще не все авторские экземпляры были раздарены, часто среди разговора Анна Андреевна объявляла, что ей надо еще поработать над своей книгой. Она шла в другую комнату, брала с собой клей и там склеивала страницы, на которых были напечатаны стихи из цикла «Слава миру». Затем аккуратно переписывала другие стихи и вклеивала их в книгу. Причем в каждом экземпляре были другие стихи. Она надеялась таким способом сохранить для потомства свои ненапечатанные стихотворения.
Юлиан Григорьевич Оксман:
24 ноября 1962 г. В девятом часу добрался до новой временной квартиры Анны Андреевны. Она ютится сейчас у Ники Николаевны Глен. Большая коммунальная квартира, очень захламленная (Садовая-Каретная, 8, кв. 13). 8-й этаж. Странно, что А. А. Ахматова, проводящая больше половины года в Москве, живет в таких трудных условиях — всегда «на краешке чужого гнезда», как бедная родственница, без настоящего ухода. Сперва она живет у Ардовых, затем переезжает к Марии Сергеевне Петровых, потом к Нике Глен, потом еще куда-нибудь.
Но Анна Андреевна сейчас очень бодра, в явном подъеме. Вид у нее «победный», блестят глаза, молодой голос, легкие и свободные движения. У нее сегодня были гости из Болгарии, заезжал А. А. Сурков, без конца звонят друзья. Газеты и журналы просят стихов. Правда, Твардовский неожиданно отказался печатать куски из ее поэмы, несмотря даже на специально заказанное К. И. Чуковскому послесловие, но А.А. передает поэму в «Знамя». Журнал этот не очень ей нравится, она презирает и Кожевникова, и Сучкова, но большого значения месту публикации она не придает. Лишь бы печатали полностью, без принудительных вариантов, да скорее… Но в «весну» А.А. верит… Когда же я сказал, что Москва в последние дни похожа на Петербург весною 1821 года, когда все читали IX том «Истории» Карамзина (о зверствах Грозного), А.А. со смехом заметила: «Я ведь подумала об этом же самом».
Виталий Яковлевич Виленкин:
Усугублялось с годами и то, что Пастернак когда-то называл «ахматовкой»: самые гостеприимные хозяева начинали иногда добродушно подсчитывать звонки, которых бывало по 20–30 в день и на которые им часто приходилось отвечать за Анну Андреевну; ее посетители сменяли один другого бесконечной чередой, и нужно было все-таки хоть как-то помогать ей их принимать; да и посильно оберегать ее от чрезмерного утомления тоже надо было. Она бывала легкомысленной по отношению к своему нездоровью, а между тем оно давало о себе знать все более и более тревожными звонками — с валидолом и нитроглицерином она уже не расставалась, задыхания ее повторялись все чаще, приходилось иногда вызывать и «неотложку». Она не жаловалась никогда, в крайнем случае могла сказать о себе: «Я что-то стала совсем плохая», но и это мимоходом. Правда, один раз, когда я ее спросил, бывают ли у нее неприятные ощущения в сердце, она мне ответила не очень похоже на себя: «Только эти ощущения у меня и бывают». Но тоже очень спокойно.
Вячеслав Всеволодович Иванов:
Теперь она почти не бывала одна, вокруг было множество знакомых, друзей, поклонников и поклонниц, иностранных почитателей и исследователей ее поэзии (у отечественных руки тогда еще не дошли, если не считать всем известных единичных исключений). Этот водоворот людей вокруг Ахматовой Пастернак назвал «ахматовкой».
Ахматова и сама могла иногда посмеиваться над своей способностью (может быть, уже привычкой или желанием?) постоянно быть посреди «ахматовки». Все время кто-то приходил и уходил, один помогал править верстку, другой вычитывал текст с машинки, еще одна поклонница помогала найти затерявшуюся рукопись в чемоданчике. И среди этого ералаша Ахматова непостижимым образом писала стихи и прозу, читала книги и журналы, готовилась к писанию литературоведческой статьи.
Маргарита Иосифовна Алигер:
В последние годы — вот и у нас на Лаврушинском — работать ей, очевидно, было трудно, почти невозможно, писала она не много и совсем неприметно — между телефонными разговорами, многочисленными посещениями. Читала она тоже мало, сама говорила, что уже не столько читает, сколько перечитывает. Даже любимый томик Шекспира в подлиннике лежал подолгу раскрытый на одной странице. Главным содержанием ее жизни стали люди, общение с людьми. Телефонных звонков было не счесть, что же до визитов, то если их бывало в день три-четыре, день считался очень спокойным и даже пустоватым. А выпадали дни, когда число посетителей переваливало за десять! И Анна Андреевна переносила такое количество людей с завидной легкостью — день был прожит полноценно.
Она любила знать с утра, что вечером кто-то придет. Не забежит мимоходом, а придет в гости на целый вечер, сидеть, пить чай, беседовать. Нервничала, если редко звонил телефон.
Лев Адольфович Озеров:
Последние восемь-десять лет жизни Анна Андреевна Ахматова была окружена людьми в большей степени, чем прежде. Это были старые друзья (Ф. Г. Раневская, Н. А. Ольшевская, Л. К. Чуковская, В. М. Жирмунский, Э. Г. Герштейн, Н. Я. Мандельштам и другие). К ним добавились «друзья последнего призыва». Среди этих последних были люди глубоко преданные ей, понимающие ее, искренно желающие помочь ей. Но приходили и люди, чуждые ей, шумные, всего более желавшие обратить внимание общества на то, видите ли, обстоятельство, что и «мы имели честь» общаться с Анной Ахматовой. Они записывали ее голос на пленку, фотографировали, задавали банальные и никчемные вопросы. Интервью и интервьюшки…
Утомленная такого рода посетителями, Анна Андреевна как-то на другой день сказала мне:
— Что-то странное, а подчас и подозрительное вижу в этом вспыхнувшем интересе к бывшей, чудом выжившей акмеистке. Это не по мне. Мне спокойней и привычней в моем одиночестве, я в нем знаю каждый уголок…
Наталия Александровна Роскина:
Кто только в эти годы к ней не ходил! Иностранцев было неистовое количество.
Наталия Иосифовна Ильина:
Последние годы своей жизни она допускала к себе всех, кто хотел ее видеть, и круг ее знакомых расширялся безудержно…
Прежде было иначе… Помню, как поздней осенью 1955 года ко мне на улицу Кирова без телефонного звонка зашла одна моя приятельница и застала у меня Ахматову. На моих глазах Анна Андреевна облачилась в свою непробиваемую броню и уже только на вопросы отвечала, и то кратко, и уж вообразить было нельзя, что она бывает иной. Приятельница моя оробела, не засиживалась, я ее не удерживала, и, одеваясь в передней (а я провожала), она говорила не полным голосом, а шепотом, будто рядом больной. Сильное впечатление умела произвести Ахматова на свежего человека!
Был около нее в те годы узкий круг друзей, дружба с которыми исчислялась десятилетиями. Новых людей допускала к себе с трудом.
Но вот стали выходить ее книги. Сначала переводы корейской поэзии. Затем (1958 год) не только переводы Ахматовой, но и стихи ее. Вскоре Государственное издательство художественной литературы подготовило новую книгу стихов, без переводов. Эта толстенькая, малого формата, изящная книжка появилась весной 1961 года.
Ахматова стала получать письма читателей. Все чаще звонил телефон: редакции просили новые стихи, корреспонденты интересовались творческими планами… Вновь пришла к Ахматовой слава, о которой она когда-то могла отозваться так презрительно: «А наутро притащится слава погремушкой над ухом трещать» — и так равнодушно-надменно: «Отдай другим игрушку мира — славу, иди домой и ничего не жди».
А теперь эти игрушки и погремушки стали тешить Ахматову. К материальным благам по-прежнему «без внимания» (ее выражение), в новой ленинградской квартире почти не жила, в Москве скиталась по друзьям, лето — в комаровской Будке, и шуба старая, и с обувью неблагополучно. Но поклонение, и лесть, и оробелые поклонники обоего пола, и цветы, и телефонные звонки, и весь день расписан, и зовут выступать или хотя бы только присутствовать — это стало нужным.
Придешь к ней, сядешь, закуришь, а Анна Андреевна с лицом таинственным и значительным вынимает из сумки (черной, порыжелой, всегда туго набитой) листок. Протягивает. Листок оказывался либо письмом читателя, недавно открывшего для себя Ахматову и свежо этому удивившегося, либо бумагой с грифом какого-нибудь института, где некто занялся изучением творчества Ахматовой и просит добавочных сведений. Иногда из сумки извлекалась газетная вырезка или страница журнала… Прочитав, следовало что-то говорить, а лучше восклицать. Хвалить читателя за чуткость. Об институте, занявшемся изучением ахматовского творчества, говорить: «Давно пора!» Газетную заметку следовало либо одобрять, либо ею возмущаться.
Я, случалось, путала. Одобряла, а ждали от меня возмущения, ибо в статейке проскользнуло что-то Ахматовой не понравившееся… Я, значит, радостно восклицаю, а по лицу ее, по гневно сузившимся глазам вижу, что попала не в струю, пытаюсь на ходу перестроиться, мечтая, однако, чтобы мне подсказали, чем именно надо возмущаться. Подсказывали: «Вы что ж, не заметили…» Я горячо протестовала: ну конечно заметила! Только сначала хотела отметить положительную сторону явления, а уж потом… И она, видевшая на семь аршин под землею, она, мудрейшая, она, всезнающая, всепонимающая, — она перестала чувствовать фальшь!
…Слышу: «Ахматова сказала…», «Ахматова считает…» Спрашиваю: «Откуда вы знаете?» — «От такого-то. Он на днях у нее был». Имя «такого-то» мне знакомо и мною не уважаемо. Думаю: «Господи, его-то она зачем пустила к себе? И зачем ей вообще нужны эти разношерстные толпы?»
Осуждала. Смела осуждать. А ведь дрогнула она лишь в одном: стала менее строга к себе, позволила себе немного расслабиться, молчание и отшельничество утомили ее. И все осталось при ней. Ее «таинственный песенный дар» не покинул ее до смерти. Пронзительный ум (встречала ли я кого-нибудь умнее?), великолепная ирония, умение давать меткие характеристики, точность и взвешенность каждого слова — все было с ней до конца. Но она не была ни святой, ни статуей, ничто человеческое не было ей чуждо… В каком-то из писем Льва Толстого в период его работы над «Анной Карениной» проскальзывает такая примерно мысль: пишешь, пишешь (дело одинокое!), и наступает наконец минута, когда непременно надо, чтобы тебя похвалили. Это, значит, и гению нужно.
Виталий Яковлевич Виленкин:
Могла показаться, да многим и казалась, тщеславной суетностью та нескрываемая жадность, с которой она с некоторых пор стала воспринимать всякое свидетельство популярности своих стихов, как говорится, «в широких кругах» интеллигенции и учащейся молодежи, а также все возрастающего интереса к ее поэзии на Западе. Она не скрывала своей гордости, вынимая из сумки и какое-нибудь совсем неожиданное, корявое письмо из далекого, когда-то «медвежьего» угла, иной раз из лагеря, с признанием в давней любви и просьбой прислать новую книжку Она с явным удовольствием рассказывала, как однажды в больнице, куда она попала с тяжелейшим приступом аппендицита, санитарка, причесывая ее в постели, вдруг ей сказала: «Ты, говорят, хорошо стихи пишешь» — и на ее вопрос, откуда она это взяла, ответила: «Даша, буфетчица, говорила».
Каюсь, и мне казалось чем-то нескромным, предосудительным даже, когда Анна Андреевна интересовалась, дошло ли до меня, как ее книжка «скандально вела себя» при появлении в Москве и Ленинграде, что распродана она была чуть ли не за полчаса, что за ней всюду выстраивались огромные очереди, что из-за нее чуть ли не дрались «покупатели-генералы» и т.д. <…>
Все, что было связано с надеждой напечатать новые произведения — полный текст «Поэмы без героя» и последние циклы стихов, — все это волновало Анну Андреевну мучительно, болезненно, не в переносном смысле, а в самом прямом, до сердечных приступов. Каждую очередную несбывшуюся надежду она воспринимала как удар, после которого долго не могла оправиться. Но переживала она свои неудачи молча, а если и говорила об этом, то очень сдержанно и лаконично, без жалоб: просто сообщала факт. И очень хорошо знала цену любой даже частичной удаче: хотя бы сокращенной публикации, хотя бы где-то кем-то «заниженного» тиража, хотя бы «не ее» композиции журнальной подборки.
Лев Адольфович Озеров:
У старых людей есть потребность в том, чтобы молодые время от времени описывали им значение их для истории. В этом нет ничего неестественного, ущербного или комического. Такая потребность у всех, проживших на этом свете семьдесят и более лет.
Прихожу к Анне Андреевне Ахматовой. Она с первых же слов торжественно жалуется:
— Мне вчера вернули мои стихи из редакции. Со мной обращаются как с сенной девкой.
— Что вы, Анна Андреевна! Как можно?
Она спокойно, не без интереса наблюдает за тем, как во мне нарастает возмущение. Молчит, чего-то ждет. Наконец говорю:
— Вам это показалось. Все смотрят на вас как на императрицу.
Поправляет шаль на плечах, слегка поднимает голову, опускает веки. Приготовилась слушать. Я не заставляю себя долго ждать.
— Это не только мое мнение.
Не выдерживает:
— А чье же еще?
— Большинства.
— Это ваша доброта множит ваше суждение на множество.
— Могу назвать этих людей.
— Можно без имен, но в чем смысл их суждения?
— Они давно и прочно оставляют за вами первенство в современной поэзии.
Ничего не отвечает. Слушает внимательно, несколько отрешенно. Чувствую, что могу долго продолжать в том же духе. Но в этом нет необходимости. Анна Андреевна пришла в себя. Она избыла свою досаду и взбодрилась.
— Не хотите ли прослушать несколько новых строк?
Читает из блокнота новое стихотворение.
Вячеслав Всеволодович Иванов:
Ахматовой было всегда интересно и важно, что о ней говорят и пишут, даже когда это были и люди безвестные, не то что Блок; ей это, во всяком случае, никогда не было безразлично. И не скажу, что всегда устраивали ее похвалы. Как-то, показывая мне льстивое письмо молодой женщины из литературной семьи, Ахматова сказала мне, когда я его прочитал: «Правда, что-то не то? Как будто ко мне заползла змея».
Дмитрий Евгеньевич Максимов:
Люди, стоявшие к Анне Андреевне ближе, чем я, рассказывали, что гордыня доводила ее иногда (вероятно, не часто) до капризов, проявлений несправедливости, почти жестокости. Я не был свидетелем таких эксцессов — Анна Андреевна даже несогласие со мною выражала очень мягко, — но и я вполне отчетливо ощущал полускрытое шевеление в ней этой гордыни. Самоутверждение принимало у нее подчас наивные формы. Как-то, предлагая мне прочитать письмо к ней какого-то поклонника из Франции, она обратила мое внимание на фразу, в которой она названа grand poet'oм. И несмотря на то что таких писем приходило к ней немало, она, читая их, не скрывала удовольствия и показывала их своим посетителям.
Да, она ловила знаки признания и почета. Как хотела она, чтобы о ее поэзии писали статьи и исследования! И однако, можно быть уверенным, что все это было не столько проявлением славолюбия в прямом смысле, которое питается из своих собственных корней, независимо от обстоятельств, но имело и другие источники — понятное желание занять в литературе подобающее ей положение.
Несколько иной характер носило ее слегка ревнивое, в чем-то похожее на соперничество отношение к тем наиболее выдающимся современным ей русским поэтам, с которыми обычно ее сопоставляли. Она отдавала им должное, вполне признавала их талант, их яркое своеобразие и значение, но вместе с тем в ее устных отзывах о них как о поэтах и людях иногда ощущалась какая-то привнесенная сдержанность и временами — перевес обычно справедливых, но порою слишком заостренных критических замечаний.
Виталий Яковлевич Виленкин:
Ее сосредоточенность на своей литературной судьбе в последние годы, вероятно, могла иногда показаться даже чрезмерной. Но только на поверхностный взгляд. В ее творческом самосознании не было эгоцентризма, она никогда не замыкалась в себе и не ставила себя выше других. Судя по многим ее высказываниям, которые мне приходилось слышать, Ахматовой вообще было свойственно видеть себя как поэта не отдельно и отнюдь не на «пьедестале», а в ряду других поэтов своего времени. От Блока, Маяковского, Хлебникова, Мандельштама, Пастернака, Цветаевой — до Твардовского, Заболоцкого, Ольги Берггольц, Марии Петровых, Арсения Тарковского, до молодого поэтического окружения ее последних лет.
Вряд ли она сомневалась в том, что у нее есть свое место в истории поэзии XX века. Но вот ведь почему-то совсем не любила, когда ее сверхпочтительно встречали как «живого классика», обычно отвечала на подобные декларации юмором или каким-нибудь нарочито житейским прозаизмом. Она не могла не думать о том, в чем сейчас непосредственно выражается ее участие в литературной жизни страны, о том, как воспринимается читателем, особенно молодым, новое в ее стихах, в ее последней заветной поэме. Отсюда и протест против возможных искажений и «перекосов» ее творческой биографии. <…>
Поражала и не могла не поражать в этой старой, уже малоподвижной физически, больной и усталой женщине какая-то все возраставшая напряженность духовной жизни, какое-то непрерывное торжество духа творчества над старостью, над болезнями, над бездомностью и мало ли еще над какими невзгодами. Ведь за последние годы она ни разу не приезжала в Москву без стихов, и каких стихов!
Анатолий Генрихович Найман:
В последние годы, однако, переезды давались ей все труднее, главным образом из-за болезни сердца. За час до выхода из дома появлялись симптомы Reisefieber, предотъездной лихорадки, иногда случался сердечный приступ. Ездила она только с какой-нибудь близкой знакомой или свойственницей. На вокзал прибывали задолго до подачи поезда к перрону. Как-то раз сидели в зале ожидания на Московском вокзале в Ленинграде, и сопровождавшая ее Стенич-Большинцова вспомнила, как они с мужем провожали Мандельштама и тоже приехали раньше времени; в зале стояла пальма в кадке, Мандельштам повесил на нее свой узелок и произнес: «Одинокий странник в пустыне». Кто-нибудь из молодых назначался ответственным за ахматовский багаж, кто-то постоянно находился возле нее с нитроглицерином под рукой — другой флакон с нитроглицерином всегда лежал у нее в сумочке. Шла к вагону она медленно, опираясь на чью-нибудь руку, и время от времени останавливалась отдохнуть.
Михаил Васильевич Толмачёв:
Последняя моя встреча с Анной Андреевной относится к июню 1964 года. Было это 21 июня, за два дня до ее 75-летия. <…> Анна Андреевна сказала, что собирается «встретить» день своего рождения в поезде Москва — Ленинград, выехав на самом исходе 22 июня. Было понятно, что ей хочется избегнуть оскорбительного невнимания или еще более оскорбительного полувнимания к этой дате со стороны московского Союза писателей. Предчувствия Анну Андреевну не обманули. Не знаю, как московский, а ленинградский Союз в лице его руководителя «поэта-лауреата» Прокофьева поздравил Анну Андреевну… в августе 1964 года.
Сильва Соломоновна Нитович:
Ранним утром 24 июня 1964 г. в саду мне нарезают особенно большой букет сирени. Здесь сегодня вообще торговля цветами идет бойко и оживленно. Комарово покупает цветы для А. А., которой исполнилось 75 лет.
Дача вся в цветах. Цветы стоят в вазах, банках, кастрюлях и ведрах. Боясь торжеств, она, как всегда, этот день проводит в Комарове, чтобы, как она говорила, «не быть ни в Москве, ни в Ленинграде». Но тем не менее комаровская почтальонша не слезает с велосипеда, доставляя пачками поздравительные телеграммы. Телеграммы идут сплошным потоком: и от московского Союза писателей, и от различных издательств, и от друзей, и просто от чужих, незнакомых людей. Единственная организация, которая не поздравила А.А., был ленинградский Союз писателей.
В сущности, человеком, поздравившим ее от Ленинградского отделения, был только союзный шофер Вася, который 25-го днем заехал в Комарово и привез А.А. все полученные на Союз поздравительные телеграммы. Это было настолько странным, что даже не было обидным.
Так как А.А. не желала отмечать этот день, то пышного торжества не было.
Званых гостей не было. Были только свои. За столом А.А. сидела в парадном платье, все в том же «подряснике», в новой прическе, глаза у нее сияли, и была, по словам Веронички, «такой красоткой».
Лидия Корнеевна Чуковская:
7 ноября 1964. …И тут мы наконец свободно разговорились. Мне даже и хохотать привелось. Видывала я Анну Андреевну негодующей Федрой, Екатериной Великой, царевной Софьей… А тут я впервые увидела Ахматову в комедийной роли. Да еще, кто бы мог подумать, в мужской.
— Все писательские организации поздравили меня, все, кроме родного ленинградского отделения… Да, да, да… Наверное, им за такую оплошность намылили холку: через полтора месяца сам Прокофьев, в сопровождении Брауна и Чепурова, пожаловал ко мне извиняться. Не иначе как по приказу свыше. Преподнес букет белых лилий. Ни дать ни взять — архангел Гавриил.
Интересно, в каких же выражениях он извинялся? В каких — буквально? Чем оправдывался? Анна Андреевна привстала. На моих глазах превратила себя в косопузого, кривоногого поздравителя. В правой руке букет, левой он обнимает голову. Твердит неустанно: «Ой, стыдобища! Ой, срамотища!» Я утерла слезы, Анна Андреевна опустилась в кресло и снова из Александра Прокофьева превратилась в Анну Ахматову.
Исайя Берлин:
Она знала, что ей осталось жить недолго. Доктора объяснили ей, что у нее слабое сердце. Поэтому она терпеливо ожидает конца. Она ненавидит саму мысль о том, что ее будут жалеть. Она знала ужасы, самое безысходное горе, и она заставила друзей дать ей обещание, что они не позволят себе выказать ни малейшего намека на жалость по отношению к ней, что они немедленно подавят в себе всякие признаки жалости, чуть только почувствуют ее. Некоторые из ее друзей не смогли противостоять жалости, и с ними ей пришлось расстаться. Она может вынести все — ненависть, оскорбление, презрение, непонимание, преследования, но только не сочувствие, смешанное с состраданием. <…> Она обладала беспримерной гордостью и чувством собственного достоинства.
Маргарита Иосифовна Алигер:
Она никогда не относилась к жизни как старый человек, никогда не была равнодушной, безучастной и безразличной к тому, что было ей дорого. В последние годы она, казалось, стала моложе, чаще выходила из дома. Примерно за год до ее смерти мы встретились на каком-то литературном вечере. Я сказала, что собираюсь ее навестить — жила она тогда у старой приятельницы в Сокольниках.
— Буду рада вам, — сказала Анна Андреевна, — но не будет ли вам трудно? Это пятый этаж без лифта.
— Но ведь вы поднимаетесь, — ответила я.
— Ну, я! — бесшабашно отмахнулась она…
«Легендарная Ордынка»
Анатолий Генрихович Найман:
Московским домом Ахматовой была квартира Ардовых на Ордынке, «легендарная Ордынка», как иронически называла ее сама А.А. и, вслед за ней, близкие к ней люди. Хозяйка, Нина Антоновна Ольшевская, предоставляла гостье малюсенькую, но уютную комнату, прежде принадлежавшую ее старшему сыну Алексею Баталову, и окружала почтительно-нежной заботой. Ее полная внутреннего достоинства самоотверженность и преданность Ахматовой оплачивалась доверительностью и любовью старшей подруги. Прежде актриса МХАТа, потом Театра Советской Армии, прожившая, как большинство женщин ее поколения и круга, далеко не безоблачную жизнь, Ольшевская обладала тонким чутьем и горьким опытом, позволявшими ей одинаково хорошо разбираться в людях и в стихах. Она умела делать добро. Ахматова повторяла: «Добро делать очень трудно; зло делать просто, а добро очень трудно». Я спросил Нину Антоновну, почему она так антипедагогично балует внучку. «А хочу, чтобы, когда я умру, она вспоминала, какая у нее была добрая бабушка», — ответ был совершенно серьезный. Высокая, стройная, несуетливая, немногословная, она задавала тон этому дому, в котором за столом могли одновременно оказаться ее претенциозная свекровь и Ахматова, Пастернак и пошляк-эстрадник, академически корректно строящий фразы Жирмунский и пьяные студенты. Ее судьбе Ахматова собиралась посвятить в своей прозаической книге главу «И все-таки победительница».
Ее муж, Виктор Ефимович Ардов, знавший все существовавшие в мире шутки, анекдоты и остроты и с переменным успехом изобретавший новые, зарабатывал на свою немалую семью и сменявших один другого гостей и постояльцев продажей во все газеты и журналы, от «Вестника ЦСУ» до «Крокодила», юморесок, юмористических рассказов и других видов юмора. Он был знаком со всей Москвой, и около него всегда кружился какой-нибудь сатирик из провинции или конферансье. Речь его была яркой даже в тех случаях, когда яркости не требовалось, на всякий поворот беседы у него оказывалась запасена история, более или менее к месту, как правило, экстравагантная и смешная. И собеседника он провоцировал на рассказ таких же историй. Это довольно распространенная манера общения, без обострений, без взлетов и провалов, в разговоре участвуют не сами люди, а вспоминаемые ими по поводу, а можно и без повода, истории, помесь деградировавшего «Декамерона» с увядшей «Тысячью и одной ночью», что-то вроде шлепанья через томительные пяти- или десятиминутные промежутки картами в игре «свои козыри». И если партнер на соответствующий лад настроиться не мог и пускался в обыкновенное повествование, Ардов демонстративно отвлекался от разговора, начинал рисовать на обрывке бумаги, заваривать чай, искать в справочнике телефонный номер, при этом с лицемерно-сочувственной интонацией приговаривая невпопад: «Ай-яй-яй. Да, да, вообще знаете ли…» Когда Ахматова спросила у Нины Антоновны, как ее внучка обращается к отчиму, и, узнав, что по имени, одобрила: «Так и нужно. Папой надо называть папу, мамой маму…» — он, проходивший мимо, тут же подхватил: «…дядей дядю, снохой сноху, шурином шурина. Я, Анна Андреевна, подработаю список, подам вам, ладно?»
Кроме Баталова… у них было еще два сына, Михаил и Борис, родившиеся незадолго до войны. Оба выросли на глазах у Ахматовой, оба в какой-то мере были воспитаны ею, фактом ее присутствия в их доме. Михаил, литературно одаренный, усвоивший отцовскую живость, насмешливость и остроумие, был прозван ею Шибановым в честь воспетого А. К. Толстым стремянного, верного своему князю до смерти. «Но слово его все едино», — декламировал он, усаживая ее в такси, и она без выражения продолжала: «Он славит сваво господина». Борис, служивший актером в театре «Современник», назывался «артист драмы», как герой известного рассказа Зощенко. Он обладал безошибочным чутьем на фальшь и ложь и даром лицедейства, мгновенно преображавшим его в премьер-министра на трибуне ООН, в поэтессу, рассказывающую Ахматовой о своем успехе, в мерзнущего на лестнице шпика. Принесенная им частушка:
- Дура, дура, дура я,
- Дура я проклятая,
- У него четыре дуры,
- А я дура пятая, —
была ею тотчас оценена и пополнила арсенал: «Это я. И это мои стихи». В домашнем употреблении была и другая, сочиненная Михаилом еще в бытность студентом-филологом по поводу визита к Ахматовой академика Виноградова и одобренная ею, «узко цеховая» частушка:
- К нам приехал Виноградов,
- Виноградова не надо;
- Выйду в поле, закричу:
- Мещанинова хочу!
«Миша-беспощадник», — улыбалась она. У обоих мальчиков Ардовых был хороший вкус, проявлявшийся, правда, наиболее выразительно в отталкивании от вещей дурного вкуса. Многое в литературе и в искусстве они получали из первых рук, например, им, еще детям, позволили сидеть в гостиной, где Пастернак — для Ахматовой и для хозяев — читал только что переведенные куски «Фауста», и, слушая сцену в кабачке, они засмеялись, на них зашикали, но Пастернак сказал, что и должно быть смешно. Как большинство людей, приученных смотреть на литературу как на живое дело, а не как на стоящие на полке книги, они не благоговели перед ней, не говорили о ней с придыханием и вообще больше были гуляки, выпивохи и любители приключений, чем книгочеи.
Алексей Владимирович Баталов:
Надобно сказать, что под руководством Ардова завтрак в нашем доме превращался в бесконечное, нередко плавно переходящее в обед застолье. Всё, приходившие с утра и в первой половине дня — будь то школьные приятели братьев, студенты с моего курса, артисты, пришедшие к Виктору Ефимовичу по делам, мамины ученики или гости Анны Андреевны, — все прежде всего приглашались за общий стол и, выпив за компанию чаю или «кофию», как говорила Ахматова, невольно попадали в круг новостей и разговоров самых неожиданных. А чашки и какая-то нехитрая еда, между делом сменяющаяся на столе, были не более чем поводом для собрания, вроде как в горьковских пьесах, где то и дело по воле автора нужные действующие лица сходятся за чаепитием.
В этом круговороте постоянными фигурами были только Ахматова и Ардов. Он спиной к окну в кресле, она — рядом, в углу дивана. Оба седые, красиво старые люди, они много лет провожали нас, напутствуя и дружески кивая со своих мест, в институты, на репетиции, в поездки, на свидания, а в общем-то, в жизнь.
Эмма Григорьевна Герштейн:
Дом Ардовых напоминает проходной двор. Тут и соавторы Виктора Ефимовича, пишущие для эстрады, и подруги Нины, актрисы со своими заботами, и гурьба школьных товарищей Миши и Бори Ардовых — все это приходит и уходит, ночует, уезжает в другой город, сваливается на голову без предупреждения, и даже портниха из соседней квартиры заходит со своими клиентами в столовую Ардовых для примерки перед большим зеркалом.
Дмитрий Николаевич Журавлёв:
В доме Ардовых было многолюдно, весело. Обилие друзей — артистов театров и эстрады, — шум и гам, как ни странно, казалось, абсолютно устраивали Анну Андреевну. Видно было, что здесь ей уютно, что здесь она хорошо себя чувствует.
Лидия Корнеевна Чуковская:
18 января 1954 …Меня очень смешат шутки Ардова, которые Анна Андреевна выносит с благосклонной полуулыбкой. Он постоянно «снижает» величавость Ахматовой, называя ее то «m-me Цигельперчик», то «жиличка», то «командировошная из Ленинграда». Когда она при мне вошла в столовую в шуршащем лиловом халате — Ардов сказал, поднимаясь ей навстречу: «Благословите, отец благочинный!..»
12 февраля 1954. Только что пришла от Анны Андреевны.
Ардов изображает дурака-грузина, попрекающего тещу: «Вам, мама, в вашем возрасте не пудриться надо, а размышлять о потустороннем мире». Анна Андреевна, сидя на диване в пышном лиловом халате, сохраняет полное спокойствие и неподвижность лица— всё вместе уморительно.
Наталия Иосифовна Ильина:
Нина Антоновна спрашивала с грубоватой заботливостью: «Лекарство опять не приняли?» Отодвигала масло: «Хватит, вам больше нельзя». Мальчики были весело-почтительны. Анна Андреевна… смеялась на шутки Ардова, и чувствовалось, что она привязана к Нине Антоновне и к мальчикам и что в этом доме ей хорошо.
Виталий Яковлевич Виленкин:
Когда она здесь гостила, ардовский телефон работал вовсю (хотя Анна Андреевна телефонных разговоров вообще не признавала и вела их лаконично, только по необходимости); поток посетителей с трудом поддавался какой-либо регламентации: помимо друзей и давних знакомых побывать у Ахматовой — в последние годы — стремились еще очень и очень многие. Да она и сама, если позволяло здоровье, много выезжала. Иногда расписание приемов и выездов путалось, одни налезали на другие, и начиналось то, что Пастернак очень образно называл «ахматовкой», имея в виду, очевидно, все вместе — и встречи, и проводы, и беспрерывный поток посетителей, и телефон, и хаос в комнатах, и общую приподнятую атмосферу дома, взбудораженного приездом Анны Андреевны.
Виктор Ефимович Ардов:
Чем старше становилась, тем больше любила окружать себя молодежью. В нашем доме часто собирались друзья моих сыновей. И Анна Андреевна, радостная, оживленная, сидела на своем обычном месте на диване в нашей маленькой столовой, слушала громкие шутки собеседников, из которых старшему едва исполнилось 25, шутила сама…
Более того: часто именно по инициативе Анны Андреевны затевались такие пирушки. Она часто просила моих сыновей организовать «бал», по ее выражению, — собрать сверстников, распорядиться насчет трапезы…
Анатолий Генрихович Найман:
…Я получил неожиданный гонорар и хотел пригласить в ресторан всю ордынскую компанию, она посоветовала вместо этого купить ведро пива и ведро раков и прямо с двумя ведрами явиться к Ардовым; и когда я так и сделал, купив ведра в хозтоварах, раков на Сретенке, пива в Кадашевских банях, и, догрызая последние клешни и дочерпывая со дна остатки пива после еще одной или более ходок в те же бани, все шумно отдали должное замыслу и его осуществлению, Ахматова, с таким же красным и отяжелевшим, как у остальных, лицом, но без их горячности и многоглаголания, произнесла: «Дай Бог на Пасху, как говорил солдат нашей няни».
Иосиф Александрович Бродский. Из бесед с Соломоном Волковым:
Волков. Опишите «ахматовку» подробнее.
Бродский. Это, в первую очередь, непрерывный поток людей. А вечером — стол, за которым сидели царь-царевич, король-королевич. Сам Ардов, при всех его многих недостатках, был человек чрезвычайно остроумный. Таким же было все его семейство: жена Нина Антоновна и мальчики Боря и Миша. И их приятели. Это все были московские мальчики из хороших семей. Как правило, они были журналистами, работали в замечательных предприятиях типа АПН. Это были люди хорошо одетые, битые, тертые, циничные. И очень веселые. Удивительно остроумные, на мой взгляд. Более остроумных людей я в своей жизни не встречал. Не помню, чтобы я смеялся чаще, чем тогда, за ардовским столом. Это опять-таки одно из самых счастливых моих воспоминаний. Зачастую казалось, что острословие и остроумие составляло для этих людей единственное содержание их жизни. Я не думаю, чтобы их когда бы то ни было охватывало уныние. Но, может быть, я несправедлив в данном случае. Во всяком случае, Анну Андреевну они обожали.
Приходили и другие люди: Кома (Вяч. Вс. — Сост.) Иванов, гениальный Симон Маркиш, редакторши, театроведы, инженеры, переводчики, критики, вдовы — всех не назвать. В семь или восемь часов вечера на столе появлялись бутылки.
Владимир Сергеевич Муравьёв:
Вот однажды у меня было впечатление. Это, кажется, было у Ардовых, много народу сидело за столом. Сидели там симпатичные мне люди, Нина Ольшевская, которую я очень любил. Ну и ребятки ардовские хорошие очень. И вот посмотрел я на все эти милые лица… И немножко отстраненно сидела Анна Андреевна. Это было совсем другое. Это было лицо, на котором было сияние. Она чуть ли не на кусок сыра смотрела, я не знаю. И тем не менее у нее в лице было что-то такое… ну, печать, что ли, отмеченность. Оно было по-особому… по-особому структурировано.
Симон Перецович Маркиш (1931–2003), поэт, переводчик:
Всегда бросалась в глаза молчаливость Ахматовой на фоне шумной ардовской жовиальности. Впрочем, молчаливой видел я ее и в остальных московских домах, где она находила приют.
Виталий Яковлевич Виленкин:
Все это приходилось не раз заставать здесь и мне. Но еще больше Ордынка помнится мне другой, тихой, без всякой «ахматовки». Может быть, потому, что я часто заставал здесь Анну Андреевну больной, или в периоды после тяжелой болезни, или просто очень усталой. Обычно мы сидели с ней «у нее», то есть в крошечной комнатке Алеши Баталова (старшего сына жены Ардова, Н. А. Ольшевской), которую Алеша неизменно, при любых своих личных обстоятельствах, с радостью уступал Анне Андреевне, когда бы ей ни вздумалось приехать.
В этой комнатке было тесно и от того немногого, что там находилось обычно: в нее еле вмещалась тахта, маленький письменный стол, стул и, кажется, еще столик с зеркалом. А когда с приездом Анны Андреевны все это еще заваливалось книгами, папками, раскрытыми чемоданами и т. п., закуток становился еще теснее. Стул стоял прямо против ее тахты и очень к ней близко. Уже от одного этого общение с ней поневоле приобретало здесь особую остроту, особенно когда она начинала читать своему гостю новые стихи. А без новых стихов она в Москву не приезжала — я, по крайней мере, такого случая не помню.
Читать она начинала почти сразу, почти непосредственно после какого-нибудь полуиронического вступления, вроде «ну, что мы имеем на сегодняшний день?» или «что произошло за отчетный период?» — как будто заранее ждала этого и вот теперь без всяких отлагательств исполняла свое намерение. Читала почти всегда наизусть, только в редких случаях просила достать из чемодана или из груды папок на окне одну из своих записных книжек. И какой бы она ни была в этот день бесконечно усталой, как бы пугающе ни сказывался недавний сердечный приступ в неровном дыхании и иссиня-черном цвете губ, она непременно читала стихи. И ничто не могло помешать ее внутреннему преображению: ни случайность того, что было на ней надето, ни грузная «непоэтичность» ее позы на тахте, ни квартирный шум за стеной, ни духота этой тесной клетушки, в которой она еще предлагала своим посетителям не стесняться курить.
Бывало иногда, что Анна Андреевна ждала у себя на Ордынке не просто слушателя, которому могла доверить свои новые стихи, но кого-нибудь, чье впечатление могло бы ей как-то помочь в еще не оконченной работе. Однажды она меня встретила в передней совсем не по-обычному, я сразу заметил, что она чем-то не то взволнована, не то смущена, и подумал, что, наверно, не вовремя пришел. Оказалось, что это волнение, эта немножко напряженная улыбка относятся ко мне непосредственно. Она решила прочитать мне несколько сцен из трагедии Гюго «Марион Делорм», которую в то время переводила по заказу Гослитиздата: «Не бойтесь, я не очень долго буду вас «душить трагедией в углу», но вы — театральный, «понимающий» и должны мне честно сказать, как это выходит сценически». Прочитала она мне почти два акта, стесняясь, что «утомляет». Но было видно, как она этим переводом увлечена (вспоминают, что она им тяготилась, — я видел другое).
Будка
Виталий Яковлевич Виленкин:
С лета 1961 года начались мои не очень регулярные, редкие, в общем, поездки в Комарово, чтобы повидаться с Анной Андреевной — либо у нее на даче, в Будке, как она называла этот домик, предоставленный ей ленинградским Литфондом во временное пользование, либо зимой в литфондовском Доме творчества.
Комарово Анна Андреевна, по-моему, не любила, с этим чуждым ей пейзажем скорее примирилась, чем сжилась, и эта земля навсегда осталась для нее «холодной», «железной», с «черными, приземистыми елками» и чужим, не ее поля, вереском.
На каком-то «листке из дневника» у нее так тоскливо «на своем языке говорят» комаровские «сосенки, которые сейчас сердито качаются на фоне белой ночи…». По-моему, она здесь острее, чем где-либо, ощущала старость и одиночество. Есть и такой «листок из дневника»: «Теперь, когда все позади — даже старость, и остались только дряхлость и смерть, оказывается, все как-то, почти мучительно проясняется (как в первые осенние дни) — люди, события, собственные поступки, целые периоды жизни. И столько горьких и даже страшных чувств…»
Анатолий Генрихович Найман:
Вдоль ахматовской стороны забора тянулась поросшая травой колея, по ней время от времени проезжала одна и та же телега. Лошадью правила жившая наискосок от Будки «женщина-конюх», с которой у Ахматовой были подчеркнуто приязненные, хотя и шапочные, отношения, выражавшиеся в том, что, заслышав шум телеги, она отрывалась от беседы, от перевода, от любого занятия и поднятой рукой приветствовала знакомую. Та радостно отвечала тем же, и Ахматова, непонятно — всерьез или в шутку, признавалась, что боится мнения соседки и чуть-чуть заискивает перед ней.
Другим соседом был Виктор Максимович Жирмунский, в ту пору уже академик, но еще приват-доцентом в 10-е годы знавший Ахматову. О приват-доцентстве он вспоминал всякий раз, когда выпивал рюмочку: казалось, он ценил его выше нынешнего академства, может быть, потому что это было славное время и его молодость.
Сильва Соломоновна Гитович:
По утрам, если не шел дождь, она, в сером клетчатом пыльнике, медленно двигалась по участку, гуляя и собирая грибы. Рядом с ней, неотступно, шаг за шагом, шел мальчик Алик — сын няни из соседнего детского садика. Чтобы Анна Андреевна не нагибалась, он срывал ей грибы и, захлебываясь от восторга, спешки и гордости, без конца ей что-то рассказывал. Когда она уходила в дом, выставить его с нашего участка не было никакой возможности. Мальчик Алик был пленен Анной Андреевной, очарован ею и не хотел никуда уходить. Он приносил разные веточки и втыкал в землю у ее окна. А у крыльца дачи из сосновых шишек выкладывал замысловатые узоры, говоря: «Это для писательницы, которая живет совсем одна и все выдумывает из головы».
Анатолий Генрихович Найман:
Ей нравилось собирать грибы, вокруг дома и по дороге на озеро, и чистить их.
Сильва Соломоновна Гитович:
Бывало, днем, подстелив половичок, Анна Андреевна подолгу сидела на ступеньках террасы, или, как она говорила, «на любимой ступенечке», вглядываясь, не идет ли кто по лесной тропинке.
Виталий Яковлевич Виленкин: