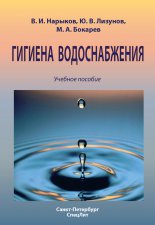Ахматова без глянца Фокин Павел

«Я стала песней и судьбой»
Она притягивала к себе не только своими стихами, не только умом, знаниями, памятью, но и подлинностью судьбы. В первую очередь подлинностью судьбы.
Анатолий Найман
Наследница Пушкина, героиня Достоевского, Анна Ахматова — поэт и гражданин — стала воплощением судьбы России в XX веке: горькой, грозной, смутной, скорбной, в кровавых язвах бед и терзаний, униженной, оскорбленной и — вдохновенной, окрыленной, пророческой, прославленной и воспетой, торжествующей. Ее душа стенала и ликовала вместе с душой России. Скорбела и веселилась. Замирала и воскресала.
- Я была тогда с моим народом,
- Там, где мой народ, к несчастью, был…
Эти бессмертные строки «Реквиема», конечно же, не только о лихолетье сталинского террора: о ночных арестах и обысках, о многочасовых очередях и тюремных передачах, об отчаянии и бессмысленных хлопотах, о томительном ожидании приговора. Они и о более ранних годах. И — на годы вперед. О блокадном Ленинграде. О радости победы. О надеждах и разочарованиях «оттепели». О праздниках и буднях.
Эмма Герштейн вспоминала: «Возвращаясь домой, мы подошли к пивному ларьку, где я хотела купить папиросы. Очередь расступилась. Но Анна Андреевна объявила, что хочет пить. Продавец протянул ей полную кружку пива. Она, не отрываясь, выпила ее до дна. И чем больше она запрокидывала голову, тем большее уважение отражалось в глазах окружавших нас рабочих, и она поставила на прилавок пустую кружку под их одобрительное кряканье и сдержанные возгласы удивления».
Я была тогда с моим народом…
Наталия Ильина рассказывает: «Мы влезаем в переполненный автобус, идущий на Хорошевское шоссе, где живет М. Петровых. Мест нет. Ахматова пробирается вперед, я задерживаюсь около кондукторши. Взяв билеты, поднимаю глаза и среди чужих голов и плеч различаю хорошо мне знакомый вязаный платок и черный рукав шубы. Рука протянута кверху, держится за поручень. Обледенелые стекла автобуса, тусклый свет, плечи и головы стоящих покачиваются, и внезапно меня охватывает чувство удивления и ужаса. Старая женщина в потрепанной шубе, замотанная платком, ведь это она, она, но этого никто не знает, всем все кажется нормальным. Ее толкают: «На следующей выходите?» Я крикнула: «Уступите кто-нибудь место!» Не помню: уступили или нет. Только это ощущение беспомощного отчаяния и запомнилось…»
Там, где мой народ, к несчастью, был…
Мемуаристы вспоминают, сама Ахматова отмечала эти строки «Реквиема». Говорила, что считает большой поэтической удачей вводную конструкцию «к несчастью», которая здесь, сохраняя интонационную свободу разговорной речи, наполнена подлинным смыслом. Немного странно это. Выглядит каким-то неуместным кокетством: радоваться удачному каламбуру, когда речь идет о всенародной трагедии. Хотя можно понять творческую удовлетворенность поэта, который задачу художника видел в преображении «сора» повседневности, в том, чтобы из слов, которыми обычные люди зовут пить чай, создавать стихи. Это как раз тот самый случай. Почти эталонный образец. На грани абсолюта. И все же есть в этом какая-то тайна, некий второй смысл и — недвусмысленное, потому что шокирующее своей почти обнаженной формой — указание на него. Ахматова фиксирует внимание собеседника на двойном значении слов, поясняя на очевидном примере предлагая ключ к прочтению других, смежных, более важных, сокровенных слов и смыслов, о которых — страшится? избегает? — говорить прямо.
Мой народ.
Чьи это слова? Кто так говорит? Кто имеет право так говорить?
Это речь августейшей особы. Царицы. Королевы.
Ахматова была проста и естественна в жизни, но всегда — царственно возвышенна и обособленна. Люди вставали, когда она входила в комнату (в зал!). Разговор стихал, если она начинала говорить. Волнение и трепет охватывали присутствующих. Ее слова были сродни приговорам. Их спешили запомнить, записать, увековечить на скрижалях истории. Внимание приковывал каждый шаг, каждый взгляд. Ее движения, мимика, жесты вызывали сравнение с императрицей. Сосед Ахматовой по даче, литературовед Н. Я. Берковский с доброй улыбкой писал своему коллеге В. Г. Адмони: «По Комарову ходит Анна Андреевна, imperatrix, с развевающимися коронационными сединами, и, появляясь на дорожках, превращает Комарово в Царское Село».
Может, то был голос крови? Она вела свой род от татарских ханов, чингизидов. Или — большая игра? Насквозь театральный Серебряный век был ее колыбелью. Но в те тридцатые, когда писался «Реквием», было совсем не до игры. И все же, осознанно или подсознательно:
- Я была тогда с моим народом.
Похоже, это как раз та самая проговорка по Фрейду (которого Ахматова, кстати, не жаловала), в которой человек, сам того не желая, высказывает свою затаенную суть.
Недоброжелатель тут же уличит поэта в мании величия. И ошибется. Величие было на самом деле. Без всякой мании. И природа его была совершенно особенной. Не гордыня, а, напротив, — смирение, готовность разделить общую участь, принять правду жизни без всякого ее оправдания, без позы и вызова, явились залогом человеческой силы Ахматовой, нескрываемого масштаба ее личности.
- Я научилась просто, мудро жить,
- Смотреть на небо и молиться Богу —
не все, должно быть, поверили этим словам, сказанным на пороге творческого пути. А они оказались заветными.
Гораздо позже, в 1961 году, в стихотворении «Родная земля» Ахматова напишет:
- Да, для нас это грязь на калошах,
- Да, для нас это хруст на зубах.
- И мы мелем, и месим, и крошим
- Тот ни в чем не замешанный прах.
- Но ложимся в нее и становимся ею,
- Оттого и зовем так свободно — своею.
«Мой народ» и «своя земля» — это владение, данное поэту по праву смирения. Того высшего смирения, с которым последний император России принял решение сложить свой царский венец, чтобы принять венец терновый и быть со своим народом, и лечь в свою землю, и стать ею. Царское смирение.
- Земной отрадой сердца не томи,
- Не пристращайся ни к жене, ни к дому,
- У своего ребенка хлеб возьми,
- Чтобы отдать его чужому.
- И будь слугой смиреннейшим того,
- Кто был твоим кромешным супостатом,
- И назови лесного зверя братом,
- И не проси у Бога ничего.
Выбрав смирение, Ахматова выбрала путь истины и свободы. И стала неуязвимой. Отныне и навсегда.
- И упало каменное слово
- На мою еще живую грудь.
- Ничего, ведь я была готова.
- Справлюсь с этим как-нибудь.
- У меня сегодня много дела:
- Надо память до конца убить,
- Надо, чтоб душа окаменела,
- Надо снова научиться жить.
- А не то… Горячий шелест лета
- Словно праздник за моим окном.
- Я давно предчувствовала этот
- Светлый день и опустелый дом.
Долгое время современники считали, что это стихотворение связано с любовными переживаниями Ахматовой, ее разрывом с третьим мужем — Николаем Пуниным. А оно называлось «Приговор» и было составной частью «Реквиема». Написанное в 1939-м в связи с вынесением приговора сыну Ахматовой, Льву Гумилёву, оно носит программный характер. Те, кто видел в нем отражение любовной драмы, не так сильно и ошибались — все невзгоды, каждое «каменное слово», какой бы породы оно ни было, Ахматова преодолевала смирением: сначала душа каменела, а потом — училась жить. Как и должно в «этот светлый день».
Сегодня, из нового века, каким-то диким варварством выглядит борьба советской власти с Ахматовой. Она — частный человек, беспартийный, лирический поэт, одинокая женщина, не умеющая без посторонней помощи включить газовую конфорку, — трижды была предметом обсуждения и осуждения Центрального Комитета правящей партии. Три запретительных постановления ЦК ВКП(б)! Можно подумать, у большевиков других забот не было: что там ГОЭЛРО, ликбез, внутрипартийная оппозиция, индустриализация, коллективизация, война с фашистской Германией, восстановление страны! Вот Ахматова — это да, пострашнее Антанты и Гитлера, Троцкого и Бухарина. Без каких-либо усилий со стороны Ахматовой большевики сами признали за ней статус равноправного и равносильного противника, вручили ей (трижды!) властный мандат, жалованную грамоту или, как там говорили татарские предки поэта, ярлык на княжение. Факт, достойный удивления потомков.
Полный абсурд — с точки зрения реальной политики. Но самая суть — в метафизическом плане. Сама Ахматова, хоть и польщенная таким вниманием власти, все же была склонна объяснять это болезненной личной неприязнью к ней Сталина, его иезуитской натурой. Не без этого. Но и эта вражда — неспроста. Муза Ахматовой говорила на языке «подслушанных слов» — и это был голос самой России. Тихий, глухой, непримиримый. Сталину нужна была покорная и подвластная страна, а Ахматова являла пример смирения и свободы. Не только личного, индивидуального, но — народного. Борясь с Ахматовой, Сталин боролся со смирением-свободой России.
- Мы ни единого удара
- Не отклонили от себя.
- И знаем, что в оценке поздней
- Оправдан будет каждый час…
- Но в мире нет людей бесслезней,
- Надменнее и проще нас
Кто может быть грознее и опасней? И сильнее.
Английский друг Ахматовой, философ и общественный деятель сэр Исайя Берлин восхищенно признавал — а вместе с ним и весь западный мир: «Ее жизнь стала легендой. Ее несгибаемое пассивное сопротивление тому, что она считала недостойным себя и страны, создало ей место не только в истории русской литературы, но и в русской истории нашего века».
Образ Ахматовой постоянно двоится. «От ангела и от орла / В ней было что-то» (М. Цветаева). То «царскосельская насмешница», то «прокаженная». То «веселая грешница», то скорбная плакальщица. Беспомощная и могущественная. «Надменная» и «простая». То замкнутая в себе, то в сумасшедшем вихре «ахматовки». То нищая, в убогом рубище и с сумой, то сыпящая деньгами и подарками. Ленинградка и москвичка. Собеседница Данта и Пушкина — соседка по коммунальной квартире. Жена без мужа. Мать без сына. Русский поэт с татарским именем. Все жило в ней органичной жизнью — жизнью родной земли, своего народа. Двойственность Ахматовой — это двойственность самой России: золотой России Пушкина и сумеречной России Достоевского.
Сама — легенда и миф, в биографических изысканиях Ахматова была точна до педантизма. Не любила мемуаристов. Вела непримиримый бой с разного рода неточностями и оговорами. С подозрением относилась к тем, кто записывал за ней слова.
Но как было не записывать!..
«Сколько глаз человеческих отражало ее с любовью и поклонением, в глазах скольких художников она жила. В моих поселилась давно и навеки» — так прощалась в своем дневнике с Ахматовой художница Антонина Любимова в марте 1966-го. И она была не одинока. Ахматова еще при жизни породила целую литературу о себе, а когда ушла — стала предметом заботливой памяти своих друзей и знакомых. Надо отдать им должное, многие из них (большинство) постарались сохранить живой облик поэта, без мрамора и бронзы, без льстивых слов и восклицаний. Без глянца.
Павел Фокин
Личность
Облик
Галина Лонгиновна Козловская, либреттист, жена композитора и дирижера А. Ф. Козловского, знакомая Ахматовой по годам эвакуации в Ташкенте:
Во все времена своей жизни она была прекрасна. Ее красота была радостью художников. Каждый находил в ней неповторимые, пленительные черты характера. Даже в старости, отяжелев и став тучной, она обрела особую благородную статуарность, в которой выявилось отчетливо и покоряющее величие великолепной человеческой личности.
Валерия Сергеевна Срезневская (урожд. Тюльпанова; 1888–1964), подруга детства Ахматовой:
Она очень выросла (к четырнадцати годам. — Сост.), стала стройной, с прелестной хрупкой фигурой чуть развивающейся девушки, с черными, очень длинными и густыми волосами, прямыми, как водоросли, с белыми и красивыми руками и ногами, с несколько безжизненной бледностью определенно вычерченного лица, с глубокими, большими светлыми глазами, странно выделявшимися на фоне черных волос и темных бровей и ресниц.
Юрий Павлович Анненков (1889–1974), художник, писатель, мемуарист:
Я встретился впервые с Анной Андреевной в Петербурге в подвале «Бродячей собаки» в конце 1913 или в начале 1914 года. Анна Ахматова, застенчивая и элегантно небрежная красавица, со своей «незавитой челкой», прикрывавшей лоб, и с редкостной грацией полудвижений и полужестов, — читала, почти напевая, свои ранние стихи. Я не помню никого другого, кто владел бы таким умением и такой музыкальной тонкостью чтения, какими располагала Ахматова. <…>
Грусть была, действительно, наиболее характерным выражением лица Ахматовой. Даже — когда она улыбалась. И эта чарующая грусть делала ее лицо особенно красивым. Всякий раз, когда я видел ее, слушал ее чтение или разговаривал с нею, я не мог оторваться от ее лица: глаза, губы, вся ее стройность были тоже символом поэзии. <…>
Печальная красавица, казавшаяся скромной отшельницей, наряженной в модное платье светской прелестницы!
Георгий Викторович Адамович (1892–1972), поэт, литературный критик:
Анна Андреевна поразила меня своей внешностью. Теперь, в воспоминаниях о ней, ее иногда называют красавицей: нет, красавицей она не была. Но она была больше, чем красавица, лучше, чем красавица. Никогда не приходилось мне видеть женщину, лицо и весь облик которой повсюду, среди любых красавиц, выделялся бы своей выразительностью, неподдельной одухотворенностью, чем-то сразу приковывавшим внимание.
Лидия Яковлевна Гинзбург (1902–1990), литературовед, историк и теоретик литературы:
Я помню Ахматову еще молодую, худую, как на портрете Альтмана, удивительно красивую, блистательно остроумную, величественную.
Движения, интонации Ахматовой были упорядочении, целенаправленны. Она в высшей степени обладала системой жестов, вообще говоря, несвойственной людям нашего неритуального времени. У других это казалось бы аффектированным, театральным; у Ахматовой в сочетании со всем ее обликом это было гармонично.
Всеволод Николаевич Петров (1912–1978), искусствовед:
Анне Андреевне было тогда лет 45. Высокая, стройная, очень худощавая, с черной челкой, она выглядела почти совершенно так же, как на портрете, написанном Альтманом.
Я вспомнил тогда строчки из воспоминаний графа Соллогуба о знакомстве с женой Пушкина. Соллогуб писал: «В комнату вошла молодая дама, стройная, как пальма». Так можно было бы написать и об Ахматовой.
Эмма Григорьевна Герштейн (1903–2003), литературовед, мемуарист:
Анну Андреевну Ахматову я впервые увидела в январе или феврале 1934 г. в домашней обстановке у Мандельштамов. <…>
Для московского житья она захватила с собой ярко-красную пижаму Пунина, которая подчеркивала ее высокий рост и линейность фигуры. Но матиссовские краски, ренуаровская челка, черные волосы делали ее похожей на японку. Впечатление неточное и, очевидно, неверное, особенно если вспомнить миниатюрность японок, но мы жили так серо, а облик Ахматовой был так необычен, что рождал какие-то неопределенные воспоминания и ложные ассоциации.
Лицо у нее было усталое, немолодое, землистого цвета, однако изящный и нежный рисунок рта, нос с горбинкой были прелестны. Улыбка ее не красила. <…>
И зимой, и весной Анна Андреевна носила один и тот же бесформенный «головной убор»: фетровый колпак неопределенного цвета. Зимой она ходила в шубе, подаренной ей умирающей В. А. Щёголевой еще в 1931 г., весной — в синем непромокаемом плаще с потертым воротником. «Вы ошибаетесь, — возразил мне как-то Осмёркин, — она элегантна. Рост, посадка головы, походка и это рубище. Ее нельзя не заметить. На нее на улице оборачиваются». О десятых годах Анна Андреевна говорила весело и небрежно: «Это было тогда, когда я заказывала себе шляпы».
Лев Владимирович Горнунг (1902–1993), поэт, переводчик.
В этот ее приезд (1936 г. — Сост.) нельзя было не заметить бедности ее одежды. Она привезла с собой одно темное платье с большим вырезом вокруг шеи из дешевой тонкой материи, очень просто сшитое, и еще три ситцевых светлых платья. Туфли были только одни, черные, матерчатые — лодочкой, на кожаной подошве. На голове в солнечные дни она носила небольшой сатиновый платочек бледно-розового цвета. <…>
При встрече с Анной Андреевной этим летом я заметил в ней большую перемену, не то чтобы она очень постарела, но она была сплошной комок нервов. У нее какая-то неровная походка, срывающийся, непрочный голос.
Лидия Корнеевна Чуковская (1907–1996), писатель, многолетняя знакомая и доверенное лицо Ахматовой:
10 сентября 1940. Анна Андреевна в кресле возле стола, в белом платке поверх халата, строгая, спокойная, тихая, мрачная. Я еще раз про себя подивилась тому, как человек может быть таким совершенным и таким выраженным. Хоть сейчас в бронзу, на медаль, на пьедестал. Статуя задумчивости — если задумалась, гнева — если разгневана.
Галина Лонгиновна Козловская:
Она направилась к печке, стала к ней спиной и начала греть руки. И тут мы увидели, что она по-прежнему стройна и прекрасна. В тот вечер глаза у нее были синие. В иные дни они бывали и серыми, иногда голубыми. Еще не седые волосы, цвета соли с перцем, мягко и легко обрамляли ее патрицианскую голову, и вся ее фигура в светло-сером костюме обрисовывалась необычайно изящной, стройной и почти воздушной.
Дмитрий Николаевич Журавлёв (1900–1991), артист, мастер художественного чтения:
Для меня в строгом облике Ахматовой всегда было нечто от классической красоты Ленинграда.
Наталия Александровна Роскина (1928–1989), литературовед:
Я познакомилась с Анной Андреевной летом 1945 года. <…> Разумеется, я никогда не забуду минуту, когда она открыла дверь и на шаг отступила назад, давая мне пройти. Как раз в том году она перестала носить челку и зачесала волосы назад, сделав на затылке обыкновенный пучок седоватых волос. Не было уже и худобы, известной мне по портретам. Я увидела полнеющую пожилую женщину, одетую в дешевый халат и домашние туфли на босу ногу. Но ее статность, скульптурность ее позы (в согнутой руке она держала папиросу), ее красота и непередаваемое благородство всего ее облика — все это меня потрясло больше, чем я могла предположить.
Виктор Ефимович Ардов (1900–1976), писатель, многолетний друг Ахматовой:
В сороковых и пятидесятых годах гардеробом Анны Андреевны стала заведовать Нина Антоновна (Ольшевская, жена Ардова. — Сост.). Своеобразный стиль одежды был в какой-то мере сохранен. Ахматова носила просторные платья темных тонов. Дома появлялась в настоящих японских кимоно черного, темно-красного или темно-стального цвета. А под кимоно шились, как мы это называли, «подрясники» из шелка той же гаммы, но посветлее. Кроме Анны Андреевны, никто так не одевался, но ей очень шел этот несуетливый покрой и глубокие цвета, тяжелая фактура тканей…
Лидия Корнеевна Чуковская:
Она держала руку по-ахматовски: большой палец под подбородком, мизинец отставлен, а три пальца — вместе с папиросой — вытянуты вдоль щеки. (И я еще раз увидала, как неверно изображают ее руку портретисты: на самом деле никаких длинных костлявых пальцев, детская ладонь, а пальцы стройные, но маленькие.)
Питана Лонгиновна Козловская:
Ее руке характерен не жест, а я бы сказала выражение. Его чуть наметил Модильяни на ее портрете. Три полусогнутых от мизинца пальца, чуть поднятый указательный и слегка опущенный большой. И в спокойном состоянии, и в разговоре руки в движении были красноречивы, ахматовски прелестны и неповторимы. Это были удивительные руки!
Лев Владимирович Горнунг:
2.VIII.1951. В последнее время она заметно пополнела, и волосы ее сильно поседели. После войны и Ташкента она уже отказалась от своей традиционной челки и теперь зачесывает волосы назад в пучок.
Лидия Корнеевна Чуковская:
13 июня 1952. …Вот оно, значит, что: горе, годы, болезнь. Совсем другая, не та. Расплылась, отяжелела. Лицо полное, рот кажется маленьким между полных щек. Лицо утратило свою четкую очерченность, свою резкую горбоносость, словно и нос сделался меньше и неопределеннее, чем был. Даже руки переменились: огрубели, набухли. А были такие легкие, детские! Десять лет… Только взгляд остался прежний. И голос.
Наталия Иосифовна Ильина (1914–1994), писатель, мемуарист:
Вот я стою на перроне, передо мной медленно плывут вагоны, и в окне я вижу лицо Ахматовой. Оно поразило меня выражением какого-то гневного страдания. Будто ничего доброго не ждет она и от этого своего приезда. Ничего, кроме бед, не ждет и вполне к этому готова. «У меня только так и бывает!» — часто слышала я от нее.
Оглушенная «шумом внутренней тревоги» (она любила эти пушкинские слова и часто их повторяла), Ахматова не видела ни перрона, ни людей и увидела меня лишь в тот момент, когда поезд остановился и я подошла к окну вплотную. Лицо ее смягчилось, подобрело, а я подумала: «Неужели, неужели у нее всегда такое лицо, когда она одна?»
Анатолий Генрихович Найман (р. 1936), поэт, переводчик, мемуарист, в 1960-е гг. литературный секретарь Ахматовой:
В жизни ей была присуща выразительная мимика, особенно гнева, скорби, сострадания; жестикуляция почти совсем отсутствовала.
Дмитрий Евгеньевич Максимов (1904–1987), литературовед, критик:
Теперь это была величавая женщина, уже не молодая, с лицом благородным и, как прежде, ни на кого не похожим. Возраст, полнота, некоторая грузность, болезненность не лишали ее грации и не стирали следов былой, очень своеобразной, хорошо знакомой по портретам и фотографиям красоты. Своими движениями, речью, глазами она управляла с неизменным самообладанием, уверенно и спокойно.
Анатолий Генрихович Найман:
А сама она была ошеломительно — скажу неловкое, но наиболее подходящее слово — грандиозна, неприступна, далека от всего, что рядом, от людей, от мира, безмолвна, неподвижна. Первое впечатление было, что она выше меня, потом оказалось, что одного со мной роста, может быть, чуть пониже. Держалась очень прямо, голову как бы несла, шла медленно и, даже двигаясь, была похожа на скульптуру, массивную, точно вылепленную — мгновениями казалось, высеченную, — классическую и как будто уже виденную как образец скульптуры. И то, что было на ней надето, что-то ветхое и длинное, возможно шаль или старое кимоно, напоминало легкие тряпки, накинутые в мастерской ваятеля на уже готовую вещь. Много лет спустя это впечатление отчетливо всплыло передо мной, соединившись с записью Ахматовой о Модильяни, считавшем, что женщины, которых стоит лепить и писать, кажутся неуклюжими в платьях.
Лидия Корнеевна Чуковская:
20 января 1954. Опять она показалась мне сегодня изваянием самой себя — а может быть, собственной Музы. Каждое ее движение и, главное, каждую ее неподвижность необходимо запечатлевать — кистью, резцом, а лучше бы всего кинопленкой. Вот сидит на постели, опираясь на обе ладони, голова поднята, в глазах — ум и насмешка, каждая черта оживлена, на устах слово, которое сейчас зазвучит — насмешливое или гневное; вот наклонилась над столиком, на котором раскрыта тетрадь, — в руке карандаш, — глаза опущены, веки неподвижны, лицо как на замке… ее будто нет здесь, она где-то у себя, далеко, «у памяти в гостях». Мрамор? Бронза? Подпись: «Ахматова над своими стихами».
Юлиан Григорьевич Оксман (1895–1970), литературовед, пушкинист:
13 октября 1959 г, вторник. За те несколько месяцев, что мы не видались, она — чисто внешним образом — очень изменилась. Как-то погрузнела — не то что пополнела, а вся «раздалась» и в то же время окрепла, успокоилась, стала еще монументальнее, чем была. К семидесяти годам исчез последний налет Ахматовой эпохи не только «Четок», но и «Anno Domini».
Михаил Васильевич Толмачёв (р. 1935), литературовед, поэт-переводчик:
…В профиль, на низкой тахте, стоящей вдоль стены, сидит Ахматова. Первое зрительное впечатление сильно «разочаровывающее», в прустовском смысле: полное несоответствие заранее созданному образу. Я, конечно, знал, что Ахматова 60-х годов с трудом соотносится со своими обликами на фотографиях Наппельбаума или образами, созданными Альтманом, Анненковым или Данько. У меня была ее недавняя фотография, на которой она, если не чертами лица, то осанкой, статью походила на Екатерину II. Но это перед объективом фотоаппарата. А сейчас… я мгновенно констатировал, что старая седая полная женщина, безмолвно, жестом, пригласившая меня сесть, весьма похожа на гимназическую подругу моей бабушки, жену петербургско-ленинградского врача, Иду Борисовну Мандельштам, — даже что-то еврейское в чертах лица проглядывалось (впоследствии, наблюдая старых украинок, я вставил для себя это «еврейское» в более широкий, южный контекст). И, как почти сразу выяснилось, Анна Андреевна к старости стала туга на ухо, что она, впрочем, не скрывала, а обыгрывала, приставляя ладонь козырьком к уху, чтобы говорили громче.
Дмитрий Николаевич Журавлёв:
Одна из последних наших встреч с Ахматовой состоялась в Ленинграде вскоре после возвращения Анны Андреевны в 1964 году из Италии, куда она ездила для получения присужденной ей международной премии. <…>
До этого мы довольно долго не встречались. Поразила перемена, происшедшая с ней. Она очень пополнела. Ее прекрасное лицо изменилось. Такой особенный «ахматовский» нос с горбинкою почти тонул в лице. Давно исчезла знаменитая челка. Седые волосы были заколоты небрежным пучком.
Наталия Иосифовна Ильина:
До последних дней своей жизни она оставалась и величавой и красивой, но время не было милосердно и к ней. Она полнела. С ее высоким ростом это не бросалось в глаза, к тому же я часто и регулярно ее видела. Но теперь, глядя на фотографии, я замечаю, как потучнела она за последние три-четыре года, как ее твердо очерченное лицо римлянки эту твердость очертаний утрачивало, расплываясь.
Алексей Владимирович Баталов (р. 1929), киноактер, кинорежиссер:
…Человеческие изменения, происходившие с Ахматовой, довольно ясно отражены даже в самом простом подборе ее фотографий. Она менялась вместе со временем, но оставалась собой, ее голос никогда невозможно было перепутать с другими.
Голос
Александр Семенович Кушнер (р. 1936), поэт:
Все эти впечатления, скажу еще раз, подправлены и дополнены последующими, заслонены фотографическими изображениями, но голос… Вот что запомнилось прочно и навсегда. Глуховатый, ровный. Медленная, отчетливая, не сомневающаяся в себе речь. Так никто не говорил, никогда, нигде.
Татьяна Михайловна Вечеслова (1910–1991), балерина:
Обычно я робела и затихала в ее присутствии и слушала ее голос, особенный этот голос, грудной и чуть глуховатый, он равномерно повышался и понижался, завораживая слушателя.
Лев Владимирович Горнунг:
В конце 60-х годов фирма «Мелодия» выпустила долгоиграющую пластинку с голосом Ахматовой, читающей свои стихи. Запись ее голоса была сделана, к сожалению, очень поздно, примерно затри года до ее кончины — в 1963 году. Мне, которому приходилось много раз слышать голос Ахматовой — приятный, грудной, а я в первый раз его услышал, когда ей было только 37 лет, очень тяжело слушать эту пластинку с таким уже старческим, сухим, не ахматовским голосом.
Виталий Яковлевич Виленкин (1911–1997), искусствовед, театровед, литературовед, мемуарист:
Как она читала? Негромко, мерно, но с ощутимым биением крови под внешним покоем ритма. Ничего не подчеркивая, не выделяя, ни стиха, ни строфы, ни одного отдельного слова, ни одной интонации, так что каждое стихотворение выливалось как бы само собой, на едином дыхании, но каждое — на своем дыхании, в своей особой мелодике. Ближе всего из того, что мне приходилось слышать из авторских чтений, это было, пожалуй, к фонографической записи Блока.
Елена Константиновна Гальперина-Осмёркина (1903–1987), мастер художественного слова, жена художника А. Осмёркина:
При чтении Ахматовой мне послышались звуки отдаленного органа. Она читала ровно, без каких-либо актерских приемов, но стихи звучали торжественно и, казалось, доходили до нас тут же, со всей полнотой ее чувств и размышлений.
Игнатий Михайлович Ивановский (р. 1932), поэт-переводчик:
Как читала Ахматова в последние годы жизни? Голос низкий, ниспадающий. Последняя строка почти пропадает, замирает где-то внизу. Общее впечатление — сдержанного величия. По манере то, что называется завыванием, но очень в меру. При таком чтении подробности не выделяются, слушатель как бы видит всю строку, становится читателем.
Чтение — не бытовое, не разговорное. Наоборот, священнодействие. Звук полный, глубокий.
И еще одна особенность: последнюю строку стихотворения Ахматова иногда произносила с чуть заметным оттенком какой-то необъяснимой досады.
Эмма Григорьевна Герштейн:
Свои стихи Ахматова читала, легко прерывая беседу и не меняя позы. Она произносила их ровным тихим голосом, как бы сообщая. Только в некоторых местах прорывалось исступление, тотчас умеряемое. Я до сих пор не забыла, как она читала в 1936 г. стихотворение «От тебя я сердце скрыла». Может быть, потому что она читала его не с глазу на глаз, а в присутствии четырех человек в мастерской художника А. А. Осмёркина, волнение начало овладевать ею в строках:
- Осторожно подступает,
- Как журчание воды, —
и, нарастая, достигло апогея в двух следующих:
- К уху жарко приникает
- Черный шепоток беды… —
слегка вибрирующий голос позволял догадываться о неистовстве, породившем эти строки. Но она тотчас овладела собой и закончила на ровном спаде. Еще больнее ранил меня вырвавшийся у нее возглас «Не забыть!» из трагического стихотворения «Уводили тебя на рассвете», которое она прочла здесь, не боясь.
Поздние магнитофонные записи чтения Ахматовой уже не передают этого впечатления. Голос ее с годами стал ниже и глуше, к тому же магнитофон сам по себе сгущает звук. Главное же в том, что стихи в этих записях текут беспорядочной вереницей, и это нарушает художественный эффект. Сохраняется только строгий ритмический рисунок авторского исполнения.
Галина Лонгиновна Козловская:
Читая свои стихи, она довольно часто, не соразмерив высоты, начинала читать на низком звуке, так что порой чуть задыхалась.
Наталия Александровна Роскина:
Закончив стихотворение, она как бы — голосом — отодвигала его от себя.
Александр Григорьевич Тышлер (1898–1980), художник:
Анна Андреевна читала свои стихи эпически спокойно, тихо, выразительно, так, что между нею и слушателем словно бы возникала прозрачная поэтическая ткань. Создавалось своеобразное мягкое звучание тишины…
Характер
Надежда Яковлевна Мандельштам (урожд. Хазина; 1899–1980), мемуарист, жена поэта О. Мандельштама:
Откуда-то с самых ранних лет у нее взялась мысль, что всякая ее оплошность будет учтена ее биографами. Она жила с оглядкой на собственную биографию, но неистовый характер не допускал ни скрытности, ни идеализации, которой бы ей хотелось.
Надежда Григорьевна Чулкова (1874–1961), жена поэта Г. Чулкова:
Я видела ее и в старых худых башмаках и поношенном платье, и в роскошном наряде, с драгоценной шалью на плечах (она почти всегда носила большую шаль), но в чем бы она ни была, какое бы горе ни терзало ее, она всегда выступала спокойной поступью и не гнулась от уничижающих ее оскорблений.
Светлана Александровна Сомова (1911–1989), поэт, переводчик:
Наверное, одно из главных слагаемых в характере Ахматовой — сила сопротивления.
Алексей Владимирович Баталов:
Мужество не покидало Анну Андреевну никогда, и полагаю, что это вполне естественно, поскольку мужество — качество, отличающее людей высшего порядка и по иронии судьбы стоящее на противоположном конце от тех мышечно-звериных признаков, которыми природа наделяет сильный пол. Человеческое мужество представляет собой силу, почти всегда направленную внутрь себя, в то время как звериное — чаще напоказ, в сторону окружающих, главным образом более слабых.
Наталия Александровна Роскина:
Анна Андреевна всегда была очень терпелива и непритязательна. Антонина Петровна Оксман как-то зашла к ней без звонка и — разбудила; огорченная, стала извиняться. Анна Андреевна ответила: «Ничего. Не сахарная».
Вячеслав Всеволодович Иванов (р. 1928), филолог, поэт:
Она была настолько вне быта и над ним, что застревать на всем этом значило бы изменить ее духу.
Корней Иванович Чуковский (1882–1969), литературный критик, литературовед, переводчик, мемуарист, детский писатель:
Она была совершенно лишена чувства собственности. Не любила и не хранила вещей, расставалась с ними удивительно легко. Подобно Гоголю, Аполлону Григорьеву, Кольриджу и другу своему Мандельштаму, она была бездомной кочевницей и до такой степени не ценила имущества, что охотно освобождалась от него, как от тяготы. Близкие друзья ее знали, что стоит подарить ей какую-нибудь, скажем, редкую гравюру или брошь, как через день или два она раздаст эти подарки другим. Даже в юные годы, в годы краткого своего «процветания», жила без громоздких шкафов и комодов, зачастую даже без письменного стола.
Вокруг нее не было никакого комфорта, и я не помню в ее жизни такого периода, когда окружавшая ее обстановка могла бы назваться уютной. Самые эти слова: «обстановка», «уют», «комфорт» — были ей органически чужды — и в жизни и в созданной ею поэзии. И в жизни и в поэзии Ахматова была чаще всего бесприютна.
Конечно, она очень ценила красивые вещи и понимала в них толк. Старинные подсвечники, восточные ткани, гравюры, ларцы, иконы древнего письма и т. д. то и дело появлялись в ее скромном жилье, но через несколько дней исчезали. Не расставалась она только с такими вещами, в которых была запечатлена для нее память сердца. То были ее «вечные спутники»: шаль, подаренная ей Мариной Цветаевой, рисунок ее друга Модильяни, перстень, полученный ею от покойного мужа, — все эти «предметы роскоши» только сильнее подчеркивали убожество ее повседневного быта, обстановки: ветхое одеяло, дырявый диван, изношенный узорчатый халат, который в течение долгого времени был ее единственной домашней одеждой.
То была привычная бедность, от которой она даже не пыталась избавиться…
Единственной утварью, остававшейся при ней постоянно, был ее потертый чемоданишко, который стоял в углу наготове, набитый блокнотами, тетрадями стихов и стихотворных набросков — чаще всего без конца и начала. Он был неотлучно при ней во время всех ее поездок в Воронеж, в Ташкент, в Комарове, в Москву.
Даже книги, за исключением самых любимых, она, прочитав, отдавала другим. Только Пушкин, Библия, Данте, Шекспир, Достоевский были постоянными ее собеседниками. И она нередко брала эти книги — то одну, то другую — в дорогу. Остальные книги, побывав у нее, исчезали…
И чаще всего она расставалась с такими вещами, которые были нужны ей самой.
Маргарита Иосифовна Алигер (1915–1992), поэт:
Деньги нужны были ей прежде всего для того, чтобы раздавать их людям. Ей самой нужно было очень немного из того, что оплачивается деньгами.
Виктор Ефимович Ардов:
Она многие годы бедствовала. Знавала и голод… Но если у нее появлялись деньги, она раздавала их всем, кто только ни попросит. А как ей нравилось делать подарки!
Дмитрий Евгеньевич Максимов:
Сама бессребреница, она была щедрой. В границах своих малых возможностей, совсем не будучи филантропкой, а только по своему душевному устройству, она оказывала помощь, моральную и даже материальную, своим близким, а иногда — почти посторонним! Когда в последние годы ее обстоятельства изменились к лучшему, с какой легкостью она раздаривала деньги из своих гонораров, книги и вещи! И за всем этим можно было увидеть не только душевную широту, но и сознание добровольно принятого на себя долга, как бы чувство круговой поруки, которое связывает людей и обязывает их помогать друг другу. И она хотела бы, чтобы это чувство разделяли с нею ее близкие и знакомые.
Юрий Павлович Анненков:
Непосредственность, простота, порой — застенчивая шутливость (с грустной улыбкой) и полное отсутствие претенциозности всегда удивляли меня при встречах и беседах с ней.
Сергей Васильевич Шервинский (1892–1991), поэт, переводчик, стиховед:
Вообще трудно оценить ту необычайную скромность, которую Анна Андреевна проявляла в обыденной обстановке. Не могло быть гостьи более нетребовательной, более уживчивой. Она умела вливаться в быт еще недавно далекой ей семьи без всякого насилия над собой и над теми, с кем ее свела судьба. Это не значит, что жить рядом с ней было легко: Ахматова несла, как нелегкий груз, окрепшее бессознательно и сознательно величие, которое никогда не покидало ее…
Павел Николаевич Лукницкий (1900–1973), поэт, прозаик, биограф Н. С. Гумилёва:
АА не тщеславна, не носится с собой, не говорит о себе <…> излюбит, когда о ней говорят, как об «Ахматовой», не выносит лести, подобострастия… Чувствует себя отвратительно, когда с ней кто-нибудь разговаривает как с метром, как со знаменитостью, робко и принужденно-почтительно. Не любит, когда с ней говорят об ее стихах.
Михаил Борисович Мейлах (р. 1944), литературовед:
Ко всему, связанному с автографами, Анна Андреевна относилась слегка иронически — фетишизм в отношении чего бы то ни было, связанного с поэтом, вызывал ее резкое неодобрение (дорогой на какие-то давние блоковские торжества она сказала покойной Зое Александровне Никитиной: «В Пушкинском Доме они хранят недокуренную папиросу Блока…»). Так, написав однажды небольшое письмо в Москву, она произнесла: «Обычный средний автограф».
Алексей Владимирович Баталов:
…Всегда оставаясь собой, Анна Андреевна тем не менее удивительно быстро и деликатно овладевала симпатией самых разных людей, потому что не только взаправду интересовалась их судьбой и понимала их устремления, но и сама входила в круг их жизни, как добрый и вполне современный человек. Только этим я могу объяснить ту удивительную непринужденность и свободу проявлений, то удовольствие, которое испытывали мои сверстники — люди совсем иного времени, положения и воспитания, — когда читали ей стихи, показывали рисунки, спорили об искусстве или просто рассказывали смешные истории.
Корней Иванович Чуковский:
Живую жизнь со всеми ее радостями, страстями и бедами она ставила превыше всего.
Эмма Григорьевна Герштейн:
Она любила шум, доносящийся со двора: кто-то выбивает ковер, кто-то зовет домой детей, хлопает дверца машины, лает собака… Она смеялась над теми писателями, которые стараются изолировать себя от звуков проходящей рядом жизни. С иронией приводила в пример, кажется, братьев Гонкур, добившихся полной тишины в своем деревенском уединении, но вот ночью лошадь в конюшне переступала с ноги на ногу… Анне Андреевне не мешало ничто.
Виктор Ефимович Ардов:
Как любила Анна Андреевна веселое застолье!..
Татьяна Михайловна Вечеслова:
Как бы порой ни приходилось ей тяжко, она никогда не жаловалась, не роптала и с присущим ей величием жила, влюбленная в жизнь. Анна Андреевна умела радоваться, казалось бы, пустякам, незначительным вещам, событиям, явлениям, всему тому, что ласкало глаз, утешало сердце, — запела ли птица, расцвел ли цветок, зажглось ли небо вечерним светом. Она была требовательна в больших делах, поступках, в отношении к людям, к их поведению. Особенно ценила она простое внимание друзей своих.
Надежда Яковлевна Мандельштам:
Ахматова вступала в глубоко личные отношения с неслыханным количеством людей (когда людям перестало грозить тюремное заключение за дружбу с Ахматовой) и гляделась в них, как в зеркало, словно ища свое отражение в их зрачках. Это совсем не эгоцентризм, а тоже высокий дар души, потому что она со всей щедростью дарила себя каждому из своих друзей, жила в них, как в зеркалах, искала в них отзвука своих мыслей и чувств.
Лев Адольфович Озеров (1914–1996), поэт, литературный критик:
Жизнь учила ее недоверию к людям. Было множество случаев в ее жизни, когда она, доверчивая по натуре, обманывалась в людях. Но если уж доверяла, то всецело и навсегда.
Дмитрий Евгеньевич Максимов:
Ахматова бесспорно владела даром дружбы: когда она хотела встретиться с кем-нибудь, она этого не скрывала. У нее начисто отсутствовало то ложное самолюбие, которое нередко мешает делать первые шаги, чтобы повидаться со своими друзьями и приятелями. Почувствовав такое желание, она звонила сама, не ожидая инициативы со стороны ее знакомых. Она поддерживала долгие и прочные дружеские связи с близкими ей людьми. И она старалась, как могла, быть им полезной. В первый раз я пришел к ней на Фонтанку накануне или незадолго до того дня, когда она должна была отправиться в далекий и чреватый жизненными осложнениями путь в Воронеж к своему другу О. Мандельштаму. И она действительно ездила к нему. И сколько таких жестов дружбы и внимания к людям от нее исходило!
Эмма Григорьевна Герштейн:
Сама Анна Андреевна значила для своих друзей очень много. В один из московских приездов она рассказывала: «Я позвонила N. «Вы приехали вовремя», — отозвался он таким мрачным голосом, как будто, снимая одной рукой телефонную трубку, другой уже держал у виска дуло заряженного пистолета». Эту способность Анны Андреевны приезжать вовремя я знала по себе. Бывали минуты, когда казалось — нет, больше нельзя, все дошло до предела в моей жизни, и тогда в телефонной трубке слышалось: «Говорит Ахматова», — ее голос звучал как весть и спасение.
Надежда Яковлевна Мандельштам:
В самые страшные годы А.А. всегда первая приходила в дома, где ночью орудовали «дорогие гости».
Дмитрий Евгеньевич Максимов:
Нужно сказать, что трагические перипетии в судьбах ее современников, вообще говоря, в высшей степени ее волновали и влияли на ее оценочные суждения.
Наталия Александровна Роскина:
Сострадание Анны Андреевны к жертвам сталинского террора было вообще очень широко. Без этого чувства она не написала бы «Реквиема»…
Эмма Григорьевна Герштейн:
Окружающих она не поучала, не наставляла, не расспрашивала. «Я хочу знать о своих друзьях ровно столько, сколько они сами хотят, чтобы я о них знала», — говорила она. Думаю, что благодаря такому такту дружбы Анны Андреевны длились годами и десятилетиями.
Маргарита Иосифовна Алигер:
Она была удивительно человечна и подчас неожиданно для своего величественного облика внимательна к мелочам, что всякий раз изумляло и трогало меня. Однажды мне пришлось внезапно положить в больницу близкого человека. Я уехала из дому рано утром, а днем примчалась, чтобы собрать и отвезти в больницу необходимые вещи и кое-что из продуктов. У Анны Андреевны кто-то был, она лишь на минутку заглянула в кухню, где я собиралась, и я ничего не стала ей говорить, а рассказала о случившемся лишь вечером, когда мы остались одни. — Я поняла, — сказала она. — Я догадалась. Когда набивают маслом баночку из-под майонеза, значит, уж непременно ее повезут в больницу…
Наталия Иосифовна Ильина:
Много раз поражала меня ее чуткость, ее полное понимание того, как настроен человек, рядом с ней сидящий, что он чувствует, что думает… Она сама про себя говорила, что на семь аршин под землей видит. И видела.
Беспомощная, зависимая от окружающих, вынужденная к ним постоянно прибегать (то сопровождать ее надо было куда-то, то купить для нее что-то), она совершенно точно знала, кого можно попросить, а кого нельзя. Она умела не ставить ни себя, ни другого в неловкое положение отказывающего и отказ выслушивающего.
Виктор Ефимович Ардов:
Очень деликатна. Готова хвалить еду, платье, внешность — словом, что угодно, лишь бы не обидеть кого-нибудь.
Но в оценке стихов беспощадно искренна. Тут никогда не лукавит и, преодолевая свою деликатность, говорит прямо: «Мне не нравится».
Дмитрий Евгеньевич Максимов:
Анна Андреевна была органически гуманна, человечна в самом высоком и ответственном смысле слова. Как можно думать, она никогда не соблазнялась распространенным в начале века слишком подвижным отношением к добру и злу и тем более лозунгами ницшеанского аморализма. Она тихо и целомудренно, без показных восторгов, фанфар и сентиментальностей любила свою родину, но была совершенно чужда дурному национализму и нетерпимости к другим нациям…
Анна Андреевна была доброй, как об этом сама, просто, без всякой позы, писала в первой из «Северных элегий». Эта доброта питалась в ней волей ее широкого сердца, в котором Красота, в смысле моральной эстетики, и Добро (добро как благодать и добро как долг) сливались в одно.
Ника Николаевна Глен (р. 1928), переводчик, редактор, секретарь комиссии по литературному наследию Ахматовой:
О том, какой Ахматова казалась иногда величественно неприступной, какой «королевой», писали многие. Я тоже не раз видела ее такой — правда, не по отношению к себе. Со мной Анна Андреевна всегда держалась просто, тон ее был ровно дружеским, а помню я ее даже и домашне ласковой, «доброй бабушкой» — хотя это бывало нечасто. Такой, например, пустяк — но и сейчас перед глазами. Утренний чай-кофе у нас за обеденным столом. Я размешиваю сахар и, не вынув ложки, собираюсь пить. Анна Андреевна быстрым и точным движением вынимает ее, кладет мне на блюдце, смотрит смеющимися глазами: «Вы не знали? Теперь будете знать». И еще кое-каким правилам хорошего тона учила — писать на конверте не инициалы, а имя и отчество адресата (разумеется, перед фамилией) и не подчеркивать имя и фамилию, не резать заранее сыр, когда подаешь его к столу, комкать свежевыглаженный носовой платок, когда кладешь его в сумочку…
Виктор Андроникович Мануйлов (1903–1988), критик, литературовед, мемуарист:
Анна Андреевна была отзывчива и добра. И доброта ее была деятельной. У нее было удивительное дарование и потребность помогать людям. При первом знакомстве она производила впечатление человека замкнутого, даже нелюдимого. Но эта холодность, скованность, недоступность скрывала не только ранимость, но и чуткое внимание к окружающим, бережное отношение к тем, кто нуждается в помощи. Я всегда бывал бесконечно благодарен ей, когда она обращалась ко мне с просьбой позаботиться о ком-нибудь, похлопотать о чем-то.
Дмитрий Евгеньевич Максимов:
К людям она относилась благожелательно и старалась выделить и подчеркнуть в них то, что признавала хорошим и ценным. Нередко от нее можно было услышать такие определения: замечательный ученый, знаменитый художник, неслыханный успех, дивные стихи (слово «дивный» она особенно любила). Подобные этим оценки были рассеяны и в ее лирике («мой знаменитый современник», «белокурое чудо» и др.). Это изначальное желание Ахматовой видеть в людях прежде всего хорошее, их «актив», если не ошибаюсь, первым в литературе отметил в статье о ней как о поэте ее близкий друг Николай Владимирович Недоброво («Русская мысль», 1915, № 7), в статье, которую она считала едва ли не лучшим из того, что было о ней написано. От Анны Андреевны уходили чаще всего с облегченным сердцем, не смущенными и растерянными, а ободренными.