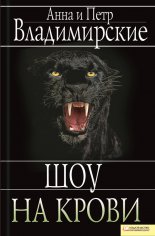Нецелованный странник Стамм Аякко

Редактор Дина Идрисова
Иллюстратор Андрей Оганян
Дизайнер обложки Андрей Оганян
© Аякко Стамм, 2018
© Андрей Оганян, иллюстрации, 2018
© Андрей Оганян, дизайн обложки, 2018
ISBN 978-5-4474-2404-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Рождение души-Феникса
Аякко Стамм – новое имя в современной литературе. Его произведения завораживают читателя. Казалось бы, используя самые обыденные вещи, он создаёт целые поэтические замки, которые ведут в глубь познания человеческой природы. Но не той природы, которую мы видим каждый день, нет, он ведёт в те самые потаённые уголки человеческой души, где бережно растится и сохраняется прекрасное. Здесь мне хотелось бы привести строчки А. Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Вы возразите: «Но, автор пишет прозу». Да, прозу. Но проза эта – поэтическая. Иногда, опуская даже излишнее описание героев, он вдруг углубляется в создание духовного мира этих простых с виду людей. И на наших глазах рождается совсем другое существо – ранимое и прекрасное. Мне хочется назвать этот приём – рождение души-Феникса. Почему Феникса? А потому, что герои Аякко Стамма, пройдя через возможные и невозможные испытания, подобно самому автору, чей жизненный путь оказался долгим и тернистым, выходят из всех перипетий обновлёнными, а часто даже незнакомыми и для самих себя.
Именно так выстроена сказка для взрослых «Отображение». А в рассказе «Потерянный рай» уже иной поворот. Хотя и за этим поворотом угадывается взлёт, трансформация, перерождение. Трансформацию претерпевает и образ Ивана Грозного в повести «Путь мотылька». Пожалуй, это одна из самых сильных вещей в данной подборке. Жестокая, временами оголённая правда заставляет читателя полностью погрузиться в мир средневековой России, и неожиданным спасательным кругом от ужасов того времени служит некий прорыв в современность. Да, всё было, но этого уже нет, и не должно больше быть. Помни об этом читатель и сохрани свой мир от ужасов и дикости, присущей нашим предкам.
Та же тема проходит и в небольшом сатирическом рассказе «Ловись, рыбка, большая и маленькая». В ней мы видим новую грань авторского дарования – едкого сатирика. В главной повести этой книги «Нецелованный странник» объединено всё. И романтика, и критическое отношение к своему литературному герою, и психология. Весьма психологически сильный рассказ «Смерть писателя», открывающий собой данную подборку. Многие узнают себя в главном герое, хотя не каждый признается в этом даже самому себе. Блистательная концовка рассказа, надеюсь, многим поможет осознать, наконец, то, что на самом деле суетно в этом мире.
Странное, порой противоречивое наслоение реальностей присуще творчеству автора. Но самое главное – в нём присутствует то, что мы называем авторским почерком. Произведения Аякко Стамма нельзя перепутать ни с какими другими.
Аякко Стамм продолжает традиции русской романтической новеллы 19 века. Но это не означает, что автор полностью придерживается именно этого направления. В его произведениях присутствует свет, который постоянно пробивается сквозь щели мрачного строения, в котором заключена душа современного мира.
Александр Губенко. 2009Журналист.Член Союза Журналистов Узбекистана.
Смерть писателя
Жизнь оказалась довольно интересным занятием, настолько, что наиболее логичным её продолжением становится Cмерть
Слякотным апрельским утром, хоронили писателя Ивана Данилыча Верховского. Погода была отвратительная. Серая пелена, окутавшая небо, скудно просеивала сквозь плотную, как бабушкин кисель субстанцию тусклый холодный свет несмелого ещё весеннего солнышка. Моросил противный мерзкий дождик, превращая ни в какую не желающий таять снег в преотвратное месиво песка, грязи, воды и ещё чего-то склизкого, холодного, мокрого, бесстыдно проникающего сквозь любую, даже самую резиновую обувь, одежду, кожу и оседающего где-то внутри навязчивым, долгоиграющим ревматизмом. Или уж как минимум насморком. Было грустно, то ли от такой погоды, то ли от тяжёлой утраты, понесённой отечественной литературой в лице безвременно почившего Ивана Данилыча – скорее всего, и от того и от другого. Во всяком случае, погода пришлась как раз подстать происходящему. Хоронили писателя за городом. На городском кладбище не было места, оно давно уже было закрыто для захоронения ввиду абсолютной переполненности. Как не уговаривали городское кладбищенское начальство организаторы траурного мероприятия – драматург Лычкин и молодой поэт Завьялов-Кунцевич – чтобы сделать исключение для покойного, ничто не помогло. Какие только доводы не приводили они в пользу своего прошения. И что усопший был председателем правления местного отделения Союза писателей, и что, дескать, не одно поколение советских, а ныне российских, украинских, казахских, киргизских и прочее-прочее граждан выросло на его произведениях, впитав с материнским молоком дух борьбы и просвещения, жирно намазанный щедрой рукой гения на сермяжный хлеб правды и истины. Наконец, вдова не постоит за щедрой благодарностью. Всё напрасно. То ли вдова таки постояла, то ли кладбищенское начальство не употребляло сермяжного хлеба ни с какими намазанными на него ингредиентами, только хоронить Ивана Данилыча пришлось на загородном сельском погосте.
Ну и что ж с того? Покойный всегда, ещё при жизни, тяготел к простому народу. К тому же совсем недалеко от кладбища находится его (простите, уже не его) шикарная дача, в стенах которой были написаны все нетленные шедевры последнего периода жизни автора. Что же касается вдовы, то едва только майское солнышко пригреет набухшую от талого снега землю, и вплоть до самых ноябрьских затяжных дождей она всё время безвылазно проводила здесь. Так что сам Бог велел – и земля местная, что называется, будет ему пухом, и скорбящая муза рядышком.
До кладбища ехали довольно долго и скучно. Старенький как мир ритуальный автобус, судя по скорости передвижения и по режущему слух скрипу всех его составляющих, провожал в последний путь многих, очень многих представителей рода человеческого. Он осторожно объезжал ухабы и рытвины взбухшего язвами и гнойниками асфальта, постеленного здесь, должно быть, ещё в позапрошлом веке, страдальчески охал, подпрыгивая, если объехать препятствие не представлялось возможным. А когда тяжело опускался после очередного прыжка на грешную землю, создавалось впечатление, что в последний путь направляется не только Иван Данилыч, но и его катафалк вместе со всеми провожающими. Покойному писателю-то было всё равно, да и автобусу, наверное, тоже, а вот провожающим.… Наконец, древняя колесница остановилась, вздохнула натужно последний раз и замерла.
– Усё! Прыйихалы! – торжественно сообщил возница, в глухом чёрном смокинге сверху и в выцветшем, с коленками, трико и кедах снизу, – Асфальт скинчелся! Дали ножками, на ручках!
– Как же так?! Что же это за издевательство над покойным?! Прямо вандализм какой-то! Ничего святого! – гневно ворчали в усы и носовые платки провожающие. Но спорить с возницей не осмелились, ещё назад ехать отсюда.
Все вышли, вывели под руки безутешную вдову, вынесли полное собрание сочинений на бархатных рубинового цвета подушечках, достали из автобуса гроб с телом и выстроились стройной, правильной, согласно ритуалу, колонной.
– Куда идти-то? – вслух высказал общий вопрос поэт Завьялов-Кунцевич.
– Гэть отам, – показал пальцем возница. – Через калюжыцю, у стовпця праворуч, за чагарныком та йе цвынтар, ось. Отутэчки нэдалэко.
Осталось загадкой, понял ли кто-нибудь конкретные и исчерпывающие указания водителя. Но оркестр ударил траурный марш, и процессия двинулась в направлении, согласном указующему персту.
– Тяжёл же, боров, – думал про себя (в смысле, не вслух), несущий на своём левом плече гроб с телом покойного его ближайший друг и собрат по перу писатель Перомани. – Надо ж как отъелся, а ещё говорят, писательский хлеб горек. Горек-то он горек, но видно не для всех. Вон Лычкин, драматург ити его…! Прихлебатель хренов! Всегда был прихлебателем, и теперь вон, веночек несёт, самый маленький выбрал, самый лёгенький. «От собратьев по литературному цеху». Ой-ёй-ёй! Мать твою! Собра-атья!… А когда пьесу твою бездарную, эту, как её… «Диспут товарища Ленина с Марксом о роли крестьянства в эпоху мировой революции» ни один театр ставить не хотел, кто тебе собратом был?! Кто её пристроил?! Кто в сельском клубе организовал народный театр для твоей пачкотни?! Кто?! Перомани. Только теперь это уже…
– Не растягиваемся, товарищи, не растягиваемся, подтянитесь там сзади, – молодой поэт Завьялов-Кунцевич, поддерживающий за правый локоток безутешную вдову, время от времени вспоминал свою обязанность организатора мероприятия.
– Не растя-ягиваемся, не растя-ягиваемся, – передразнил поэта Перомани. – В командиры выбился! Стихоплёт! Знаем, кто тебя выдвинул, сам бы ты со своими стишками так и мыкался бы по третьесортным журналам. А ему сбо-орник, да ещё в твёрдом переплё-ёте! Пока покойный-то Иван по заграницам разъезжал да с читателями встречался, было кому Лизку-то утешать и блюсти. Лизоблюд несчастный! Я б тебе на месте Ивана показал бы сборник! Я б тебе!… Вот и теперь утешает, мастер слова…. По рогам ты мастер! Нет бы, гроб понести, так…
– Ой! Ванечка! На кого ж ты меня покинул?! Как же я теперь?! – голосила безутешная вдова, поддерживаемая с двух сторон.
– О! Запричитала, кукла! – продолжал свой нелицеприятный комментарий Перомани. – Небось, когда рога мужу наставляла, не думала, что Иван уже не молодой, да и здоровьишко уже не то: и мигрени, и печень никуда, да и сердчишко давно пошаливало. Хотя, наверное, именно об этом и думала. А чё ей, баба в самом соку, не старая ещё, можно сказать, молодуха. На кой ей этот старый хрыч? Вот теперь и при деньгах, и при квартире, и при даче, и при машине, и упакованная вся с ног до головы, и при любовничке молодом. Да ведь не иначе как они его и ухайдохали! Точно! Так и есть! Много ль ему, бедолаге надо-то было? Ну, Лизка! Будь я на Ванькином месте, я б тебе показал! Ни за что б не помер, а стащил бы с тебя последнюю шубейку да цацки, что из-за границы понавозил, да в чём мать родила на улицу! Пинка б под голый зад к твоему стихоплюю! Вот тогда посмотрели бы, нужна ль ты ему такая, безо всего, али нет? Потом, конечно, назад бы пустил. Что ни говори, а зад-то у Лизки хорош, да и всё остальное на месте. Да, вкус у Ивана был, чего уж там.
– Не убивайтесь вы так уж, Лизавета Потаповна, – молодая, двадцатилетняя девчонка, поддерживающая вдову за левый локоток, осторожно, чтобы не смазать тушь, промокнула носовым платком предательскую слезинку и шумно высморкалась в тот же платок. – Иван Данилыч для всех нас огромная потеря, он всем нам был очень дорог.
– Да уж! Особенно для тебя! – не оставил без должного внимания и эти слова Перомани. – Помолчала бы, при твоей-то должности, да с такими-то ногами и при новом председателе не пропадёшь! Секретарши всем нужны, особенно такие. Ты гляди-ка, на похороны с голыми ногами припёрлась! Ещё не известно, кто «новый» будет, а товар уже лицом, в ослепительном блеске качества и при полном ассортименте прилагаемых услуг. И как не холодно? Чай не май месяц-то? Хотя, мёрзнет, конечно. Но дело своё знает, дело прежде всего. Я всегда говорил, вкус у Данилыча есть. Что да, то да. Пока жена ему со стихоплюем голову разветвлениями украшала, он ей через секретаршу то же место тем же орнаментом. Молодец мужик! Так тебе, Лизка! Эх, если бы я был председателем, я бы тоже украсил, да так, что хоть гирлянды вешай.
Тут вдруг ему на лысину плюхнулось что-то мокрое и склизкое. Надежда ещё оставалась, когда он правой свободной рукой ощупывал голову, но как только, опустив руку до уровня глаз, увидел на ладони бело-серо-чёрную плохо пахнущую жижицу, сомнения пропали сами собой. Где-то наверху картаво прокаркала ворона и кроме матерных, отнюдь не литературных слов ничего не оставила в и без того бунтующем сознании Перомани. Наверное, воронья мама не к месту была упомянута им вслух, и довольно громко, потому что собратья по перу дружно оглянулись в сторону прозаика, а вдова даже на время перестала причитать. Но вовремя грянувший аккорд траурного оркестра благополучно исчерпал инцидент.
– Вот ведь гадина! Нашла, где с… ть! – негодовал про себя оскорблённый донельзя Перомани. – И почему именно на меня?! Кругом столько достойных кандидатур, включая покойного Ваню! Ему-то уж точно всё равно! Да ему всю жизнь везло – и в школе, и в литинституте, и потом. Как публикации, так Верховскому, как книгу, так опять ему! Девки, и те всю жизнь возле него вертелись! А на меня ноль внимания, одни только вороны. Премии, звания, загранкомандировки… всё Ване да Ване! в Союз писателей – пожалуйте Иван Данилыч! В президиум – будьте любезны, не откажите! Полное собрание сочинений – кто ж как не товарищ Верховской оставил наиболее яркий след в современной отечественной литературе! А я?! А Перомани что хуже?! А у кого он сочинения в школе скатывал, кто ему рассказы правил, кто с Лизкой познакомил, кто в правлении всю рутинную, неблагодарную работу на себя взвалил и тянет, кто, в конце концов, всю жизнь, всю его писанину первый читал и ляпы исправлял?! Кто?! Я вас спрашиваю, кто?! Перомани! А где благодарность?! Где?! Вот она – гроб с жирным боровом на плече своём натруженном несу, согнувшись в три погибели, пока этот его протеже Завьялов-Кунцевич его же вдову охмуряет, да на голые коленки его же секретарши, облизываясь, заглядывается. Эх, Ваня! Да я бы на твоём месте… был бы я на твоём месте… уж я бы тебя, то есть себя, не забыл бы… уж я бы тогда… уж я бы…. Эх! Если бы я только был бы на твоём месте….
За такими скорбными мыслями Перомани не заметил, как дошли до свежевыкопанной могилы, как поставили гроб на две табуретки для прощания с телом. Завьялов-Кунцевич, Лычкин и некоторые другие прочитали по заранее заготовленным бумажкам полные слёз и пиетета напутственные речи покойному. Вот уже вдова в чёрном траурном наряде («Чёрт возьми, а ведь как ей идёт траур», – тогда ещё подумал Перомани) первой подошла к усопшему, чтобы в последний раз поцеловать его и сказать полные горя прости и прощай. Следом за ней один за другим подходили остальные участники траурной процессии, среди которых был и он, Перомани.
Прозаик приблизился к гробу, вытер рукавом пальто скупую мужскую слезу, наклонился к телу для прощания с другом и… в ужасе попятился назад. В домовине, на белоснежной атласной подушке, укрытый такой же белоснежной простынёй, в чёрном твидовом костюме, как живой, гладко выбритый и румяный лежал он сам, Перомани.
Неожиданно гроб приподнялся над землёй и поплыл куда-то в сторону. Следом потекли скорбные лица провожавших, за ними голые берёзы, упирающиеся кривыми верхушками в серое грязное небо, по которому кружили нескончаемый хоровод оголтелые вороны, оглашая окрестности нестерпимо громким картавым карканьем. Затем всё потемнело и стихло.
Очнулся Перомани в автобусе. В себя его привёл противный, будоражащий все внутренности запах нашатырного спирта, склянку с которыми ему настырно совала в нос какая-то неприятная баба. Все уже расселись по местам, и траурная колесница тронулась в обратный путь. Какие-то люди всё время подходили к нему, участливо интересуясь его самочувствием, что-то предлагали, о чём-то спрашивали, но он ничего не слышал, ничего не понимал. Перед глазами всё ещё стоял гроб с телом, с его собственным телом внутри. Надо же, привидится ж такое. Всю обратную дорогу он только и делал, что отчаянно боролся с наваждением, никак не желающим отстать, отвязаться от него. Ему было откровенно плохо, поэтому, когда автобус подъехал к дому покойного, Перомани не пошёл вместе со всеми на поминки, а, посидев с полчаса во дворе на лавочке, отправился к себе, благо его квартира находилась тут же, в том же доме. Они с Ваней Верховским всегда дружили, ещё со школы, поэтому и квартиры выхлопотали в одном подъезде дома, отведённого для местного отделения Союза писателей.
Перомани поднялся в лифте на свой этаж, подошёл к двери квартиры, оббитой коричневым дерматином (он не мог, как Ваня Верховской, позволить себе натуральную чёрную кожу), сунул ключ в замочную скважину…. Дверь, легко поддавшись, открылась сама.
– Вот паршивец, – подумал писатель о сыне. – Опять дверь не запер. Заходите, люди добрые все, кому не лень! Ну, придёт, я ему задам.
Внутри квартиры послышался лёгкий шум и звон посуды, а гардероб в прихожей был плотно набит чьей-то верхней одеждой.
– Неужели опять вечеринка у дочери? – с тяжёлым вздохом подумал он, снимая мокрое от дождя пальто. – Этого мне только сейчас не доставало. И ведь не предупредила же, что гостей ждёт…. Хотя да, я же должен быть на поминках у Вани. Ладно уж, пойду к себе, прилягу.
Перомани зашёл в гостиную и увидел богато накрытый стол, за которым сидело множество народу. Люди пили и закусывали молча, скорбно опустив лица долу. Всё это не походило на обычно шумные, феерические гулянки бесшабашной молодёжи. Но больше всего удивлял вид его собственной жены во главе стола в чёрном траурном наряде и с заплаканным лицом. А так же большая фотография в траурной рамке, с которой на него, на живого смотрел он сам, Перомани.
– Иван Данилыч, это Вы? Вы всё-таки пришли? Как Вы себя чувствуете? Вам уже лучше? Боже мой, Вы так переволновались, так переволновались. Конечно, покойный был Вашим другом. Вот она настоящая мужская дружба. Мы так переволновались за Вас, так переволновались. Вы бы поберегли себя, Иван Данилыч, – полетели со всех сторон слова сочувствия.
Его усадили за стол рядом с вдовой, поставили свежую посуду, налили в рюмку водки, и драматург Лычкин затянул длинную, скучную речь о том, какой он, Перомани, был хороший человек, верный товарищ, талантливый писатель, и так далее, и тому подобное. Выпили, не чокаясь. Затем встал следующий, и снова длинная речь о его достоинствах. Снова выпили. Затем следующий, и снова, и снова, и снова. Несмотря на всю курьёзность происходящего слушать о себе столько лесных отзывов было, чёрт возьми, приятно. И скоро Перомани уже стало нравиться его теперешнее положение, особенно те перспективы, которое оно ему рисовало.
– Иван Данилыч, – двусмысленно улыбаясь, проговорила над самым его ухом секретарша. – А что, Лизавета Потаповна не придёт? И Завьялова-Кунцевича что-то нет…. Зато я подготовила документы, те самые, как Вы просили. Они у меня с собой. ВСЕ! Не желаете ознакомиться?
– Обязательно ознакомимся, – облизнулся захмелевший Перомани-Верховской. – Сегодня же, и во всех подробностях, с пристрастием. А Лизку вон! Стяну шубу и, в чём мать родила… под голый зад. Шалава, блин. И этого, как его, Завьялова-Кунц… Кунц… Кунцевича тоже вон! Тоже под зад коленкой, стихоплюй хренов! – новое положение вперемешку с немалым количеством уже выпитого кружило голову, приятно щекотало нервы и производило все те действия, от которых с простым человеком, незнакомым ещё с ними, может случиться…. Да чёрт знает, что с ним может случиться! – И вообще, теперь всё будет иначе, всё! – он не на шутку разошёлся, встал и, тяжело опираясь на стол, озирал притихшее собрание гневным властным взором. – Всех под зад коленом! Всех!
– Помилуйте, Иван Данилыч, нас-то за что? – взмолились перепуганные насмерть гости.
– Вас? Не бойтесь, други, вас не трону, – помилосердствовал вдруг Перомани-Верховской. – Покойного моего друга, посмертно представлю к герою! И полное собрание сочинений в десяти… нет, в двадцати томах! Вот! Моей вдове… ой, нашей вдове моего друга пожизненную персональную пенсию по потере кормильца! Ты! – он показал пальцем на секретаршу, – переедешь ко мне, сюда… вернее туда,… ну, где я живу. Лизку вон! Ты женой теперь будешь! Вы, други мои, вы все получите всё! А остальные…, – он гневно постучал кулаком по столу. – Все, кто не пришёл сегодня на мои похороны… всех вон! Всех коленом под зад! Я им покажу! Я им… всем… знаете что? Ну, так я вам сейчас скажу. Это такое… такое… это чёрт знает что такое! Вот! Я… – он крепко сжал в кулаке вилку, будто собираясь выдавить из неё воду, весь напрягся, покраснел, как рак. – Я… я знаете что? Вы ещё меня не знаете. А я вот вам сейчас покажу! Я… Я… Я…
Вдруг стол приподнялся над полом и медленно поплыл куда-то в сторону. За ним, кружась в хороводе, потекли перепуганные лица писателей, поэтов, драматургов. Следом понеслась мебель, посуда, всё задвигалось, закружилось по спирали, в центре которой неподвижно висела в чёрной траурной рамке до боли знакомая фотография.
– Всё! – проговорил человек с фотографии и, растянув до ушей чёрный беззубый рот, захохотал громким дьявольским смехом.
Неожиданно всё стихло, замерло, потемнело, превратившись в плотную чёрную пустоту.
А уже через пару дней, слякотным апрельским утром, схоронили-таки писателя.
Рядовой Майорчик Вася
Эх! Если бы человек был бессловесным, как и прочие земные твари, но оставался бы при этом человеком, он и тогда бы без труда нашёл способ рассмешить кого-нибудь. А уж как мы смешим Создателя своими планами и проектами на будущее. Как дети, право.
1
Жизнь наша с вами полна совершенно неожиданных и премного интересных встреч. Бывало, идёшь по улице, жуёшь себе какое-нибудь эскимо за одиннадцать копеек…. Пардон, таких цен давно уже и в помине нет, равно как и такого эскимо, но как-то вдруг вспомнилось, захотелось, увлекло. Ностальгия, наверное. Так вот, идёшь себе, жуёшь и вдруг встречаешь старого школьного друга, которого не видел уже лет двадцать, а то и все двадцать пять. Ну, как водится, восклицания, объятия, слова, разговоры, воспоминания, тихий уголок, по рюмочке, другой, третьей…. На утро головная боль, похмелье, жена, дети – пока-пока, до скорой встречи, лет ещё через двадцать. Или, так тоже бывает, совершенно случайно, где-нибудь в трамвае, первая, давно забытая, школьная любовь. Тоже тихий уголок, по рюмочке, другой, третьей, воспоминания, разговоры, слова, объятия, восклицания… На утро головная боль, похмелье, её муж, дети…. Но, всё ж-таки, завтра в семь на нашем месте, или не в семь, или не завтра, или не на нашем, а неизвестно где, неизвестно когда, неизвестно зачем. Короче, пока-пока.
А ещё бывает (и это уж точно неожиданно), вовсе не старый, и не друг совсем, а абсолютно незнакомый доселе, совершенно случайный попутчик по жизни. И не попутчик даже, и не по жизни, а так, невольный соучастник кратковременного, малозначительного эпизода, но, почему-то, прочно засевший где-то в уголке памяти и завладевший этим уголком, как полноправный и неоспоримый хозяин. Так бывает, и не редко.
В одна тысяча девятьсот… неважно каком году довелось мне проходить срочную службу в рядах некогда несокрушимой и легендарной советской армии. И забросила меня для этой цели судьба в один из самых отдалённых и самых прекрасных уголков необъятной советской империи, на жемчужину девственно чистого, почти не потоптанного тяжёлым кованым сапогом цивилизации уголка благодатного дальневосточного края – на остров Камчатка. Остров, ввиду совершенной отрезанности от остального мира по причине полного отсутствия сухопутных путей сообщения. Так что сами камчадалы всю оставшуюся от Камчатки часть империи гордо именовали материком. Гордо, не в смысле её, империи то есть, необъятных размеров, а по сути своей полной отчуждённости от её материнской заботы.
Не буду описывать природные достопримечательности места, где мне посчастливилось провести целых два года моей суматошной жизни. Ни трудности и лишения военного быта, ни напряжённость военно-политической обстановки в мире, оказавшей непосредственное влияние на специфическую красоту армейских будней. Всё это достаточно забавно и, безусловно, заслуживает внимания, но к сожалению, не является предметом настоящего рассказа. А потому, пусть полежит себе ещё какое-то время в специально отведённых для этого уголках памяти и подождёт своего часа. Дай Бог, чтобы этот час настал.
2
Речь в данном повествовании пойдёт о человеке весьма достойном и ярком, воспоминания о котором щекочут мозги и приводят сознание в состояние воздушного умиления. Как пузырьки в шампанском. Так что улыбка, появляясь на лице при одном только упоминании его имени, не покидает более своего законного места во всё время размышления об этом человеке. Наверное, я полюбил его сразу, в первый день нашего знакомства. Наверное, я до сих пор люблю его, хотя со дня нашего расставания прошло уже ни много, ни мало, двадцать с лишним лет.
Это был маленький, не более полутора метров ростом, щупленький, тщедушный человечек, на вид лет тринадцати, не больше. Слегка кривоногонький, слегка косолапенький, с бездонными, голубыми глазами на веснушчатом личике и совершенно доброй, бесхитростной улыбкой, которая никогда не покидала его. Он даже плакал, улыбаясь. Человек этот сразу привлёк к себе внимание, стоя в шеренге молодого пополнения, не более часа тому назад прибывшего в нашу роту. И не только тем, что находился в самом её хвосте, ввиду маленького роста. Не столько мешковатостью обмундирования, превосходившего все его вместе взятые габариты на целых два размера и висевшего на нём как на вешалке. Не оригинальностью даже постановки ног по команде «Смирно», то есть, не как у всех, пятки вместе, носки врозь, а совсем наоборот. Конечно, и всем этим тоже, но главное, именно своей улыбкой, по-детски наивной и, как бы, извиняющейся, дескать: «Ну, вот видите, такой уж я есть, чего уж тут поделаешь-то». На него нельзя было сердиться, им можно было только умиляться. И имя у него оказалось подходящее, причём не только к его внешности, но и к той ситуации, в которую он попал, и в которой ему предстояло прожить ближайшие два года. Звали его Вася Майорчик.
Наше подразделение комплектовалось в основном из крупных культурных центров, таких как Москва, Ленинград, Минск, Киев. Или из крепких, выносливых сибиряков, прошедших подготовку в различного рода учебках. Короче говоря, контингент подбирался соответственно той боевой задаче, которая возлагалась на нашу часть, всесторонне развитый интеллектуально и физически. Каким образом попал к нам маленький, щупленький мужичок из глухой воронежской деревушки, так и осталось загадкой. Но не случись этого казуса, не попади он к нам, жизнь наша среди камчатских снегов и сопок была бы гораздо скучнее и прозаичнее.
3
В тот же день, когда Вася вместе с вновь прибывшими пополнил собой наши ряды, начальник отделения капитан Яковлев – человек неглупый и очень дельный командир, один из немногих офицеров, оставивших в моей памяти весьма и весьма положительный след – собрал подчинённый ему личный состав в учебном классе с целью ознакомления с внутренним миром своих новых подопечных. Первым выбор пал на Васю, уж не знаю почему, случайно, наверное. Вооружённый длинной, в три четверти его роста указкой он был приглашён к огромной, во всю стену и разноцветной, как бабушкино лоскутное одеяло политической карте мира.
– Ну, голуба, – таково было любимое внестроевое обращение капитана, – покажи-ка нам блок НАТО.
Вася, виновато улыбаясь, поднял очи к самому верху карты, затем медленно и методично обшарил глазами всю её вдоль и поперёк, ища, видимо, среди множества цветных лоскутков один какой-нибудь наиболее хитрый лоскут, озаглавленный диковинным словом НАТО. В этом многотрудном поиске он пребывал не то чтобы очень долго – всего минут пять. Больше капитан Яковлев ему дать не мог, время занятия, как и терпение капитана, были весьма ограничены.
– Так, понятно. Для первого раза неплохо. А покажи-ка нам тогда Африку.
Вася посмотрел своими кристально чистыми голубыми глазами прямо в мудрые глаза капитана, улыбнулся своей искренней, извиняющейся улыбкой, говорящей: «Сейчас, я попробую, эту страну я знаю, там ещё живут акулы и гориллы, а так же большие, злые крокодилы». Он снова поднял очи кверху и повторил всю процедуру с той же педантичностью.
– Так, понятно. Тоже неплохо, – на этот раз капитан не удостоил Васю пятью минутами, ограничившись только двумя. – Ну, а СССР ты нам, я надеюсь, покажешь?
Не прошло и полминуты, как всем, включая капитана, стало абсолютно понятно, что такую диковину как географическая карта рядовой Вася Майорчик видит впервые в жизни, несмотря на десятилетку, документ об окончании которой, причём совершенно подлинный, находился в его личном деле. Он продолжал невинно улыбаться, смотря то на капитана, то на карту, то куда-то в даль, надеясь, видимо, там найти ответ на каверзный вопрос. Ну откуда ему было знать, что огромный, в одну шестую часть карты лоскут, цветом как плодово-ягодное мороженое за семь копеек бумажный стаканчик, и есть наша Родина – СССР, ведь он никогда в жизни не ел мороженого, даже за семь копеек.
– Ну что ж, с этим мне всё ясно, – подвёл черту капитан. – Последний вопрос, где на карте север? Ты хотя бы ЭТО знаешь, голуба?
То, что последовало за этим, несложным, в общем-то, вопросом, привело в состояние шока не одного только капитана. И дело не в том, что Вася незамедлительно показал ответ, и даже не в том, что он ткнул указкой в Антарктиду, а в том, что это было его первое осмысленное движение к истине, причём, как оказалось, абсолютно логически обоснованное.
– Та-ак! Интересно! – капитан даже привстал со стула. – Обоснуй, голуба, почему именно там, как ты утверждаешь, находится север?
– Дык, вона же белое всё. Значиться, снегу там завались. Значиться, холодно там, мороз. Значиться, север. Вот, – ответил Вася, и улыбка его приобрела какое-то новое, победоносное содержание.
– Правильно! – изумился неоспоримой логике капитан. Но в то же время, желая поймать оппонента на противоходе, выдвинул конрвопрос. – А где ж тогда, по-твоему, юг? Ну-ка, поведай нам, голуба?
Последовавший ответ был столь же стремителен и столь же логически обоснован.
– Солнышко-то, небось, сверху светится, – отвечал Вася, тыкая указкой в северный полюс. – Значиться, тепло тамо, лето завсегда. Стало быть, юг. Правильно?
– Правильно! – только и смог сказать капитан и упал на свой стул. – Сержант Карпинский, через неделю рядовой Майорчик должен знать карту, как Отче наш. Задача ясна?
– Так точно, товарищ капитан, ясна, – ответил я. А что я мог ещё сказать? Разве мог я тогда знать, что все мои попытки привить Васе любовь к географии разобьются вдребезги об его логически неоспоримый контрдовод, заключавшийся в одной простой, но усвоенной им весьма твёрдо фразе: «Капитан сказал, ПРАВИЛЬНО!»
4
Время шло. Молодое пополнение привыкало к нашим суровым будням и постепенно влилось в них, найдя своё место в отлаженном механизме никогда не останавливающейся машины. Не нашёл его только Вася. В самом деле, на боевое дежурство он не ходил, так как техника при его появлении тут же ломалась и отказывалась работать, не желая иметь с ним никаких общих дел. В стрельбах он не участвовал принципиально. Но не по религиозным убеждениям, а просто бестолковый автомат, едва попав к нему в руки, самопроизвольно начинал стрелять длинными, причём, очень длинными очередями, отчего ротный командир, вынужденный однажды залечь в новой шинели прямо в грязь, отдал строжайший приказ к оружию Васю не подпускать. От всевозможных строевых смотров его попросту прятали, так как смотреть без истерического, до боли в животе смеха на марширующего косолапого Васю было невозможно. Его искренняя убеждённость в том, что вся изюминка строевого шага заключается в громкости топанья, заставляла рядового Майорчика с невероятным усердием, обливаясь потом, вдалбливать подошвы сапог в бетонный плац. А руки при этом давали замысловатую отмашку в разные стороны, будто отбиваясь от внезапной атаки отнюдь не условного противника. Единственное занятие, в котором Вася оказался полезным, были наряды на службу в качестве дневального по роте. Тут при нём всё блестело и сверкало, как в музее, так что даже жалко было заходить в казарму после Васиной уборки. Но и здесь не обошлось без казуса.
Васе никак не давались уставы. Не то с памятью у него было плохо, не то специфический язык этой книжицы ни в какую не закреплялся в его голове, только выучить обязанности дневального он никак не мог. Пришлось объяснять своими словами, дескать, самое главное, стоя на тумбочке, кричать «Смирно!», когда заходит ротный майор, или кто старше его, а когда уходит, обязательно вежливо спросить, куда. Во всём остальном слушать и исполнять распоряжения дежурного сержанта. Невелика наука. Вася заступил на тумбочку, и ему это дело так понравилось, что он весь сиял от удовольствия. Ну, во-первых, внушительных размеров штык-кинжал на ремне. Именно штык-кинжал, а совершенно неграмотное слово штык-нож Вася употреблять отказывался наотрез, мотивируя тем, что ножик в кармане, а на поясе – кинжал. Ну да Бог с ним, пусть будет кинжал, против логики не попрёшь. Во-вторых, и это главное, Вася просто млел и таял, как девица, оттого что все, даже офицеры исполняли его команду «Смирно!». Поэтому он орал это слово что есть мочи по поводу и без повода, кто бы ни вошёл в казарму. Пришлось объяснить более доходчиво, кому и что нужно орать. Вася поначалу расстроился – ну как же, такой кайф обломали – но скоро воспарял духом, так как в дверь вошёл комбат в звании подполковника. Вася, что есть мочи, заорал своё любимое «Смирно!». На этот раз всё было правильно, и его похвалили. От радости он чуть не расплакался, обещая и впредь подавать команды правильно. Но когда минут через пятнадцать подполковник собрался уходить, Вася, переполненный служебным рвением, стал лихорадочно вспоминать свои действия на этот случай. Подполковник шёл быстрее, чем Вася думал, поэтому, на всякий случай, он снова гаркнул привычное: «Смирно!». Комбат вздрогнул от неожиданности и медленно развернулся лицом к тумбочке, испепеляя дневального грозным, суровым взглядом. Дневальный понял, что совершил ошибку и, тут же желая загладить её, соскочил с тумбочки, подбежал к подполковнику, на ходу снимая пилотку и теребя её в непослушных руках, взмолился, улыбаясь своей самой очаровательной улыбкой.
– Дорогой товарищу старшенький майорчик, будьте так любезненьки, если Вам не трудненько, скажите мне, ради Христа, куды эта Вы сичаса вот пошли? А то сержант строгий шибко, заругается.
Подполковник долго собирался с мыслями, такое обращение ему приходилось слышать впервые. Хотел, было, закричать на дневального, но, увидав его чистые голубые глаза, его улыбку, буркнул только: «В штаб», – отвернулся и вышел прочь из казармы.
– Ах, спасибочко Вам, товарищу старшенький майорчик, ах спасибочко, век не забуду этой Вашей услуги, – запричитал Вася и, отправляя на место пилотку, снова взошёл на тумбочку. Он был доволен собой вообще и своей находчивостью в частности.
5
Через несколько часов, уже глубокой ночью, когда холодный осенний ветер гнал последнюю пожелтевшую листву с сопок, завывая и свистя Соловьём-разбойником между оконными рамами, когда весь личный состав роты мирно спал и видел цветные сны про дембель, наполняя казарменное помещение ни с чем не сравнимым ароматом, представляющим собой гремучую смесь кирзы и влажных от праведного солдатского пота портянок, когда в самом помещении уже всё блестело чистотой и порядком, наведённом Васиными заботливыми руками, я встал с койки и отправился в умывальник выкурить папироску самой популярной в то время среди солдат марки «Беломорканал» производства Ленинградской табачной фабрики. Мне отчего-то не спалось. В умывальнике я встретил Васю. Он тоже не спал, только закончив уборку, а просто сидел на скамеечке, скумокавшись и, обхватив голову влажными ещё руками, и нервно курил, выискав редчайшие в солдатской жизни минуты, побыть наедине с самим собой, со своими мыслями. Я подсел рядом и не сразу заметил, что он плакал.
– Что стряслось, Вася? Ты чего это тут, что случилось?
– Да вот, товарищу сержантик, – заговорил он сквозь слёзы, с неизменной улыбкой на лице. – Маманька-то письмецо прислала. Пишить, что скучат, что расхворалася вся, так что картоплю даже откопать-то мочи нету. Так и сгниёть таперя в земле-то, картопля-то…. Забор вдругорядь завалился, некому поправить-то…. Крыша прохудилася, так что весь дождичок прямиком в хату хлыщить, нет никакого удержу…. Зима скоро ужо нагрянить, а председатель дров не даёть. Говорит, нетути, иди, говорит, в лес-то да сама и руби…. А где ж ёй? Стара вона уж, да и хворая…. Как же ж она зимовать-то без дров будить? Замёрзнить родимая, помрёть ведь, наверное, не дождётся меня…. Я ведь у мамки-то один осталси, нету больш никого, все померли уж…. Пишить, что ждёть меня, не дождётся, что я у ёй одна надёжа и опора…. Приезжай, пишить, сынок, поскорее, не то помру, пишить…. А куды ж я поеду-то, тильки полгодочку отслужил-то…. И в отпуск-то, должно, не пустють, ага, потому, никудышный я солдат-то, так за шо ж меня, в отпуск-то…. А без меня помрёть маманька-то, и крыша вона прохудилася, и дров нетути…. Замёрзнет зимой-то…, и схоронить-то, как следовать, некому будет…, ой-ёй-ёй…
Смотрел я на него, слушал и думал о сотнях тысяч матерей по всей земле российской, которые ждут сынов своих день и ночь, любят их и хроменьких, и косоньких, и каких бы уж ни были, а только своих, родных, плоть от плоти, кровь от крови, Богом данных, не в капусте найденных. Которые для матерей своих одна единственная надежда и защита. И нету другой такой защиты у матерей наших, которые и старые уж, и хворые, и забытые всеми, но составляющие собой ту самую, вовсе не обезличенную Родину, которую мы здесь защищаем. Жаль, что замполиты нам ничего про эту Родину не рассказывали. А надо бы.
Потерянный рай
Ночь, улица, фонарь,
и есть аптека
отсюда метрах в ста…
Руслан Элинин. Русский поэт.
1
«И сотворил Бог человека по образу Своему…, но для человека не нашлось помощника, подобного ему» (Бытие 1.27; 2.20)
Он ехал в аэропорт. Почему в аэропорт? Точно он не знал, никаких конкретных планов предстоящей поездки у него не было, по крайней мере, с утра. Как не было, естественно, и билета ни на один из вылетающих сегодня рейсов. Он просто остановил первый попавшийся таксомотор. А может, это был вовсе и не таксомотор, а так, какой-нибудь частник-бомбила. Просто произнёс в опущенное стекло передней дверцы одно только слово «Пулково», водитель просто назвал какую-то цену, которую он даже не расслышал. Сейчас ему не было никакого дела до таких мелочей, он забрался в автомобиль, уселся на заднее сидение и погрузился в свои мысли. Что он будет делать в аэропорту? Полетит ли куда-нибудь? А если полетит, то куда? И зачем? Прилетев, что будет ТАМ делать? И как долго? Столько ненужных, абсолютно лишних вопросов волновали бы сейчас на его месте сознание любого другого, НОРМАЛЬНОГО человека, и он, то есть человек нормальный, конечно бы нашёл массу удовлетворительных, логически выверенных ответов на все, и даже более. Но ОН не был нормальным человеком, напротив, он был абсолютно ненормальным, то есть не таким как все. Не то чтобы он был такой один, вовсе нет, просто, таких как он больше не было, вот и всё.
– Ну почему? Почему со мной так всегда? – думал он, сидя на жёстком диване на редкость тесного салона автомобиля. – Неужели она не понимает таких простых вещей? Ведь не дура же, должна же понимать! Ведь должна же она, в конце концов, понять, что я не простой человек. Я уникальный! У-НИ-КАЛЬ-НЫЙ! Что я всё могу…, ну, всё…, не просто всё, а… ВСЁ! Ну, хочешь, например, то…? Я могу, или, к примеру, сё…? И это я могу. Да всё что хочешь…, могу, и даже…, и это могу. Я ВСЁ МА-ГУ! А она – вынеси мусор, дорогой; сходи в магазин, дорогой; помой посуду. Нет, я не лентяй, конечно, и не неряха, я, естественно, способен сходить в магазин, мне не трудно, я запросто могу вынести мусор, нет никаких проблем. Только ведь…, это ведь всё, что ей нужно, и больше ей НИ-ЧИ-ВО НЕ НУЖ-НА! Ну, как так можно? Ну как? Как? Неужели ей действительно ничего не нужно? Неужели она не понимает? Ведь не дура же. А если, всё-таки, дура? Если понимает? Если понимает и, тем не менее, не хочет? Нет, так дальше продолжаться не может. Так жить нельзя! НЕ-ВАЗ-МОЖ-НА! Прочь отсюда! Прочь из этого города, из этой страны! Куда? Куда угодно! Хоть в тундру! Главное, поскорее! Поскорее отсюда! На все четыре стороны!
Машина неслась тесным каналом проспекта по серому асфальту унылого города между высоких стен выцветших зданий. Навстречу и параллельно ей двигались такие же безликие автомобили, а по протёртым подошвами белёсым тротуарам семенили на коротеньких ножках бесцветные пятна прохожих, погружённых в свои будничные заботы, озирая тусклыми взглядами блёклый пейзаж прозаических будней. Дорога до аэропорта была не то чтобы длинной, но из-за пробок и светофоров на удивление долгой и скучной. И если бы не мысли, занимающие собой всё сознание пассажира и отвлекающие его от дороги, то рассказ этот неминуемо вылился бы в целую повесть, такую же скучную и унылую. Но к счастью…
2
«И создал Господь Бог… жену, и привел ее человеку. И сказал человек: …она будет называться женою» (Бытие 2.22; 2.23)
Автомобиль лихо вырулил на территорию аэропорта и, скрипя тормозами, остановился у подъезда, над которым красовалась табличка «ВЫЛЕТ». Пассажир щедро расплатился с водителем и уже через несколько минут стоял возле огромного электронного табло со светящимися буковками и циферками. Он вовсе не изучал расписание отправления самолётов, а увлечённо наблюдал за причудливой игрой звуков, составляющих собой названия пунктов назначения рейсов, выискивая среди них наиболее соответствующее его теперешнему настроению. Внимание его задержалось и тут же утвердительно остановилось на слове Салоники. Почему именно на нём? И что в данном слове было особенно привлекательным? Сейчас это не имело никакого значения, он привык доверять своему предчувствию и делал это всегда. Надобно сказать, с неизменным успехом. Решение было принято мгновенно, оставалось только взять билет, заполнить бланк таможенной декларации и, потолкавшись какое-то время у стойки таможенного контроля, направиться к трапу самолёта, за которым – свобода. И не просто свобода, а СВА-БО-ДА!!! Но в это самое время случилось то, чего даже он предугадать не мог. Судьба – коварная куртизанка, она порой выкидывает такие штуки, которые не подвластны предвидению даже уникумам, подобным ему. И в этом её коварстве заключается иной раз вся прелесть того самого занятия, которое кто-то мудрый и дальновидный назвал некогда жизнью.
Она появилась в зале ожидания вылета так внезапно, как может возникнуть только Она, и как никто и никогда больше не сможет. Она прошла через весь зал, такая юная, лёгкая, воздушная, как бабочка, а следом за ней протянулся, развеваясь мягкими волнами, и сверкая волшебными искрами, розовый шлейф, такой же лёгкий, прозрачный, едва уловимый только для опытного глаза. Каждый, даже мало-мальски сведущий человек знает, что розовый – цвет романтики и приключений, наивности и чистоты. А для такого опытного и могущественного как Он, этот цвет несёт в себе ещё и то, без чего не только прозорливый гений, но и даже самый обыкновенный лох не представляет себе жизни. Она проплыла лёгким, свежим ветерком по залу, и краски мира, озаряясь тёплым и ярким солнечным свечением, вновь заиграли причудливым разноцветьем. Такое уж у неё свойство.
Что же Он мог ещё сделать, как не пойти за ней следом, напрочь позабыв про мелькающие буковки и циферки электронного табло, про билет, про таможенную декларацию. И самое главное, про то, ради чего всё это нужно было ему, ради чего он примчался сломя голову в аэропорт, про то, что находится, как ему представлялось, по ту сторону трапа самолёта. Свобода подождёт, она уже итак долго его ждала, а вот Она не будет ждать ни секунды.
– Извините, не подскажете, где тут выдают бланки таможенной декларации? – спросил Он её, чтобы хоть что-нибудь спросить, когда она возле какой-то стойки писала что-то на листе бумаги.
Она посмотрела ему в глаза и улыбнулась наивной детской улыбкой.
– Так вот же они. Берите любой.
– Что…, прямо любой… можно брать, да? И прямо… вот тут заполнять? – спросил он, заикаясь, и не отрываясь, глядя на неё. – Что…, прямо вот тут, да?
– Да, вот тут. Ой, какой вы смешной, – она простодушно засмеялась. – Ой, что вы делаете? Вы же вверх ногами бланк держите.
– Да? Ой, и правда…. Извините…, я немного рассеян… сегодня. А у вас, случайно, нет… ручки? А то я свою где-то… посеял.
– Да вот же она, вы же её в руке держите, – она уже с интересом смотрела на него, и всё время смеялась, как смеётся ребёнок неуклюжести клоуна в цирке. – Ну, какой же вы смешной.
– Да, правда, вот она…, а я думал, посеял, – Он уже немного справился с первой нерешительностью и смущением, постепенно заражаясь её весёлостью и простодушием. – Скажите, а вы куда-то лететь хотите…, да?
– Ой, ну вы даёте, а что же, по-вашему, можно делать в аэропорту в зале вылета? Грибы собирать что ли?
– Ну…, я не знаю…, может, вы тут просто… гуляете, – предположил Он, понимая, что подобное предположение вряд ли может прийти на ум нормальному человеку.
Она, естественно, засмеялась ещё громче, ещё заразительнее, отчего Он совсем уже пришёл в себя и тоже засмеялся.
– А куда вы летите, если не секрет? – спросил Он уже без всякого смущения.
– Не секрет, в Салоники, – ответила Она, доверчиво улыбаясь.
– В Салоники?! – переспросил Он, будто воскрешая в памяти нечто, связанное с этим словом, а, воскресив, искренне удивился совпадению. – Надо же?! Я ведь тоже собирался сначала лететь в Салоники. Ну, надо же!
– Собирались? А теперь? Что, уже передумали?
– Да! Передумал!
Они снова засмеялись. Со стороны можно было подумать, что встретились два старых, добрых знакомых и весело обсуждают какой-то смешной эпизод их общего прошлого.
– А почему передумали? – смеясь, спросила Она.
– А зачем? Там нет сейчас того, что мне нужно.
– А что вам нужно? Если не секрет, конечно. И где оно сейчас?
– Оно здесь! – почти крикнул Он. – Скажите, пожалуйста, а как вас зовут?
Она перестала смеяться, и, всё ещё улыбаясь, смотрела ему в глаза.
– Вы очень забавный, с вами легко и весело, – Она протянула ему маленькую изящную ладошку. – Любовь. Люба. А вас как?
– У меня очень странное имя, боюсь, вам его не выговорить, – Он принял её ладошку в свою руку, и тёплый ток пробежал через точку контакта от него к ней, а от неё к нему. – Все называют меня просто, Волшебник.
– Волшебник? – Она снова засмеялась. – Какой вы всё-таки забавный? А волшебник – это профессия ваша, да?
– Да, можно так сказать, во всяком случае, я этому учился, – Он перестал смеяться, на губах повис вопрос, сдерживаемый нерешительностью. – Люба, я хочу пригласить вас… поужинать вместе… со мной. Давайте… поедем куда-нибудь. Только не отказывайтесь, пожалуйста, я вас очень прошу.
Она тоже перестала смеяться, и глаза её чуть-чуть погрустнели.
– Спасибо за приглашение, в другое время я непременно бы согласилась, но сейчас… – она чуть сильнее сжала его руку. – Спасибо вам, мне было с вами очень весело и… и легко.
– Но почему? Почему? – заволновался Он, не выпуская её ладошку.
– Как почему? – искренне удивилась Она. – Я же улетаю сейчас. В Салоники. Вы забыли? – вдруг глаза её оживились, в них еле заметно заиграла надежда. – А может, вы снова передумаете и полетите всё-таки. В самолёте продолжим наше знакомство.
– В самолёте? Почему… в самолёте? А в Салониках?
– Увы, – сказала Она со вздохом. – В Салониках меня будет встречать жених.
– Нет, – сказал Он серьёзно. – Мы никуда не полетим, мы останемся… здесь.
– Это почему же? – спросила Она, смеясь. Почему-то ей было приятно его упорство. – Почему ж это не полетим? И почему это – МЫ?
– Потому что я вас не хочу никуда отпускать, – ответил Он совершенно серьёзно.
«УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ ПАССАЖИРЫ, – пронеслось по залу из громкоговорителя. – АВИАРЕЙС НА САЛОНИКИ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ НА НЕОПРЕДЕЛЁННОЕ ВРЕМЯ. ПРИНОСИМ ВАМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ ЗА НЕУДОБСТВА».
– Что? Как это задерживается? Почему? – Она растерялась от неожиданности и озабоченно озиралась по сторонам, ища где-то в пространстве ответы на свои вопросы.
– Потому что я вас не хочу никуда отпускать, – повторил Он с улыбкой.
– Да… ну причём здесь вы? – махнула Она рукой.
– Притом, что я Волшебник, я же вам говорил.
– Но это невозможно! Вы, наверное, меня разыгрываете? Это шутка такая, да? Шутка?
Она направилась вдруг к окошечку стола справок и через пару минут вернулась, растерянно глядя на него своими большими глазами.
– Там сказали, что в Салониках бастуют авиадиспетчеры, все рейсы отменены на неопределённое время.
Он пожал плечами, и этот его жест, должно быть, означал: «Вот видите, я же вам говорил».
– Но меня же ждут, он же будет встречать меня, волноваться! – забеспокоилась Она.
– Не переживайте, он вас не ждёт, – сказал Он серьёзно. – И это уже не я, это правда.
– Как не ждёт? Что вы говорите? Ничего не понимаю.
– Да вот, убедитесь сами, – Он протянул ей клочок бумаги, на котором были написаны три цифры. – Позвоните по этому номеру и всё услышите.
– Что это за номер? Как я позвоню по нему? – растерянно спросила Она, разглядывая бумажку. – Здесь же всего три цифры какие-то, таких номеров не бывает. Вы опять шутите? Вы разыгрываете меня, да?
– Это внутренний телефон его номера в отеле. Звоните, не сомневайтесь, я соединю.
– Как это, вы соедините? Каким образом? – дивилась Она, машинально набирая номер на своём мобильнике. – Вы что, коммутатор?
Он снова пожал плечами и, скрестив руки, стал внимательно наблюдать за изменяющимся выражением её лица. Губы его улыбались, а глаза выражали торжество современной магической мысли.
– Ну что, убедились? – произнёс Он довольный собой, когда Она в полной растерянности, автоматически отключила мобильник и бросила его в сумочку. – Что я говорил?
– Там какие-то женские голоса…, музыка…, тусовка какая-то…, ничего не понимаю.
– Только не подумайте, что это всё я подстроил, я только соединил, – умоляюще и, как бы, извиняясь, произнёс Он. – Сейчас он сам вам позвонит, и будет врать, что сожалеет о забастовке, что безмерно скучает и молит Бога, чтобы всё поскорее закончилось.
Не успел Он закончить фразы, как зазвонил её мобильник. Она достала его, прочитала на дисплее определившийся номер и, не соединяясь с абонентом, раздражённо бросила трубку в подвернувшуюся под руку урну. Затем резко развернулась и, ни слова не говоря, направилась к выходу. Шлейф за ней заметно потускнел, постепенно приобретая всё больше колючих, холодных серо-синих оттенков.
– Подождите! Куда же вы? – закричал Он ей в след. – А как же наш ужин?
Она вдруг остановилась, так же резко развернулась назад и подошла к нему.
– Ужин? А поехали! Гулять, так гулять! – Она снова смеялась, но это уже был совершенно другой смех, о чём явно сигнализировал всё более холодеющий цвет её шлейфа.
– Не нервничайте, и не переживайте так уж, – произнёс Он тихим успокаивающим голосом. – Ведь если разобраться, радоваться надо. Беда, предотвратившая ещё большую беду, уже не беда вовсе.
– Да, вы правы, – чуть подумав, сказала Она, успокаиваясь. Затем снова улыбнулась ему своей детской улыбкой и добавила. – Поедемте ужинать, я голодная как волк.
Он взял её за руку и повёл к выходу. Развевающийся мягкими волнами шлейф постепенно розовел, приобретая привычную, естественную для него окраску. Они вышли на улицу, тут же к ним подкатил здоровенный чёрный лимузин и статный, седой водитель в строгом чёрном смокинге услужливо, но вместе с тем с достоинством, открыл перед ними заднюю дверцу. Жизнь снова налаживалась.
3
«Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут два одна плоть» (Бытие 2.24)
Вечер был прекрасным. Они ужинали в каком-то маленьком тихоньком ресторанчике с уютным, романтическим интерьером, не по-российски вежливыми, услужливыми официантами и изумительно вкусной экзотической кухней. Он сам сделал заказ, и на удивление все заказанные им для неё блюда пришлись ей, как никогда, по вкусу. А вино, приятной терпкости и слегка дурманящего аромата, очень походило на то, которое Она только однажды, уже давно, случайно попробовала на какой-то выставке-дегустации и с тех пор безуспешно искала среди дорогущих и изысканнейших марок. Он шепнул что-то на ухо лощёному метрдотелю, и весь вечер для неё, Боже мой, исключительно для неё одной пел её любимый певец её любимые песни. Причём не в записи, а вживую. Затем, они долго гуляли по ночному городу. Юные девушки-цветочницы наперебой предлагали ей её самые любимые цветы, и Он все покупал, веля доставить их по её домашнему адресу. В чёрном небе то и дело вспыхивали и распускались яркими экзотическими букетами разноцветные огни салюта; уличные музыканты на ходу сочиняли и тут же пели для неё свои самые лучшие песни, а художники за одну только эту ночь написали аж семнадцать её портретов. Высокий черноволосый итальянец-гондольер долго катал их в своей гондоле по каналам и протокам, напевая что-то в густые усы на неаполитанский манер. Это была удивительная ночь, самая прекрасная ночь в её жизни. А когда, гуляя по набережной, Она огорчённо заметила, что мосты уже давно развели, и дом её на другом берегу, Он просто взял её на руки и тихо попросил закрыть глаза. Она послушно закрыла, в ожидании нежного поцелуя, ловя своими губами его мягкие, тёплые губы. Поцелуй был недолгим, но достаточным для того, чтобы, открыв глаза, и опустившись с его рук на землю, Она с изумлением увидела, что находятся они уже на противоположном берегу, прямо возле подъезда её дома.
– Кто ты? – тихо спросила Она, лаская его взглядом, как может только влюблённая женщина.
– Волшебник, я же говорил тебе.
– Пойдём, – потянула Она его за руку. – Теперь моя очередь быть волшебницей.
Она и впрямь оказалась настоящей кудесницей, не по опытности, конечно, но по силе чувства, нежности, обаяния, по жару юной неискушённой страсти и жертвенной щедрости девичьей любви, отдающей себя всю, без остатка во власть любимому. Её маленькая, уютная квартирка, сплошь уставленная корзинами свежих цветов, благоухала волшебными ароматами Едемского сада, как благоухали их души, растворённые друг в друге, впитавшие в себя беззаботное счастье царствования над миром, созданным Богом только для них двоих.
4
«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене…» (Бытие 3.01)
– Мама! Мамочка! Я так счастлива! Ты не представляешь себе! Он волшебник! Он просто волшебник!
– Ты откуда звонишь, дочка? Из отеля? Как ты доехала? Вадик тебя встретил?
– Да нет, мама, я никуда не ездила, я дома.
– Как не ездила? Вадик сам приехал? Что случилось? Я ничего не понимаю.
– Да какой Вадик? Вадик твой прохвост ещё тот. Я сама никуда не поехала, мама, я встретила другого человека. Он чудо, мама, он просто чудо!
– Какого другого человека? Когда встретила? Где?
– Вчера, в аэропорту.
– Как вчера?! Ничего не понимаю. Ты поехала к Вадику, и в аэропорту встретила какого-то другого человека?! А Вадика, значит, побоку, так что ли? А кто он такой? Откуда взялся? Он у тебя? Ты что, уже переспала с ним?
– Мама, мама, ты ничего не понимаешь! Он чудный! Он просто чудо! Ты не представляешь, какую ночь он мне сегодня подарил! Столько цветов! Стихов! Песен! Такой салют! Мама, ты видела салют сегодня ночью?
– Какой салют, доченька? Ты доведёшь свою мамочку до инфаркта, наконец!
– Мама, я люблю его! Я полюбила, мама! По-настоящему! Впервые в жизни!
– Ну, полюбила? Ну и что? С кем не бывает в твоём возрасте? Это ещё не повод, доченька, терять голову и бухаться в постель с первым встречным! Вы хоть, я надеюсь, предохранялись? А вдруг у него СПИД?! У него справка есть? Он тебе показывал?
– Мама! Ну что ты говоришь такое?! Какая справка?!
– Обыкновенная справка. Твоя мамочка знает, что говорит. У неё знаешь, сколько таких любовей было? Но она никогда не теряла голову… и бдительность…. Так, я немедленно звоню Исааку Иосифовичу, сегодня же поедешь к нему в клинику, проверишься!
– Мама!
– Кто он? Как его имя, фамилия? Ты его паспорт смотрела? Чем он занимается? Где работает? Кто его родители, в конце концов? Небось, студентишко какой-нибудь, из какого-нибудь Мухосранска? Я эту публику ох как хорошо знаю. Понаедут тут, понацепляют серёг в уши да в носы, как аборигены какие-то! Только и думают, чтобы подцепить какую-нибудь дуру, вроде тебя, и осесть в Питере на всём готовом!
– Мама!
– Ну что мама?! Что мама?! Не хватало мне ещё эту голь перекатную кормить!
– Он не голь! Он сам три белорусских фронта накормить и одеть может!
– Да? А где он работает? Он бизнесмен? Депутат? Сколько ему лет?
– Он Волшебник!
– Волшебник это не профессия! У меня знаешь, сколько волшебников в молодости было?! Все они волшебники поначалу! Деньги-то у него есть?
– Если бы ты видела, мама, сколько он денег за одну эту ночь на меня потратил! Твой Вадик – нищий по сравнению с ним!