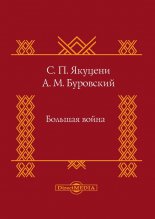Пасынки отца народов. Квадрология. Книга третья. Какого цвета любовь? Будакиду Валида

Однако Адель вовсе не желала слушать про Ференику и уж тем более ждать, пока папа найдёт ту картинку в Медицинской энциклопедии, где уродливые гермафродиты, развернувшись на пятках в сто восемьдесят градусов, шагнула к входной двери.
Домой она явилась ровно через полчаса, в замечательном расположении духа, с совершенно лысой и блестящей как глобус головой. Мама возлежала на высоких подушках, и по квартире плыл ненавистный запах мяты. Глаза мамы были закрыты. Но, видно, на одного зрителя – мужа Василия – играть было неинтересно, поэтому она, услышав хлопанье входной двери, мобилизовалась. Мама сделала вид, что ещё плотнее зажмурил веки, но по выражению лица и напряжённому развороту головы было видно, что она внимательно прислушивается. Адель прошла в комнату и, расставив колени, уселась перед мамой. В окно светило солнце. Адель с удовольствием щурилась на него и на душе у неё было удивительно легко и покойно. Мама, хоть и невыносимо страдала от приступа своей персональной «болезни», решила, однако, как она говорила, «вернуться».
Диск «валидола» выкатился изо рта и упал сперва маме на живот, а потом на пол.
– Я подниму! – сказала Адель. – А то кто пройдёт и наступит! По ковру размажется…
Мама села молча, с открытым ртом и в упор, не моргая, смотрела на Адель.
«Ой, и в правду бы не „ушла“, как она это называет!» – подумала Аделаида, даже испугавшись маминого тупого взгляда. Она подняла таблетку с пола и, задумчиво что-то мыча себе под нос, покрутив в пальцах, засунула её в карман штанов. А мама всё сидела с открытым ртом и из правого угла губ потянулась слюна.
– Мам! Каплю слизни! – Аделаида улыбалась и гладила себя по зеркальной глади черепа. Ладошке было так непривычно и щекотно! – Они белые, как с мелом, от «валидола»! Запачкаешься!
Мама, издав какой-то странный звук, напоминающий сток воды в раковине, словила каплю в самый последний момент, но упала на подушки и щёки её задёргались.
«Теперь точно потеряла сознание!» – Взглянув ещё раз на мать, констатировала Аделаида и, взглянув ещё раз внимательней, пошла к телефону.
Глава 15
Сёма вымахал в замечательного Семёна. Он приезжал раз в месяц на несколько дней и снова уезжал… Он давно и многократно подтвердил своё звание Чемпиона и рекордсмена республики и был зачислен в Олимпийский резерв СССР. Поговаривали, что если так продолжится, то Сёма войдёт в сборную СССР по плаванию и летом его можно будет увидеть на экране телевизоров, потому что Омипиада-то будет в Москве!
Адель ходила страшно гордая, потому как на неё очень даже конкретно падала тень знаменитого брата! И не беда, что они не успевают поболтать, мама ему наверное рассказывает об Адель, хотя ей похвастаться особо и нечем! Ну, наверное, жалуется иногда. Правда, когда Сёма увидел её совершенно лысой, ничего не сказал. Как будто он всю жизнь ходил по их Городу и наблюдал именно шестнадцатилетних десятиклассниц гладкими, как кастрюли тёти Тины! Вон когда Олежка за мандаринами полчаса в очереди стоял, купил две сетки, а она ему сказала: «Хочешь Фантомазину покажу?» – и приподняла шапчонку над лбом, тут у Олежки обе сетки упали и мандарины разбежались по всей улице.
Я думал, у тебя какая-то фотография Фантомаса, или журнал какой. А ты сама лысая!
Она тогда ползала с Олежкой по асфальту, ржали до упаду и собирали расыпавшиеся мандарины. Сёма же прошёл мимо, как если б ничего не происходило. Ой, чего голову ломать, сказал – не сказал, заметил – не заметил! У него своих дел много. Вон мама говорит, что у Сёмы через четыре дня в Большом Городе отборочные соревнования. Так надо поехать и посмотреть. Как раз выпадают на субботу. В субботу репетиторов нет. Приду со школы и поеду.
Четыре дня пролетели так, словно в сутках вовсе не двадцать четыре часа, а просто четыре.
Папа не смог поехать. Мама не ездила никогда, с чего бы её, как она сказала, «сейчас понесло с места в карьер»? Адель одна, гордая до ужаса, уселась на сиденье междугороднего «Икаруса».
От конечной остановки междугороднего автобуса до Дворца Спорта было не очень далеко. Можно было поехать на метро, а можно было и на троллейбусе. На метро быстрее, зато на троллейбусе интересней! В метро Адель страшно боялась этих железяк на турникете, когда бросишь пятачок, и надо подгадать, когда проходить. Замешкался, не успел – получил по бокам, поторопился – опять по бокам. Нет, Адель пока ни разу не доставалось, но страшно всякий раз, когда приходилось входить в небольшой павильон со светящейся красной «М» на крыше. Поэтому Адель старалась без большой надобности в «М» не лазить. Тем более, что Большой Город был так прекрасен, и так приятно было ехать в троллейбусе, среди опрятно одетых людей, смотреть в окно на красивые витрины с настоящими манекенами. На некоторых участках маршрута открывался замечательный вид на горы, и тогда у Адель возникало жгучее желание распластать крылья и лететь, лететь через эти горы до края Земли, где её, конечно, никто не знает. Конечно же, во время этого полёта она наконец-то из Гадкого Утёнка превратится в Прекрасного Лебедя. Прямо в небе у неё за спиной вырастут белые, сильные крылья, которые никогда не устают, и поэтому полёт может продлиться вечность. Там, на краю земли её никто не знает. И даже не подозревает, что ещё совсем не так давно она была Бочей, Пятитонкой и Жиртрестом. Поэтому они все очень обрадуются, устроят праздник и возьмут её к себе. Все будут улыбаться.
«Вот-вот! – тут же начинал прикалываться внутренний голос. – А потом мордой в асфальт хлоп!»
У Адель внутренний голос появился невесть откуда и совсем недавно. Можно сказать, в десятом классе. Потому что она не помнила, чтоб в её голове хоть когда-нибудь копошилась какая-нибудь захудалая мысль. Она практически всегда обязана была рассуждать вслух. Однажды к ней вошла мама и, увидев, что она просто лежит на диване и не читает, и не смотрит телевизор, утвердительно спросила: «Мечтаешь?» И милостиво разрешила: «Ну, хорошо! Помечтай немного!». Адель сперва показалось, что её голой выставили на стадионе перед матчем. Мама желала проникнуть даже в мысли, даже в мечты, хотя таковых у Адель на самом деле и не было, потому как «мечтать» она вообще не умела. Ну, разве что о том, как уже скоро сама превратится в Прекрасного Лебедя. Просто думала стать врачом, но не «мечтала» вожделенно. Получится – хорошо бы, не получится, да и ладно. Везде можно работать. Вон десять заводов на один маленький город. И что? Кто-то из них плохо живёт? Все живут хорошо, радостно и весело, потому что они не учителя и не читают перед настольной лампой журнал «Семья и школа». Мама с папой давно ей нарисовали картину её будущего:
Ты будешь работать врачом. У тебя будет много знакомых, но ты должна быть лучше всех. Ты должна быть блестящая. Все тебе должны завидовать.
Всё по нотам, всё расписано, и мечтать, собственно, уже не о чем.
Там, где её сверстники Мечтали, она очень Надеялась. Надеялась похудеть и отрастить длинные, до плеч волосы. И всё. Вот и все мечты, пожалуй…
Внутренний голос появился скорее всего после знакомства с Владимиром Ивановичем. Он так много интересного и непонятного ей рассказал, что всё это, в общем-то, необходимо было переварить и осмыслить. Так он и появился, этот самый внутренний голос. Пришёл сам по себе и остался жить. Иногда внутренний голос был дружественно настроен, иногда шутил, но чаще всего был совершенно несносен и действовал на нервы. Он был совсем не дурак. С ним было интересно спорить. Иногда он мог обозлиться и не появляться несколько дней, даже недель. Тогда Аделька начинала по нему скучать. Он возвращался, они мирились, и всё начиналось сначала.
«Поеду-ка я на троллейбусе!» – решила Адель.
Вот и правильно! – согласился внутренний голос. – Посмотришь афиши, витрины за елями вдоль проспекта, тем более будешь проезжать мимо Александровского сада, мимо Дома пионеров – бывшей резиденции русского царя, мимо театра Оперы и балета… Кра-со-та! Сколько замечательных воспоминаний.
Она, уютно устроившись на последнем сиденье, с удовольствием в окно рассматривала прохожих, как будто могла увидеть среди них маленькую, очень толстую девочку, которую ведёт за руку седой мужчина в длинном чёрном пальто, с белым кашнэ на шее. Девочка делает большие шаги, потому что хочет попасть с дедом в ногу.
«Как всё-таки это может быть, – Адель не могла налюбоваться на Старый Город, – всего двадцать пять километров от дома, а такое чувство, что на другой планете! И люди какие-то счастливые, и женщины в разноцветных платьях, девчонки какие-то… идут себе вместе с мальчишками, смеются, болтают, толкаются. Мужчины проходят мимо и на них не оглядываются, ничего не говорят вслед. В парке на лавочках молодые женщины с детишками. К ним тоже никто не подсаживается… Светло, солнечно, тепло, красиво, чисто… я тоже так хочу…»
Она просто так для себя, потому что ей нравилось, провожала глазами разные названия магазинов, кафе, афиши с театральными анонсами, и вдруг… Нет! Этого быть просто не могло! Надо вылезти тут же из троллейбуса и подойти поближе, вдруг ей кажется?! Может это уже было, просто афишу забыли снять? Адель вскочила с сиденья и, растолкав стоящих перед задними дверями, протиснулась к выходу. А троллейбус всё ехал и ехал. «Ну, где же остановка?! – ёрзала она. – Ого, сколько возвращаться!» Наконец, троллейбус остановился. Она первая соскочила с подножки, наступила сама себе на ногу, при этом чуть не потеряв туфлю. Возвращаться на самом деле оказалось вовсе не так далеко, просто ей от испуга показалось целым километром. Она подошла вплотную к афише. Зачем-то потрогала её. Даже возникло желание оторвать кусочек бумажки и посмотреть на свет. Нет, всё было именно так, как она увидела из троллейбуса. Стоял столб с анонсами, а на нём висела афиша: «Валерий Золотухин. Александр Градский. Владимир Высоцкий». Дворец спорта. Они приезжали на гастроли через неделю!
Адель потёрла указательным пальцем буквы из красной гуаши. Палец стал красным. Она потёрла его об большой. Он тоже стал красным.
– Ну, что, дорогая, – внутренний голос был тут как ту т, – разворачивай обратно на остановку и думай, дорогая, думай, как тебе всю неделю дома себя вести, а самое главное, где достать билет на концерт?
К началу соревнований Адель не опоздала. Прямо над кассами Дворца спорта висела такая же афиша, как и на столбе, с приклеенной прямо посредине радостной вестью «Билетов нет!». «Кто бы сомневался!» – хмыкнула Адель.
Сёмку до начала соревнований повидать не удалось. Она прошла на трибуны, выбрала удобное местечко и села. Разминка уже началась.
Программа соревнований была интересной – заплывы на короткие дистанции. Если дистанция «тыща пятьсот», то это больше пятнадцати минут! Пока они плывут, плывут, уже и к кафетерию сходить можно, и вернуться к финишным ста метрам. Именно на «стометровке» вольным стилем и был королём Сёма. От старта до финиша не проходило и минуты, и это было захватывающе. Резко, быстро, круто! Решают всё доли секунды, тут не нагонишь ни «потом», ни на повороте.
Ей нравилось тут всё: и что у большинства волосы были светлые и от медного купороса зелёные, что кожа у всех гладкая, красивая, совершенно без волос, что они надевали спортивные костюмы прямо на мокрые плавки и купальники, что у некоторых были настоящие фирменные знаки «Адидас» и «Спидо». Это было очень круто! У некоторых девочек купальники были пошиты дома из чёрной «комбинашки», потому что эта ткань была очень лёгкой, не впитывала в себя воду, а потому и не набухала, и её тут же можно было вытереть насухо полотенцем. Но самый крутой зелёный купальник «Арена» был у Ирки Омельченко, потому что её брат Игорёк привёз его с настоящей Олимпиады. Из Монреаля. И все об этом знали и Ирке завидовали.
«Вот бы Сёма попал в сборную Союза! – думала Адель. – Он бы мне тогда с Олимпиады привёз купальник! И шапку! И очки! И не обязательно в таком купальнике на бассейн ходить! Можно и на море плавать. К тому времени я уже похудею. Классно будет!»
На старт выходили знакомые по другим соревнованиям лица и плавки. Она многих знала по фамилии, знала, из какого они города. За кого-то болела, кто-то совсем не нравился и хотелось, чтоб он утонул.
Лазариди Семён! Третья дорожка! – Голос из динамика был жёстким и торжественным.
«Третья дорожка – это хорошо!» – Адель давно знала преимущества и недостатки каждой дорожки. В середине плыть лучше всего.
Сёма лениво разделся последним. У него не было ни фирменной шапочки «Адидас», ни очков. Только чёрные короткие плавки и резиновые допотопные вьетнамки.
На старт! – От этих слов у Адель всегда учащалось дыхание и сердце стучало с перебоями.
Пять оставшихся дорожек терпеливо ждали, когда Сёма влезет на «тумбочку».
Внимание! – Сёма последним подошёл в краю «тумбочки» и опустил руки к ступням.
Судья на старте иногда «передерживал», и выстрел звучал на доли секунды позже. Многие срываются на фальшстарт. Они прыгают в воду и проплывают несколько метров, чтоб снять напряжение. Тогда надо всё делать сначала. Но, если всё-таки кто-то уже прыгнул раньше времени и коснулся воды до выстрела, то лучше и всем остальным прыгнуть, как бы «стереть» старт, а то во втрой раз можно наоборот замешкаться. Но есть и ещё один секрет: если подгадать выстрел и оказываться в воздухе на доли секунды раньше, и войти в воду вместе с выстрелом, то это не считается фальшстартом… Доли секунды – это очень много! Доли секунды для спринтера – это как для обычного человека полдня.
Сёма всей своей кожей научился ловить этот момент. По каким-то колебаниям душного воздуха, по какому-то электрическому разряду в нём, но он неизменно отрывался от земли за мгновения, до выстрела и касался воды одновременно с ним. Два гребка со старта и он почти на середине бассейна! Было ощущение, что он не плывёт усилиями рук и ног, а змеёй скользит по воде, влекомый посторонней силой. Сёма был идеальной машиной, созданной для плавания…
Конечно, Сёма пришёл первым! Кто бы сомневался?! Но когда стали объявлять результаты заплыва, она хорошо знала нормативы времени на дистанции сто метров вольным стилем, это была прямая дорога в Олимпийскую сборную СССР! На нём висели, сидели друзья, они все орали как резаные, толкались, бросали друг друга в бассейн. Счастливые! Адель не могла спуститься с трибуны, чтоб тоже обнять брата. Выход был только через раздевалки. А кто ж её пустит без сменной обуви, да и вообще?! Она заметалась по трибуне. Нет, сегодня слишком много приятных сюрпризов, можно сказать столько счастий одновременно свалилось на неё! Адель, совершенно забыв, кто она, вскочила ногами на сиденье, сорвала с головы вязанную шапку и завизжала, срывая голос:
Сёма-а-а-а! Сёма-а-а-а! Браво-о-о-о! Браво-о-о-о! Уделай их всех! – Казалось, она переорала всех: микрофон, воду, болельщиков, потому, что Сёма, вдруг увидел её, бесновавшуюся на трибуне, с лица его сошла кривая ухмылка, которую он носил вместо улыбки. Он вдруг нахмурился, и, обвязав бёдра полотенцем, не одеваясь пошёл в раздевалку. Больше он в её сторону не взглянул, ни на награждении, ни на закрытии.
Адель ждала его в вестибюле. Он вышел последний, когда все уже разъехались и разошлись.
– Сёмка! – она подскочила к брату.
– Слушай, ты!.. – Сёма еле сдерживал себя. Казалось, ещё секунда – и он её ударит, – Ты себя в зеркало видишь, хоть иногда?!
– Я…
– Ты специально пришла, чтоб меня опозорить?! Мало того, что припёрлась в каких-то уродских штанах, так ты ещё в этих штанах имеешь наглость влезать на сиденье, показывать всему спорткомплексу свою огромную задницу, ещё и орать, как ненормальная?! Лучше б не волосы себе на голове сбрила, а всю голову отрезала! Ты себя вести не умеешь!
– На соревнования для того и ходят, чтоб болеть… – Адель хлопала своими глазами за толстыми линзами очков и пока не понимала, что всё это всерьёз.
– Теперь надо мной должны смеяться, мало того, что моя сестра совсем не Эсмеральда, скорее Квазимодо, так ещё и лысая и совершенно ненормальная!
Прости! – Адель, казалось, начала понимать, что Сёмка вовсе не шутил. Она посмотрела на него в упор: – Значит, человек имеет право выражать свои чувства, и быть самим собой только если он соответствует общепринятым стандартам? Если б я всё-гаки была Эсмеральдой, то мне можно было визжать на трибуне?
– Я вот к чему всё это: чтоб я тебя больше на соревнованиях не видел! Свободна!
«Свободна, свободна, как птица в полёте», – внутренний голос Аделаиды напевал на разные мотивы эту песенку, пока она ехала домой на другом красном «Икарусе». Ей не было ни обидно, ни горько. Казалось, что это то ли уже было, и не раз, то ли она к этому была готова. Ничего ни нового, ни сногсшибательного не произошло… Даже нельзя сказать, что она недоумевала. Каждый волен поступать, как он хочет. Каждому может проститься какая-то погрешность в поведении. Но только не ей. Почему? Папа, хоть ему и всё по барабану, он старается ради жены, но тоже иногда становится ужасно нудным, качает права и выражает своё мнение. Почему Сёма считает, что может говорить то, что считает нужным, мама делать всё, что хочет, и они все втроём решили выставить козлом отпущения Аделаиду? Почему самое главное для них – «что о них подумают» какие-то невнятные совершенно чужие люди? Будут ли эти люди «над ними смеяться?», будут ли уважать? И их совершенно не беспокоит, что думает сама Адель. Как будто они втроём перед всем миром в неоплаченном долгу, а Адель своим существованием мешает с этим долгом рассчитаться, то обоз под косогор пустит, то мельничные колёса зубами перекусит. Вывод: с таким задом и прыщами на лбу нельзя рассуждать о творчестве Чайковского! Надо для начала привести в порядок свой внешний вид, в данном контексте «зад», а потом открывать рот. Хорошо. Я так и сделаю. Хотя Фрукт говорил совсем другое. Он говорил, что каждый человек уникален и ценен сам по себе. Может, мне написать на бумажке небольшой плакатик и повесить на шею эту фразу? Ведь весь Город, то есть, для меня – весь мир – считает совсем по-другому! Где он сейчас, этот Фрукт? Посидели бы у тебя в лоджии, ты бы мне ещё какую-нибудь песню спел. Высоцкий, Высоцкий… Он приезжает со дня на день всего на два дня, а где взять билет на Высоцкого?! – Адель вдруг позабыла и про Эсмеральду и про её козла. «Билет, билет…» – звенело в голове. Она лихорадочно стала перебирать в мозгу всех своих знакомых, кто бы пожелал помочь с билетом. Ведь скорее всего билеты распределят по организациям. Конечно, мама и папа ни за что не возьмут. Это же не «Лебединое озеро»! Что они потом скажут своим знакомым, если их кто-то увидит? Тут Адель вдруг зачем-то вспомнила, как над папой смеялась мама, из-за того, что однажды они отдыхали на море в Сочи, и один учитель из их же школы увидел, как папа «ходил по городу в трусах с голыми ногами». Скорее всего это были шорты, но тот учитель не знал таких названий. Он вернулся в Город и рассказывал каждому встречному и поперечному, что «он сам видел, как там Василий Ильич ходил в трусах!». И мама смеялась над папой и говорила: «Видишь, каким нужно быть осторожным!» Родители ей билет на «блатного барда» не возьмут, если его им даже подарят. Ну, кто же, кто же тогда может помочь?! Что нужно для человеческого счастья?
«Думай, Адель, думай!», – несмотря на то, что внутренний голос подстёгивал как мог, Адель буквально до пятницы не могла ни до чего додуматься! – Может, подъехать прямо к концерту и у кого-нибудь спросить лишний билетик? – но только представив себе, что надо будет идти сквозь строй, просить о чём-то незнакомых людей, которые, возможно, не будут слышать, что она говорит, потому что гораздо интересней её рассматривать со всех сторон, Адель совсем расстроилась. Надо же что-то делать! Может, Высоцкий больше никогда не приедет! Может, я его больше никогда не увижу! Во что бы то ни стало надо услышать как он поёт!
– Слюшай, дэвочка, – Глеб Панфилович стоял около её парты, – ты совсем не слишиш! Я три раза назвал твою фамилию. Ты где?
«Мамочка! Этого мне только не хватало! Мне труба! – у Адель в ногах появился знакомый предательский нарзан. – Меня к доске вызывали, что ли?»
– Иди, витри с доски… – голос Глеба Панфиловича был удивлённо-дружелюбный, но она его боялась, просто боялась, и всё!
– Что-то ти сегодня совсем странная какая-то.
Адель схватила тряпку и понеслась к двери.
– Лазариди, это у вас последний урок? – Глеб Панфилович взял у неё тряпку и сам стал стирать с доски. – Останса, останса после звонка, поговорим.
«Всё! Это даже не труба! Это – вилы! Интересно, он папашу вызовет в школу? Бли-и-ин! Сегодня только четверг, это значит, папаша только позавчера в школе был!» – Адель мечтала, чтоб урок никогда не заканчивался и чтоб в следующий раз ей пришлось под краном отмывать тряпку для доски от масляной краски, чтоб она липла к рукам и не отмывалась до конца жизни!
Звонок съездил по ушам, как боксёрская перчатка.
Староста, остав журнал, я выставлю оценки и сам в учителскую занесу. Предупреждаю – завтра контролная! – Глеб Панфилович обрадовал до безобразия. – Рахлин! Прикрой после себя двер! – бросил он застрявшему в дверях ученику. – Ну, что, Лазариди, садис! Рассказывай, где ты париш?
– Я больше не буду! Извините!
При чём «буду – не буду!». Что за глупости ты говориш?! Что-то произошло? У тебя неприятности? Может, дома что-то?
«Что сказать чужому человеку, преподавателю алгебры и геометрии, заменившему в своё время бедную Малину, которую папа чуть не сожрал с потрохами? Что ответить человеку, которого папа почему-то считает другом, о моих делах? Сказать, что меня собственно нет дел, а одни разные глупости, и всё это вместо того, чтоб подгонять предметы? Дескать: десятый – выпускной класс, что надо „работать на аттестат“, а я бездельница, трачу время на ерунду… Не могу больше произносить эти фразы… как заклинания, блиин…! Так он скажет: „Я сто раз сказал – выучи, подними руку, чтоб я тебя перед всем классом спросил и ты бы хорошо ответила“. Он, наверное, всё ещё думает, что я не учу. Но, какой ужас – я учу, но ничего, ничегошеньки у доски не помню! Что сказать? Что толстым нельзя рассуждать о Чайковском, Бебеле, Бабеле, Гегеле, Гоголе потому, что толстые не такие как все, они не имеют права что-то „считать“?! Им нельзя обривать головы и кричать на трибунах? Они не заслужили от природы права на мнение, на чувства, они паноптикумы, которых надо за деньги показывать людям в цирке! Сказать, что я ненавижу этот Город?.. Ах! Совсем забыла – не место красит человека, а я должна украсить этот Город! Что ещё? Что мама обещает каждый день утопиться и до сих пор не утопилась? Зачем ему всё это надо? У него своих дел много».
– Я же жду! – Глеб Панфилович заполнял классный журнал. – Ти меня задерживаеш!
– Мне нужно достать билет на концерт Владимира Высоцкого! – сказала Адель и от своей же безграничной наглости смутилась и покраснела.
Учитель отодвинул от себя журнал и закрыл его.
– Откуда ты знаешь кто такой Висоцкий? – Глеб Панфилович очень удивился. – Ты слушаешь его записи?
– Нет! У меня есть только ксерокопии его стихов, – Адель с промокшими подмышками внимательно рассматривала надписи на парте.
– А-а-а! Только читала и не слишала, как он исполняет свои песни? Это большой пробел в твоём воспитании. Он – балшой мастер! – засмеялся Глеб.
Адель была в полнейшем замешательстве! Мало того, что Глеб Панфилович даже не спросил, знает ли её папа, вроде как его друг, чем она занимается во внеурочное время, что она читает Высоцкого, так он ещё над ней смеется!
– Глеб Панфилович! Если даже мне кто-то даст бобины, я не смогу их дома послушать!
– Ну, это я зна-а-аю! – Глеб Панфилович, гроза и ужас всей школы снова улыбнулся. Он вдруг замолчал и зачем то снова открыл классный журнал. Адель тоже молчала, не в силах дождаться, когда же закончится этот разговор.
Глеб повернулся к ней, несколько секунд подумал и приготовился что-то сказать.
– Хочешь билет? – вдруг совершенно серьёзно спросил он.
У Адель от ужаса зачесалось всё – голова, ладони, шея.
«Проверяет?! – пролетело в голове. – Я отвечу „да“, и он скажет директору, и папашу потом в Горком вызовут и ой, что будет! Вон узнали, что Пивоваров с Филипповым каких-то „Битлов“ слушали – скандал был на всю школу! Но у них родители не учителя и не Члены Партии, поэтому им только выговор по комсомольской линии вкатили. А мне лично крышка!» Она, не отвечая, вся мокрая и красная продолжала скрупулёзно рассматривать парту.
– Малчиш? Не малчи! Умей отвечать за свои слова и поступки. Хочешь билет, говорю? – Глеб Панфилович продолжал пытать.
– Да-а-а!
– Молодец! На, вазми! – он немого покопался в обоих карманах пиджака и извлёк на свет мятую бумажку. – Нам в месткоме доброволно-принудително раздавали, но я не думаю, что твой папа тоже взял. Бери, бери, не стесняйся!
Три рубля… – прошептала Адель, уставившись на билет, – у меня нет с собой таких денег!
Она врала. У неё не было ни «с собой», ни «ни с собой», ни в перспективе. Странно, но когда она мечтала достать билет, то совершенно не думала, что за него надо платить! Словно это должно было произойти каким-то волшебным образом, как, в принципе, и произошло!
– Какие «три рубля»?! Успокойса, девочка! Всё? Твои проблемы решены? Ты болше не улетиш во время урока? Будеш внимательно слушат? У меня есть его записи. Я их часто кручу… Хочеш скажу, какая моя любимая песня? В ней есть такие слова:
Словно капельки пота из пор Из-под кожи сочилась душа.
Такие слова человек сам не может говорить. Они приходят к нему свыше.
«Свыше» – это откуда? – Аделаида, чуть наклонив голову, внимательно взглянула на учителя, который вёл у них уже три года, а она бы никогда не могла подумать, что он в свободное время может включать магнитофон. У него цифры, цифры, цифры, и иногда буквы. – «Свыше» – это от Бога?
– Так ты же знаешь, что Бога нет! – Глеб Панфилович то ли шутил, то ли проверял на политическую подкованность.
– Конечно, нет! – радостно согласилась Адель.
– Паслушай, человечество ещо слишком примитивно и необразованно, чтоб с такой хамской уверенностью утверждать, что есть, что нэт…
Адель, чтоб скрыть смущение, стала интенсивно пихать билет в портфель между учебниками.
– Ладно, ладно, это всё такие шутки. Не стесняйся, – Глеб Панфилович встал и медленно направился к металлическому шкафу в углу классной комнаты, – иди домой, мне ещё два класса контролные проверить надо!
И она попала на концерт! Она бы попала туда, если б даже знала, что надо просверлить в крыше Дворца Спорта дыру, что надо ногтями прорыть подземный ход, что её за всё это не убьют, а заживо похоронят, или замуруют в стену! Пройдя сквозь тройную охрану вокруг Дворца Спорта и держа заветный билет двумя руками, Адель оказалась прямо напротив микрофона, лицом к лицу и в третьем ряду!
Огромный спорткомплекс был набит под завязку.
«Не хило! – восхитилась Адель. – Оказывается, очень даже многие знают, о ком разговор. Хотя возможно, что пришли смотреть на Валерия Золотухина. Он вроде как знаменитый актёр, хотя я его и не люблю… Ой! Ну когда уже начнётся! Хорошо, что хоть тут „журналов“ с хлопкоробами нет!»
Сперва выступал именно «знаменитый актёр». Он смешно рассказывал, как приехал поступать в Московский институт из далёкой провинции, типа, вышел в Москве с поезда в широченных штанах и пёстрой рубашке. Зал веселился и радовался такому рубаха-парню. Потом пел Александр Градский. Пел прикольные песенки, смешные и разные. Но до Золотухина Адель уже видела сольные выступления Андрея Миронова, Владимира Этуша. Они приезжали в ним в Город и давали концерты в Доме Культуры Металлургов. Зал взрывался аплодисментами. Адель тоже хлопала. Сейчас, казалось, в воздухе назревает какое-то напряжение, которое возникает в толпе, когда она ждёт появление настоящего короля, такое, как между электродами разного заряда. Ожидание висело в воздухе и было совершенно осязаемым.
Взял последний аккорд Александр Градский и объявили перерыв.
Адель до конца перерыва даже не шевельнулась. Она сидела на своём месте как приклеенная, словно боясь, что её место кто-то займёт. Свет постепенно начал меркнуть. На поле упал луч прожектора… Сердце забилось как ненормальное, лысая голова под шапкой замёрзла от испарины. Адель одним резким движением сдёрнула её и засунула в карман. «Плевать! Да пусть хоть вся Москва видит, что я лысая!»
Он вышел упругой спортивной походкой. Короткая, совершенно обнажающая лоб чёлка; чёрная водолазка под горло и белый шарф.
Добрый вечер, дорогие друзья! Я очень рад встрече с вами!
Волшебство началось. Вот он, совершенно живой и недоступный на расстоянии почти вытянутой руки. Голос, интонации, тембр меняются на каждом слоге песни…
Он то рвал нервы своим надрывом, то рычал, то рокотал, кому-то угрожал, и вдруг внезапно становился похожим на хрупкую водяную лилию, и тогда в душе Аделаиды звучали слова: «Ангел мой!».
«Да он же врач-прозектор! – вдруг отшатнулась Адель. – Он не певец, и не актёр, и даже не поэт! Он – прозектор! Его работа – это препаровка, это вскрытие человека живьём, чтоб, как сказал Владимир Иванович, помочь людям отличить правду от лжи, спасти обречённого и помочь заблудшему. У него нет идиотских „запретных тем“. Он певец свободы и проповедник нравственности, которая так проста и так сложна, а для многих даже совершенно неприемлема, потому что не каждому посчастливилось иметь совесть. Для него нет мелочей. Для него важно всё».
Высоцкий пел. Рвал струны, рвал душу. Невысокого роста, очень складный, он виделся Адель какой-то гигантской электростанцией, несущей свет в миллионы душ…
Перед началом каждой песни он сперва зрителям о ней рассказывал. Рассказывал, почему ему дороги те или иные циклы его стихов. Ни на одном концерте, ни один певец на расстёгивал так свою душу.
Адель сидела как во сне… Ей казалось – всё, что сейчас происходит – это только для неё одной. Давно за полночь. Большой Город спит. В лапах елей, высаженных стройными солдатиками вдоль проспекта, застряли рыжие листья. Льётся оранжевый свет на каменный вход в подземку. Там, внизу, в подземке, прямо около входа в метро стоит старый дед в национальной шапочке. Он продаёт букетики фиалок. Много фиалок… У него их целый мешок… Купите букетик – двадцать копеек шгучка… Но в подземном переходе давно никого нет. Фиалки никому не нужны.
Дворец Спорта пуст и тёмен. Аделаида одна сидит на трибуне. Перед ней на растоянии вытянутой руки луч прожектора слепит невысокую, спортивную фигурку по имени Душа и Совесть. Она не может уйти, потому что должна перелистать только для неё, для Адель хрупкие страницы Тайной Книги о чести, добре и милосердии. Адель хочет встретиться с ним взглядом хоть на секунду, чтоб выхватить этот кусочек света, завернуть в него своё сердце, и оставить его с собой навсегда.
Хорошо бы зажечь свет в зрительном зале, я хочу видеть глаза… – прикрыв ладонью струны, просит Высоцкий.
Дворец Спорта шарахнул всеми своими свечами по серебряным струнам, одиноко сверкающим на огромном хоккейном поле. Казалось, световое цунами вот-вот захлестнёт и унесёт поэта с гитарой. Но он остался стоять, только снял с шеи свой белый шарф и положил рядом с собой.
Вот и славно! – сказал он, улыбнувшись. – Значит так: следующая песня называется просто «Я не люблю». Во многих письмах, которые я получаю, часто задаётся один и тот же вопрос: не воевал ли, не плавал ли, не шоферил ли, не сидел ли я – в зависимости от того, какую песню человек услышал. У нас есть такая странная манера отождествлять образ, который создан на сцене, или на экране, с тем человеком, который его создаёт. Вот так же меня осуществляют с героями моих песен, что бывает, честно говоря, даже обидно! Слушателей, очевидно, вводит в заблуждение, что я все свои песни пою от первого лица. Так вот, песня «Я не люблю» отличается от других песен именно тем, что она действительно о том, что я не люблю и не приемлю никогда, что бы ни произошло!
Итак:
- Я не люблю фатального исхода,
- От жизни никогда не устаю.
- Я не люблю любое время года,
- Когда весёлых песен не поют.
- Я не люблю холодного цинизма,
- В восторженность не верю, – и ещё —
- Когда чужой мои читает письма,
- Заглядывая мне через плечо.
- Я не люблю, когда – наполовину Или когда прервали разговор.
- Я не люблю, когда стреляют в спину,
- Я так же против выстрела в упор.
- Я ненавижу сплетни в виде версий,
- Червей сомненья, почестей иглу,
- Или – когда всё время против шерсти,
- Или – когда железом по стеклу.
- Я не люблю уверенности сытой, —
- Уж лучше пусть откажут тормоза.
- Досадно мне, что слово «честь» забыто И что в чести наветы за глаза.
- Когда я вижу сломанные крылья —
- Нет жалости во мне, и неспроста:
- Я не люблю насилье и бессилье, —
- Вот только жаль распятого Христа.
- Я не люблю себя, когда я трушу,
- Досадно мне, когда невинных бьют.
- Я не люблю, когда мне лезут в душу,
- Тем более – когда в неё плюют.
- Я не люблю манежи и арены:
- На них миллион меняют по рублю.
- Пусть впереди большие перемены —
- Я это никогда не полюблю!
Всё так! Всё именно так и есть! – Адель была счастлива. Она больше нигде не жила. Ей, как и ему, больше не нужен был дом, потому что настоящий дом человека – везде. Теперь только хорошо бы разобраться в настоящих истинах, и тогда всё будет: – Чего из всего перечисленного у меня не в избытке? Кислых лиц вокруг, читающих через плечо не предназначенные для них письма, живущих исключительно чужой жизнью?
Что это ещё за тайны такие?! – как говорит родная, собственная мама. – Секретов мне ещё не хватало! Всё равно мы всё про тебя знаем! Сейчас не знаем, так потом узнаем!
Мама, скорее всего, не догадывается, что я «не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в неё плюют!» Или кто-нибудь из добрых людей мне попытался объяснить значение слова «честь» не в контексте «девушка должна беречь девственную плеву», а в контексте понятия о долге, о совести, о выполнении обещанного? Да, возможно, в школе на уроках литературы. Там говорили о смелом Данко, который вырвал из своей груди сердце, чтоб осветить людям дорогу. Но… но в Городе наоборот специально бьют все фонари, чтоб было темно…
Когда я вижу сломанные крылья Нет жалости во мне и неспроста Я не люблю насилье и бессилье…
О, да! Самое страшное на земле – это ощущение бессилия! Это когда оно тебя обволакивает, как болотная, вязкая тина, парализует твою волю и медленно тянет ко дну. Ты хочешь что-то сделать и не можешь. Не можешь даже закричать, потому что грудь сдавило и не получается сделать вдох. Если же произойдёт чудо, и поток воздуха попадёт в слабые лёгкие – не надейся! – тебя никто не услышит! Не услышит просто потому, что тебе всего два года, а тебе бьют морду, потому что маме – жарко, она раздражена и в плохом настроении. А ты в свои два года не любишь окрошку и не ешь её, несмотря на то, что мама именно для тебя её приготовила! Тебя хватают за руку, выдёргивают из-за стола и ставят в угол. Бессилие давит тяжёлым кованным сапогом на грудь, когда ты в четвёртом классе первый раз в жизни получаешь «двойку» по «директорской работе» по математике, и тебе легче прыгнуть под автобус, или залезть в петлю, только бы не видеть мамино перекошенное лицо! Но и под огромные колёса автобуса тоже страшно! Они такие чёрные и тяжёлые. Что же делать?! Ты тянешь время после уроков, долго застёгиваешь пуговицы на пальто, долго собираешь портфель. Но время идёт. Пора именно домой. Тебе всего-навсего десять лет от роду и тебе больше некуда идти. Бессилие заставляет тебя прокусывать кожу на костяшках пальцев до крови. Пять лестниц вверх, белая дверь и рядом смотровое окошечко во двор. Это – твой дом, это – твоя крепость, твоя семья: мама, папа и Сёма. И что бы они не решили, согласна ты с этим, или нет – будет так, потому, что ты – ничтожество! Ты – продукт женского рода родительской жизнедеятельности, а посему обязана быть благодарной за своё появление на свет и молча находится там, где тебя отложили. Ну-у-у, Сёма живёт и всегда будет жить по-другому, потому что он – мальчик.
Бессилие… В Городе любят наблюдать бессилие. Когда насилуют или убивают, чаще всего собираются зрители. Грабёж в Городе – это как за хлебом сходить – даже говорить скучно. Причём именно действо доставляет неземное удовольствие, а не результат. Это как публичные казни в средние века. Как демонстрация силы и могущества инквизицией. Век другой, страна другая, строй социалистический, то есть – самый совершенный, а нравы те же. Даже круче. Народ в итоге страсть как полюбил наблюдать бессилие!
Какими серыми и обычными показались Градский и Золотухин! Они очень, очень талантливые, но… обычные… земные. А Высоцкий – совершенно необъяснимая межгалактическая плазма, не имеющая разгадки, не поддающаяся подражанию.
«Я это никогда не полюблю!» – Три резких аккорда в конце, и на поле к ногам певца, на перекрест прожекторов падает бордовая роза.
- Пора! Кто знает время сей поры?
- Но вот она воистину близка:
- О, как недолог путь от кобуры
- До выбритого начисто виска!
За все свои шестнадцать лет Адель никогда не была в таком отчаянии: она хотела, она мечтала, она рвалась выйти сию минуту, да, сию минуту, на газах у многотысячной толпы, выйти, выбежать, вырваться на это огромное хоккейное поле и преподнести ему цветы! Огромный букет тёмно-бордовых, почти чёрных роз. Таких же, как лежат сейчас у его ног. И ей совершенно всё равно, что целый Дворец Спорта будет на неё смотреть! Вот сейчас, вот сейчас она перелезет через бордюр… Но… но у неё нет даже плюгавого цветочка! «Что ему подарить?! – звенит в висках. – Что?! Ведь должно же у него остаться что-то моё на память!». Она от ужаса закрыла лицо руками. Предательски захлюпал нос.
«Сейчас всё закончится! – с ужасом думала она. – Сейчас он допоёт и уйдёт! Вдруг это последняя песня! Вдруг он уйдёт и я его больше никогда не увижу! Я должна ему что-то подарить! Он не может просто так исчезнуть!» – в газах всё начало расплываться. Она полезла в карман за платком. Медиатор! В кармане, прямо с платком лежит подаренный Фруктом такой замечательный медиатор! Такой любимый и дорогой. Но подарок и ценен именно тогда, когда даришь свою любимую вещь. Что толку с магазинной вазы?!» Она вскочила со своего места и кинулась на сцену. Чуть не наступив на белый шарф около ног певца, она подгадала паузу и, забыв обо всём на свете, подошла к нему вплотную. Единственная мысль, поразившая её была: «Какой он рыжий! Он совсем не чёрный, как в кино, а совсем тёмно-каштановый!». Адель, совершенно ослепшая от софитов, на ощупь нашла его руку и вложила в неё медиатор. Певец разжал пальцы, только мельком взглянул на свою ладонь, снова сжал их. На нём висела гитара, но он сделал шаг вперёд и обнял, совершенно потерявшую ощущение реальности Адель. Потом присел, поднял розу и протянул ей…
«Он понял, понял! Он всё понял! Или даже всё знал!» – Адель сидела в «Икарусе», прижавшись носом к холодному стеклу. За окном хлестал дождь и ничего не было видно. Потоки воды сходили с гор, неся с собой камни, брёвна, ещё какой-то мусор. Вдоль трассы стояли легковые машины. Около них копошились полуголые люди, стараясь подтолкнуть машину и сдвинуть с места, чтоб селевым потоком её не сбросило в обрыв, от которого дорогу отделяли всего три метра, усаженных жидкими кустами. В автобусе вода поднялась выше щиколотки. Пассажиры поджимали под себя ноги, а кто умел, садился на сиденье «по-турецки». Почему-то совсем не было страшно. Абсолютно. Даже не думалось, что можно слететь с горы в вышедшую из берегов реку. Было всё очень всерьёз, торжественно и необычно. Адель вдруг поняла, как она рада тому, что едет одна. Адель было удивительно хорошо одной. Приложив к щеке прохладную свежесть цветка, она прикрыла глаза с ощущением полного счастья.
Глава 16
«Последний звонок»! Во всех уголках страны, во всех школах это называлось именно так и ассоциировалось с какой-то романтической грустью. По установленной традиции сей день должен запомниться на всю жизнь, как нечто чудесное, как завершающее и открывающее новую веху в жизни одновременно. «Прощай, счастливое детство! Здравствуй, новая жизнь!». Девочки в коричневых школьных формах с неимоверными бантами на голове. Молодые люди в суконных брюках и белых рубашках. Все веселы и счастливы, но с оттенком грусти… Должен звучать вальс «Школьные годы чудесны!». Учительницы прямо на линейке вальсируют со своими учениками, и те даже ухитряются наступать им на носки туфель. Первоклашки дарят выпускникам цветы. Выпускники дарят первоклашкам книжки и шарики. Лучший выпускник года сажает на плечо самую красивую первоклассницу. Он проходит через всю линейку, она сидит на его плече и громыхает в колокольчик, имитируя «последний звонок», при этом нещадно лупасит десятиклассника по голове. Море роз, голосов и профессионально срывающийся от волнения в динамике голос директора школы, из года в год начинающий своё воззвание со слов:
Дорогие мои малыши!
В этот момент Наталью Георгиевну должны прервать бурными аплодисментами.
Она очень горячо говорит, как ей жаль с ними расставаться, как она их любит. Потом пожелает «светлого и ясного будущего». В этот момент хорошо бы всплакнуть в носовой платочек, но потом утереть слёзы и как бы пересиливая себя, так сказать, взяв себя в руки, вновь счастливо улыбнуться.
Однако всё это неимоверно утомительно! И линейка в конце мая на самом солнцепёке, и школьный двор с уже погоревшей от жары жухлой травой, и удушающие полушерстяные школьные формы, и нескончаемые речи, и суета и нервозность окружающих.
У Адель отекли ноги, от такого количества крепких запахов – духов, цветов, сигарет, захотелось поскорее вернуться домой, снять с себя это дурацкое толстое платье, завалиться на прохладный диван и закрыть глаза! Но надо стоять, делая печально-умильную физю типа тебе о-о-очень жаль, что твоя десятилетка наконец закончилась, и внимать беззубой первоклашке, монотонно декламирующей что-то на понятном одной ей языке.
Через несколько дней пылал всеми красками шифона «Выпускной бал».
Адельке сшили на заказ платье, «чтоб не на одну ночь какое-то там белое», как сказала мама, чтоб «можно было и потом одеть и в город выйти». Оно было розовое с огромными сиреневыми цветами. А ещё надо было сходить в парикмахерскую и сделать первую в жизни причёску. Эта причёска – тоже неизменный атрибут в торжественном переходе из беззаботного детства во взрослую, настоящую жизнь. «Причёска» состояла из накручивания прядей волос, предварительно смоченных обычным пивом, на алюминиевые бигуди с дырочками и резинкой от трусов с одного боку. Они, эти волосы, так брались прядками, накручивались, а потом надо было тянуть резинку и закреплять её на втором конце бигудюшки. Парикмахерша страшно тянула за волосы, а когда прикручивала бигуди к голове, то цепляла соседние волосы, выщипывала их, и это было так больно! Потом Адель полчаса задыхалась под пластмассовым колпаком, похожим на аэродинамическую трубу, в которой испытывают новые самолёты на турбулентность и ламинарность. Когда пиво высохло, парикмахерша стала снимать с неё бигуди. Она опять цепляла соседние волосы и опять выдёргивала их. Это тоже было больно. Пряди, накрученные на пиво, стали железобетонными. Они торчали, похожие на множество труб среднего диаметра: труба – залысина – труба – залысина и так по всей голове. Парикмахерша разлепляла трубы пальцами, и они хрустели. Потом она всё это расчесала мелкой расчёской и облила лаком.
Когда Адель наконец через полтора часа колдовства увидела в зеркале свою причёску для «взрослой жизни», она страшно пожалела, что в тот день, когда ездила на концерт Высоцкого, автобус всё-таки не упал в пропасть! Под огрызками выросших волос сиротливо лоснилось совершенно детское растерянное лицо. Оно было круглым и беспредельно несчастным. Даже не вспомнив о маминых трёх рублях, оставленных в парикмахерской, Адель, судорожно зачёрпывая чайной кружкой воду из ванной, не успев переступить порог родного дома, тут же вымыла голову холодной водой! Она вытерла волосы полотенцем, расчесала, что имела, на косой пробор и, в принципе, была готова с таинству «Выпускного вечера».
На родительском собрании прощальную гастроль было решено провести у Тимошки, потому что его папа занимал какой-то ответственный пост на заводе, они жили в достатке, и не в квартире, а в собственном доме. Тимошкина мама, кажется, сама предложила этот вариант, и все с радостью согласились. Класс пребывал в состоянии концертного ожидания, как будто на гастроли ждали саму «Лед Зеппелин», отчего мир вокруг казался цветным и шумным. Правда, впереди были ещё выпускные экзамены, но, казалось, этот вопрос, кроме Адель, никого не занимал. Все веселились на полную катушку и тайком пили за Тимошкиным домом вино.
Праздник, наверное, удался. «Наверное», потому, что Адель сложно было судить. После того, как она хозяйственным мылом смыла в головы куски сухого пива и лака Для волос и дала себе «честное комсомольское» больше никогда в жизни, ни по какому поводу, не давать себя удушить в аэродинамической трубе, к ней пришло умиротворение и от счастья захотелось есть. Она дома вытащила из холодильника и сварила себе толстую сардельку. Сарделька оказалась странной, вместо того, чтоб благополучно опуститься и лечь на дно желудка, каким-то немыслимым образом застряла в пищеводе и при каждом резком движении грозилась снова вырваться на свободу. Это было очень мучительное ощущение!
Вечером на выпускном застолье столы ломились от яств! Тимошкина мама, субсидированная папой, натащила столько и такого дефицита, что всем вокруг казалось, будто они смотрят заграничное кино о мировом конкурсе поваров-виртуозов. Всё это сказочное изобилие надо было вкушать до утра, а рассвет, опять же по традиции, необходимо было встретить у памятника Ленина, недалеко от той сосны, которую наряжали на Новый год. Там собирались все школы Города, и русские и национальные. Однако, в отличие от русских школ, к памятнику вождя мирового пролетариата из национальных школ приходили встречать встающее из-за горы солнце исключительно представители сильного пола. Дамы к выпускным вечерам вообще никакого отношения не имели. Вот уже потом, после всеобщего Городского шабаша, вдоволь поорав, посмеявшись и потеребив друг друга, вполне можно было рассасываться по домам.
Сарделька в пищеводе после полуночи, прямо в разгар праздника стала предательски перемещаться вверх. Адель с грустью, сидя за шикарным столом, не смогла не только попробовать что-либо, а её мутило от самого запаха и вида пищи. Чуть лучше стало, только когда эта бесконечная ночь закончилась и они всем классом пошли в парк. Она вяло плелась, замыкая собой весёлое шествие, и собирала на свой вечерний туалет репейник и ещё какую-то дрянь, вызывающую страшный зуд. Новые босоножки на танкетке натёрли кровавые мозоли, которые болели нестерпимо. Адель дико устала. Ей было душно, она невероятными усилиями удерживала сардельку в пищеводе и не давала ей выскочить наружу. Голова раскалывалась. Она привыкла ложиться спать в десять часов вечера, и эта бессонная ночь надолго врезалась ей в память, как самая бездонная, утомительная и отвратительная во всей её жизни.
Она пришла домой и, не раздеваясь, повалилась на кровать.
Ну и что, что у тебя отравление! – сказала на следующий день мама. – Не надо было всё подряд жрать на своём вечере. Говорила тебе: не ходи! Не-е-ет! Куда там! Зачем, спрашивается? Кого ты там не видела? Теперь никто тебе не виноват! Отравление – это не страшно! У тебя же нет температуры и глаза хорошо видят. Лежи себе, готовься к экзаменам.
Она так и делала: лежала себе, читала и в промежутках между рвотой готовилась к экзаменам.
Первым надо было сдавать геометрию устно. Она учила, готовилась, но когда вытащила билет, сразу всё поняла… Это они уже проходили… в четвёртом классе… по математике… когда засыпали с колхозниками зерно в элеватор,
Она вяло вышла к доске. Явственно чувствуя неотвратимое приближение катастрофы, медленно, как на плахе, пыталась сказать последнее слово. Доказательство простой теоремы совершенно вылетело из головы. Стало скучно и тоскливо.
Ей подарили «трояк». «Трояк» за выпускной экзамен по геометрии, который будет всю жизнь уродовать её аттестационные баллы, и без того не бог весть какие красивые!
«Ничего уж не поделаешь! – думала она всю дорогу домой, – главное: как сказать об этом? Это тебе не „извините, мама с папой, такого больше не повторится! Я получила, я же выучу, подниму руку и исправлю!“. Это аттестат – основной документ при поступлении в институт! Его средний балл приплюсовывается к проходному баллу. И исправить тут ничего нельзя! Л чего ждать прихода родителей? – подумала вдруг Адель. – Чего тянуть кота за всё? Ведь чем раньше они об этом узнают, тем быстрее казнь и всё закончится!» – Адель наоборот ускорила шаг.
Дома никого не оказалось. «Вот! Ещё лучше! – смекнула она. – Позвоню-ка я им школу, прямо на работу и сообщу по телефону! Пока они домой дойдут, может, поостынут, встретят там кого по дороге, пообщаются, отвлекутся. И опять же – по телефону не видишь маминого выражения лица, а только догадываешься!»
Мама была на экзамене. Позвали папу.
– Папа! – ровным голосом выговорила она. – Я по устному экзамену по геометрии получила «три»…
Трубка несколько секунд молчала.
– Папа! Ты там? Ты меня слышишь? – Адель подумала, что прервалась связь, и папы там вовсе нет.
– Ти шутыш! Ха-ха-ха!!! – папа казался очень весёлым. – Я поныл: ты получила «пят» и так шутыш! Маладец, мамам-джан! Маладец!
– Нет, папа, я правда получила «тройку»!
– Ну-у-у-у! Нэ дэлай так! Ужэ нэ смэшно! Одын раз смэшно, патом ужэ нэ смэшно!
Вот такого Адель не ожидала…
– Так правда «тройка»! – Аделька даже растерялась! Она не знала, как дальше себя вести. Папа принципиально не желал принимать действительность. «Честное слово» снова давать, землю есть и клясться, что правда «три», или чего делать-то?!
– Сечас пайду мами скажу. Ох! Как она обрадуицая! Маладец, мамам-джан, маладец! Я веэгда знал, что у тэбя матэматичэская галава! Ты на меня похожа!
Аделаида медленно опустила трубку на рычаг.
Получив в аттестат ещё три «четвёрки» – по алгебре, русскому письменному и своей любимой литературе, Адель высчитала средний балл – четыре с половиной. В Мединститут проходные баллы колебались от двадцати трёх с половиной до двадцати четырёх. То есть, чтоб точно пройти по конкурсу с таким аттестатом, Адель должна была получить на вступительных экзаменах в институт все четыре пятёрки, что в принципе было немыслимо. Однако она продолжала вставать в шесть утра и повторять, повторять, повторять… чтоб получить все четыре «пятёрки»…
Документы принимали до конца июля, а экзамены начинались в августе. Мама решила, что Адель с папой поедут, как вся элита Города, в Россию сдавать документы за две недели до экзаменов. Посему Адель сидела, бубнила, что-то чертила и записывала с одной мыслью: «Какая она, эта самая Россия? Интересно: как все вокруг говорят только по-русски? Какие они, эти самые русские? Мама говорит, что они пьяницы и женщины и мужчины. А по-моему, – рассуждала Адель, – они должны быть красивыми. У них светлые волосы и белая кожа. И глаза, если верить писателям, голубые. Интересно до ужаса: как они одеваются? Что едят?» Это предчувствие чего-то нового, каких-то изменений в жизни вселяли в Адель надежды и радость открытий чего-то совершенно нового, незнакомого и очень желанного. Столько о себе, наверное, не знали даже сами русские. Она прочла дома всю библиотеку и с удивлением убедилась, что кроме русской классической литературы её больше не интересует никакая другая, особенно переводы с иностранного. Если б она не была комсомолкой и верила в бессмертие души или реинкарнацию, то с уверенностью могла сказать, что в прошлой жизни она точно была русской! «Пьяницей» или «рожала без мужа», но всё равно русской. Больше всего сейчас ей хотелось увидеть настоящие живые берёзы и васильки – это, говорят, самые распространённые растения в России. Она тосковала по веточкам с серёжками, как если б слизывала с них капельки дождя всё своё такое замечательное и любимое детство. А у них в Городе вдоль улиц росла только акация, от запаха которой у Аделаиды раскалывалась голова, а босоногие соседские дети во дворе с удовольствием ели бело-жёлтые цветы.
Приближалась Олимпиада. Вся страна считала дни до её открытия. По всем каналам и республиканского и центрального телевидения вещали только о ней. Показывали, как тренируются наши сборные и брали интервью у спортсменов. Адель всё ждала, когда покажут олимпийскую сборную по плаванию. Сёма уже несколько лет был в Олимпийском резерве СССР, а теперь, когда официально вошёл в «десятку союза», день и ночь готовился к самым крупным соревнованиям на планете. Дома он теперь вообще не появлялся, только звонил иногда. Хоть Сёма и объяснил сестре популярно, что его жизнь – это его жизнь и Аделаиде нет в ней места, но это был её брат, и ей, конечно же, страстно хотелось увидеть его по телевизору. И чтоб весь Город увидел. Даже не потому, что в Городе все знали, что она – Сёмына сестра, вот самой очень хотелось! Вот сидит она перед их домашним чёрно-белым «Горизонтом» на космических ножках, а там на экране Семён рассекает в фирменных плавках «Арена»!
До этого из их республики ездили в составе сборной по плаванию на Олимпиаду в Монреаль два человека – Омельченко и Кушпилёв. Их фотографии висели во всех спорткомплексах рядом с их тренерами. Они были гордостью республики, и народ знал своих героев в лицо. В истории Города не было ни одного участника Олимпиады. Если кому сказать, так никто и не поверит, что можно попасть на Олимпиаду из их задрипанного маленького городка, где никогда не было даже тренажёров. Были длинные, тонкие резинки, которые стоили в аптеке сорок пять копеек пара. Их все покупали и нарезали себе для рогаток. Были верёвки, протянутые через блок с регулироемой натяжкой, заканчивающиеся двумя фанерками. Фанерки надеваешь на кисти и регулируешь в блоке натяжку. Стоя полусогнувшись, можно с меньшим или большим усилием эту верёвку вытягивать то правой, то левой рукой. Вот и вся Олимпийская база Города. И вот теперь все вокруг знали, что сын простого преподавателя физкультуры в школе – Василия Ильича – Семён Лазариди будет представлять Советский Союз на Олимпийских играх! Адель всей поверхностью кожи чувствовала вокруг себя брожение. Ловила взгляды, то любопытные, то косые, то восторженные, то завистливые. Она понимала, что интерес к ней самой утроился, удесятерился, и всё потому, что республика отправляла на Олимпиаду своего спортсмена. О нём говорили, о нём писали в газетах, его имя произносили как давнего знакомого совершенно чужие люди. Точно так же как Омельченко и Кушпилёва.
Папа ходил страшно гордый в приподнятом расположении духа, но бесед о своём сыне и его членстве в сборной не вёл. Казалось – чувства его распирают, но он стесняется их показать, то ли боясь, что ему кто-то скажет, как он любил сам говорить: «Нэ хвастайса!», то ли боясь сглазить. Но было видно, что в его жизни что-то происходит, хотя он всеми силами и пытался это скрыть.
Только мама делала вид, что ей нет никакого дела ни до ваших сборных, ни до дурацких Олимпийских Игр. «Всё, что происходит вокруг – это несерьёзно. Я снисхожу до выслушивания комплиментов в адрес моего сына. Да, он неплохо плавает, но это не даёт вам право считать его вашим спортсменом! „Спортсмен“ – это тупой неудачник, который ничего не добился и поэтому пытается воспользоваться последним шансом – продемонстрировать свои мускулы. А кому нужны эти мускулы, если головы нет на плечах?! Вот, в „Кабачке 13 стульев“ все видели пана Спортсмена? Во-о-о! Что, моего сына так и будут потом дразнить: „Пан Спортсмен! Пан Спортсмен!“. Мой сын будет инженером. Или врачом. Он будет интеллигентным, образованным человеком, который умеет себя „держать“, с которым есть о чём поговорить. Как вы все хорошо устроились! Мой сын, я в него столько вкладывала, а вы пользуетесь чужой вещью. Интересно, а чего вы своих сыновей не гоняете?! Аа-а-а… своих жалко! Мальчик работает на вас не покладая рук! Ну, ладно, пока пользуйтесь! Конечно, если вы сильно попросите, я наверное отпущу его на Олимпийские Игры.» Когда маму кто-то из знакомых останавливал на улице и начинал поздравлять, она, снисходительно улыбаясь, делала брезгливую гримаску и, переходя на доверительный тон, как бы открывала душу:
– Ой, знаешь, меня это соверше-е-ено не интересует! Пусть немного подрыгает ногами, что я могу сделать, если ему нравится купаться? Главное, он по математике в школе очень хорошо идёт. Вот его же месяцами не бывает, он приезжает и Глеб Панфилович говорит – оо-очень хорошо идёт, представляете?!
В то же время – ей льстило такое внимание. Она гордо рассекала по двору и улице, зная, что на неё смотрят и за спиной перешёптываются:
– С кем это ты поздоровалась?
– Это же её сын Семён Лазариди в сборную Союза попал и едет на Олимпийские игры!
Раза два к ним домой приезжали тренеры из Большого Города. Они о чём-то говорили в столовой, но о чём, Адель не слышала.
Мама была очень недовольна! Приезжали, сидели. Во-первых, она их не знает, во вторых – Аделаида за стенкой сейчас явно не уроками занимается: или прислушивается к их разговорам, или читает постороннюю книгу.
На несколько дней приехал Сёма. Адель слышала, как он задумчиво говорил отцу:
Наверное, для нас зафрахтуют отдельный самолёт. Из республики много спортсменов вошло в Сборную Союза. Там штангистов много, борцов…
Ну-у-у, нэ знау, – уклончиво ответил папа.
Сёма улетел. Его, как обычно, никто не провожал.
Адель сидела в своей комнате и в сотый раз читала о млекопитающих в учебнике «Зоология» за шестой класс, когда вошла мама:
Когда Сёмочка прилетит из Ташкента, напомни мне, чтоб я отвела его в парикмахерскую, а то с такими волосами ходит – смотреть страшно!
«Из Ташкента»?! Какого «Ташкента»?! Мам, ты что-то путаешь?! Какой «Ташкент»?! Они же должны лететь на Олимпийские игры!
Ни на какие игры он не улетает! Тоже мне – пришли и в открытую мне заявили: если мы хотим, чтобы наш сын попал в Сборную Союза, надо «им» дать взятку! Деньги попросили, представляешь?! Пользовались, пользовались ребёнком, а теперь ещё взятку просят, у них на него какие-то там «расходы»!
И ты не дала?! – Адель почувствовала, что готова прямо здесь, прямо сейчас придушить свою мать, разодрать ей грудь руками, вырвать сердце и зажать его в ладони, чтоб оно навсегда перестало биться. – Он же всю жизнь просидел в воде! Столько лет работы! Чемпион республики, и теперь – финал! Ты понимаешь, Олимпиада – это финал! Это – подведение итогов! Господи, ну как тебе объяснить?! Ты же всё равно ничего не понимаешь!
Всё я понимаю! Они на моём сыне заработали и имя себе сделали! Вот что я понимаю! Делать мне нечего, деньги я им буду давать! – Мама презрительно пожала плечами. – Зачем мне соревнования, чтоб что-то узнать про своего сына?! Я и так знаю, что мой сын лучше их плавает! Он вообще лучше всех! За что я взятку должна давать?! Кто не умеет плавать – пусть тот и даёт! Какой у него результат? Самый лучший! Ещё этого не хватало: им нужно, а я деньги плати! Вот, полетел в Ташкент на Игры Доброй Воли и ладно! Какая разница: и там бассейн и там бассейн!
Сёма через некоторое время вернулся из Ташкента. Мама отвела его в парикмахерскую, и Сёму коротко постригли. Всё шло, как обычно, по расписанному сценарию. Хотя уроков уже не было, мама с папой пока ходили в школу, потому что у них были педсоветы, составление планов и ещё чего-то. Сёма снова исчез в неизвестном направлении. Адель готовилась к вступительным экзаменам в институт. «Нови год какой празник?! Када хачу – тада празник!»
Олимпиада цвела на экране телевизора всеми возможными чёрно-белыми красками… Адель под стоны и ежедневные «умирания» мамы ухитрилась посмотреть только открытие Олимпиады. Соревнования же посмотреть не удалось. Только по утрам немного, когда у мамы с папой бывал очередной «педсовет». Правда, программу «Время» в доме продолжали уважать несколько больше других программ, папа неизменно, каждый Божий день очень внимательно прослушивал «погоду на завтра», как будто был или геологом, или главным агрономом страны. Именно из этой программы Адель и узнавала об очередном восхождении на пьедестал кого-нибудь из Советской команды. Дни Олимпийских Игр почему-то были для неё какими-то тяжёлыми, словно в ожидании чего-то нехорошего.
Это «нехорошее» имело реальный облик и представлялось ей свинцовой тучей, похожей именно на ту, что закрыла небо, когда она ехала домой из Большого Города после концерта. Сперва задул ветер и начался ураган. Ливень был такой силы, что «дворники» старенького красного «Икаруса» не успевали расчищать воду на стёклах и водитель ничего не видел. С гор стали спускаться селевые потоки, но останавливаться было нельзя, потому что тогда автобус смыло бы в пропасть. «Самое ужасное, – думала потом Адель, – что всё это происходило на участке пути, который лежит мимо кладбища, где похоронен деда. Может быть, там размыло могилы? Или сорвало ограду?» Мама с папой давно не ездили туда посмотреть. Только первые два года, а потом перестали. Мама говорила, что ей «трудно». А сама Адель одна не могла – там очень безлюдно и очень страшно!.. «Нехорошее» должно было произойти то ли с ней, то ли просто должно было произойти.
Адель было душно в квартире, казалось, стены давят её со всех сторон. Так, наверное, человек чувствует себя в склепе. Она постоянно ощущала за спиной присутствие кого-то постороннего, словно была в доме не одна. Адель бестолку шаталась из комнаты в комнату, не способная сосредоточиться. Иногда она доставала из-под газеты, выстилающей ящик письменного стола, совершенно пожелтевшие и ободранные стихи, которые ей подарил Фрукт, но они оказались песнями. Она их знала наизусть, но ей нравилось читать, потому что в тексте были совершенно невозможные знаки препинания, которые не мог бы передать ни один голос, кроме автора. Она доставала розу, засушенную между страниц «Новейшей истории», за что в своё время была жестоко наказана. Мама по своей наивности посчитала, что роза – подарок какого-то «ухажёра», и что Аделаида, мало того, что благосклонно принимает его ухаживания, так ещё и испортила учебник.
Ты не понимаешь! – Кричала тогда мама, – Ты – отвратительная мещанка! Это они сушили цветочки на память и писали в альбомы друг другу всякие глупости: Алая роза упала на грудь Милая Маня меня не забудь!
Моя дочь как настоящая уличная, принимает ухаживания непонятно кого, кого не принимали у меня в доме, и портит учебники! Ты чудовище, Аделаида, чудовище! Посмотри, что ты со мной делаешь, а-а-а!
«Она издевается надо мной, эта сука, – молча думала Аделаида, закусив до крови костяшки на руке, – ничего не видит, или не желает ничего видеть?! Неужели она действительно допускает мысль, что мне какой-то, даже самый захудалый ухажёр может подарить цветок?! Мне, у которой юбки в ширину гораздо больше, чем в длину; которая уже даже не сутулится, а медленно, но верно становится горбатой; мне, у которой на голове волосы растут плохо, зато хорошо бакенбарды и усы; мне – практически бесполому существу; мне – … так можно полдня перечислять! И если даже некий извращенец по непонятной причине взглянет на меня другими глазами, он никогда не посмеет ни подойти ко мне, ни подарить розу, хотя бы потому, что об этом мгновенно узнают все и его засмеют! А мама считает, что заботится о моём „целомудрии“! Да нет на свете такого самца, который без денег согласился бы меня пригласить в кровать!»
Пока Адель слизывала кровь с прокушенных пальцев, отвернувшись к окну, мама схватила розу с ясным намерением громко завыть и, выпучив глаза, раскрошить её прямо на пол, чтоб Адель потом подметала. На Аделаидиных глазах и прямо перед ней же на пол! Этого Адель допустить точно не могла! Она одной рукой мёртвой хваткой вцепилась матери в запястье так, что её собственные пальцы побелели, а второй молниеносно выхватила у мамы самый дорогой подарок в её жизни и неожиданно даже для самой себя, приблизившись к её уху, громко прошипела:
Не твоё собачье дело! Поняла?! Это не «поклонник»! Это не «утрата целомудрия»! Это просто роза! Прос-то ро-за! Две-ток такой! А ты – с-с-ссука, ещё раз схватишь то, что тебе не принадлежит – руки выдерну, или вообще придушу тебя в «твоём же доме»!
– Ва-силий! – застонала мама, схватившись за область сердца и повалившись на Аделаидину кровать.
– Нету твоего Василия дома! – огрызнулась Адель. – Если хочешь, вызову тебе «скорую», а нет, так мне анатомию повторять!
– Хорошо, – тихо проговорила мама, – будь по-твоему, Но имей в виду – как ты ко мне относишься, так и твоя дочь будет к тебе относиться! Это карма!
«Чего это она? – насторожилась Адель. – Она думает, что я замуж хочу, или даже уже беременная?!»
– Ты – сволочь и дрянь, – тихо и ласково продолжала тем временем вещать мама, – ты ничего не понимаешь: ни хорошего, ни плохого. У меня, пока я тебя родила, всё здоровье ушло… Я так хотела доченьку… уколы, уколы, каждый день уколы! Но я на всё была готова ради тебя! Думала, будет доченька – я жизнь ей отдам! Я буду рваться на части для неё! Ты же вот отсюда, отсюда вылезла! – мама стала хватать себя за жировую складку на животе и больно оттягивать её. Заметив, что у неё вышло обескуражить Аделаиду, мама потихонько стала входить в привычное русло: – А-а-а-а! А-а-а! – снова закричала она. – Сейчас уйдёт дыхание, я знаю! Воо-о-от! Уже уходит! Может, оно наконец, вот так в последний раз, и уйдёт! Когда имеешь, сволочь, хорошее – не ценишь! Вот не будет у тебя матери – вспомнишь меня!.. – и мама тоненько зарыдала от жалости и сочувствия к самой себе. – Ну, что такое эта проклятая роза?! Ну, что она такое, чтоб с матерью так поступать?! Разве эта проклятая роза стоила того, чтоб меня убили?! Как будто бриллиантовое ожерелье твоё тронули! И кто, спрашивается? Родная мама! И мачеха меня ненавидела, и ты только смерти моей ждёшь!
Адель как-то сразу растерялась и обмякла. Её вспышки хватило на считанные минуты. Если в первый раз, когда мама произнесла слово «мачеха», она посчитала, что ей показалось, то во второй уже не оставалось никаких сомнений. «Так, значит, всё-таки бабуля ей не мама, – с ужасом думала она, – потому мама говорит о ней „эта женщина“ и что она „погубила их семью“. Значит тогда, когда я была маленькой и догадалась сама, это было правдой. Просто мама не хотела об этом говорить, чтоб меня не расстраивать!»
Теперь Аделаиде многое стало понятно! Стало понятно, что бабуля – мамина мачеха. Ой! Какое страшное слово… Настоящая бабушка, скорее всего, умерла, а деда женился на бабуле. Она, видно, как все мачехи, маму мучила, поэтому папа любит повторять:
– Наша мама балная! У нэво знаешь какое страшное дэтства била?!
– Хотя, почему бабуля «страшная»? С ней всегда, всегда было так замечательно! Тогда – почему маме было плохо? Что она ей такого делала, а меня так любила?
Мама тем временем, передохнув немного и набравшись сил, видно, на этот раз приняла решение вылить всё: