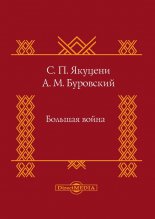Пасынки отца народов. Квадрология. Книга третья. Какого цвета любовь? Будакиду Валида

Он – внутренний голос – вообще в последнее время не обременял её своим присутствием. Он уже не заставлял Аделаиду ни обобщать, ни синтезировать, ни даже вспоминать многое из того, что не считал нужным. Он её держал как бы в непробиваемой оболочке, не способной искренне воспринять ни радость, ни горе, ни красоту. Все чувства стали как бы наполовину и ненадолго. Правда, вот разные уродства возбуждали в ней живейший интерес. Она записалась в городскую библиотеку и стала носить домой медицинскую литературу. Аделаида могла часами рассматривать старые фотографии сиамских близнецов, всяких карликов, мутантов – паноптикумов. Но больше всего ей понравилась большая толстая книга «Судебная медицина» с огромным количеством цветных фотографий трупов и описанием причин, повлекших за собой смерть. Она с удивлением заметила, что именно эти книги ей действительно до безудержу интересны. Она их уже изучила от корки до корки, не пропустив ни строчки, ни слова, и всякий раз, когда хотела отдохнуть и побыть наедине сама с собой, когда ей бывало особенно грустно, она снова и снова возвращалась то к уродцам, то к фотографиям «трупных пятен» разного цвета и «выступившей сетки сосудов»… Так она забывалась и чувствовала полнейшее умиротворение.
«Какая лично тебе разница: почему „первого“ мединститута?! – нагло повторил внутренний голос. – Важно, девушка, что он там, а вы – тут! Он – студент, а вы жаритесь под сентябрьским солнцем в любимом Городе на школьной линейке! Он поедет в колхоз, или в стройотряд, где по вечерам жгут костры и поют под гитару, а вы будете во дворе с соседками учиться натирать кастрюли смесью курьего помёта с песком. И не приедете в больницу к Владимиру Ивановичу побеседовать о „своём о медицинском“ на равных!»
Да. Внутренний голос был жесток, но справедлив!
На самом деле Адель давно поняла, что только в присутствии Владимира Ивановича отрезвляется, в ней начинает брезжить здравый смысл, он заставляет мыслить и думать – этот седоволосый патологоанатом из городского морга. Около него она теряет ощущение времени, пространства. Может, так и должно было быть, потому что Владимир Иванович действительно жил в другом измерении? Он жил сам по себе, между тем миром и этим. У него были не понятные никому жизненные критерии и человеческие ценности. У него был белый шарф, который она так ему и не вернула. Он не был похож ни на кого. Хотя нет, как раз наоборот! Такой знакомый бархатный голос, манера говорить… Они когда-то жили вместе, но потом он куда-то исчез, а она осталась. И то, что Владимир Иванович тогда на Красном Мосту нашёл её в кустах – совсем не случайность… Скорее всего, он вернулся… И вернулся именно тогда, когда ей было особенно плохо! Вернулся, чтоб спасти… А может, он … а может она о нём слишком много вспоминает?! – вдруг сама на себя разозлилась Аделаида. – Что-то там сама себе надумала и распустила сопли? Ой, да в конце концов какая разница, что «может?!». Во-первых – он старый, ему за тридцать, во-вторых – женатый, в-третьих – куча детей, в-четвёртых – он никогда в жизни не посмотрит на Аделаиду! И вообще, что за идиотизм?! Больше нечем занять мозги?!
Но было поздно! Мысли Адель уже побежали в нехорошее, постыдное русло.
Она сама не заметила, когда это произошло впервые. Может быть, после экзамена по русскому письменному, когда она одна плакала в туалете? Именно тогда ей внезапно захотелось увидеть Владимира Ивановича, размазать по его плечу сопли и стоять так, обнявшись и не шевелясь, пока ноги не сведёт судорогой! Ей очень нравилось думать о нём, и Аделаида вдруг поняла, что в своих грёзах об институте она видела не весёлые студенческие годы с дискотеками, а именно конечный результат: диплом и возвращение в Город, который она доселе люто ненавидела и никогда не могла назвать «родным». Раньше она мечтала, как покинет его навсегда, чтоб даже в страшном сне не видеть больше «лисий хвост» с Азотно-тукового завода и не слышать омерзительный голос обладателей спортивных ползунков и громадной кепки: «Дэвушка! Падары мнэ сваё имя!». Теперь же её фантазия рисовала, как она устраивается работать в морге, вместе с Владимиром Ивановичем, и ей больше ничего не надо! Собственно, что именно ей от него было нужно, она бы не смогла объяснить даже самой себе. Но было так приятно, так невообразимо бесподобно о нём вспоминать! Собственно, ничего и не надо! Просто если рядом будет Он, то ничего на свете не страшно и всё будет замечательно. Ей казалось, что от общения с Владимиром Ивановичем вокруг неё возникает невидимая броня. С ним спокойно, уютно и интересно. И никто ей больше не будет нужен: ни какие-то мужья, ни их дети и такой ненавистный, идиотский, проклятый «семейный очаг» со своим не менее омерзительным «домом – полной чашей»! Спасибочки! Насмотрелась она на эту вонючую «чашу» вместе с ёйной «хранительницей»! Одно желание – бежать от всего этого «тихого семейного рая» куда подальше, вместе с его лживостью, показухой, законами приличия, «уважением» к родителям и прочей мерзостью! Хватит ей всего этого! Нет! Только любимая работа и рядом добрый хороший учитель! «Если же всё-таки не учитель, а я в него влюбилась?» – щекотала она сама себя мыслями, втайне наслаждаясь тем, что они нематериальны и о них никогда никто не узнает. «В таких старых и мрачных не влюбляются! Влюбляются в своих ровесников. Тебе шестнадцать, а ему тридцать пять! И потом: чего тебе от него конкретно надо? Чтоб он сидел с тобой и просто разговаривал. Когда влюбляются, то хочется, чтоб поцеловали. Вот тебе хочется, чтоб он тебя поцеловал?» И вдруг к своему страшному стыду Аделаида обнаружила, что ей действительно очень, очень хочется! Безумно хочется! Хочется даже больше всего на свете, чтоб Владимир Иванович её именно поцеловал! Подошёл, просто обнял, положил бы ладонь на её макушку и в щеку поцеловал. Она снова вспомнила его нервные белые пальцы, и почувствовала, как жар приливает к лицу.
«Вляпалась ты, ненормальная!» – крикнул внутренний голос и от этого стало ещё противней.
«Что ж теперь делать?» – думала, стоя на линейке, Аделаида. Она маячила на противоположной стороне совсем одна и уже не слышала ни выступлений, ни пожеланий. Она себя чувствовала чужой на этом празднике жизни; средь бела дня и в толпе народа всеми забытой, никому не нужной. Ещё более ненужной, чем в туалете института, потому что там пока была цель – она должна вернуться в Город. И вот она здесь. И что? Если она сейчас уйдёт, её отсутствия даже никто не заметит! Как можно жить, чтоб тобой никто не интересовался, по тебе никто не скучал? Никто не замечал отсутствия? Никто не переживал? Чтоб хоть кто-нибудь просто подошёл и по-дружески похлопал по плечу: «Не боись! Всё будет в шоколаде! Не вышло? Не беда! Поступишь на следующий год!»
Настроение спустилось до абсолютного нуля по Кельвину. Аделаида пошла домой. Она понимала, что надо срочно что-то делать, чем-то заняться, иначе можно подвинуться рассудком. Может, именно вот такое состояние называется «остаться за бортом», как говорила мама? Но «за бортом» можно свободно парить! А если быстро-быстро махать руками, то даже подняться ввысь, пьянея от солнца и воздушного эфира! Надо устраиваться на работу, зарабатывать «непрерывный стаж», потому что если она опять не поступит, то следующей осенью можно попытаться поступить на подготовительное отделение при институте. Если опять не поступит, то на третий год у неё уже будет стаж, и проходные баллы для неё чуть ниже. А если опять не поступит, то… Я поняла! – она остановилась как вкопанная. – «За бортом» не существует! И «борт» будет всегда и везде, только всё дело в том, нравится он маме или нет! Любопытно, что бы сказала мама, если б познакомилась с тётей Зиной, увидела, как та чистит после кролей навоз голыми руками и кладёт чулки под матрас, при этом её дети учатся в мединституте? А она – Аделаида – её дочь, которая «должна быть ведущей и блестящей», с завтрашнего дня пойдёт устраиваться на работу санитаркой – мыть унитазы и выносить утки, или маляром на стройку, чтоб заработать стаж?»
На следующее утро Адель пошла искать работу. Санитаркой устроиться без блата было невозможно, ибо специальность «санитарка» продолжала возглавлять тройку хит-парадов самых престижных профессий. Эта специальность конкретно говорила о том, что девица в белом халате нараспашку поступает в Мединститут. Не попав в санитарки, Аделаида решила пойти в рабочие на стройку. У них в Городе на стройках работали командировочные или условно осуждённые и кавалеры, и дамы.
По улице, где жила Аделаида, если идти вверх, в аккурат около Вендиспансера было сразу несколько СМУ – строительно-монтажных управлений. Она знала эти вывески с детства, когда ещё ходила в «Пятую школу»…
В СМУ-3 её приняли довольно прилично. Позвали прораба. Явился какой-то лысый, кривоногий дядька с бегающими поросячьими глазками. Он, в упор разглядывая её с головы до ног, словно его жена уехала жить на дачу, дотошно выспрашивал, почему Аделаиде надо работать, есть ли у неё малярный разряд? Она сказала, что нет, на что дядька не расстроился, а сказал «Ничэго! Научиса!». Он пошутил, что она будет самой молодой в бригаде, и велел назавтра прийти с «ацом».
Дома после больших препирательств мама всё-таки согласилась, что если год рабочего стажа приравнивается к двум санитарским, то лучше рабочий, чем санитарский. Просто мама немного расстроилась из-за того, что уже рисовала себе Аделаиду в белом халате, дефилирующей по больнице; приходят разные люди, смотрят на неё… Да кто там знает – врач она или санитарка? У неё же на лбу не написано! Посмотрят, подумают, что врач, будут уважительно относиться… Как там у Гайдара? «Плывут пароходы – привет Мальчишу!.. Летят самолёты – привет Мальчишу! Идут пионеры – салют Мальчишу!»
Ночью Адель долго ворочалась в постели. Она с огромной радостью представляла себе начало новой жизни. Представляла, бегущей в семь утра на объект, в толстой стёганой телогрейке и с бумажным треугольничком на голове. Она с удовольствием мешает раствор, кладёт стенку – кирпичик к кирпичику – красота! Рабочие перекликаются, шутят, подкалывают друг друга. Потом обед, часовой перерыв, и снова за работу! Весело, задорно, всё в удовольствие, и работа и отдых! В общем, именно так, как показывали комсомольские стройки в кино «за жизнь».
Утром по дороге на работу папа с Адель зашли в СМУ-3. Вчерашний лысый дядька по кличке «прораб» оказался на месте. Он поговорил с папой. Прораб загружал, загружал, папа всё кивал, кивал. Потом лысый отправил их в Отдел кадров, открывать трудовую книжку. В ней аккуратно вывели: «Маляр третьего разряда». У Аделаиды внутри от радости всё ухало и пело! Завтра она может выходить на работу. Как раз коричневые штаны, которые она себе шила, уже сильно протёрлись между ногами. Туда вполне можно поставить латку и надеть. А сверху надо что-нибудь сообразить тёмное.
– Ты иды там падажды, – повернулся Прораб к Адель, когда они с папой были уже в дверях, – мнэ нада ацу сказат секрет, харашо?
– Что ж не хорошо? Сколько хотите!
Папа вышел буквально через минуту и весело зашагал в сторону школы.
– Паслушай мне, – сказал он, – эта дядя открыл тэбэ трудовую книжку, чтоб у тэбя бил стаж. Тэбэ на работу хадит не надо. Сиди дома, занимайса, пиши, читай. Он будэт получат тваю зарплату, а ты для института стаж! Харашо?
– Не «хорошо», а потрясающе! Сколько ж можно «занымаца»?! Ведь человек ещё чем-то жив, кроме занятий?! Он должен откуда-то черпать энергию! Его что-то должно вдохновлять. И необязательно, чтоб это были подвиги ратные, а просто, просто интерес к жизни! Какое-то увлечение, любовь к чему-то, или любовь кого-то; какое-то хобби, друзья, в конце концов, собаки, кошки, куры, морские свинки! Ведь невозможно чувствовать себя в полнейшей изоляции от мира, принадлежащей, как туфель, или как кран на кухне, своим родителям! То, что они собираются сделать, посадить её на весь год дома, вплоть до следующих вступительных экзаменов – это уже не тотальный контроль, а полное незаконное лишение свободы! Кажется, есть даже такая статья в УК СССР. Мама и папа желают жить её жизнью. Они желают всё знать, всё видеть, всё контролировать; они должны мыслить её мыслями, есть её желудком и в целом – быть ею! И это так страшно! Ведь каждый человек должен принадлежать сам себе. На это мама молча кивает, а потом несчастным голосом соглашается: «Да! Мы плохие родители! Да! Не пьём, не курим, не гуляем! Всю жизнь вам отдали! Спасибо, Аделаидочка, спасибо, детка! Дай бог, чтоб у тебя такая же дочь была! Тогда ты поймёшь, что такое горе! Тогда поймёшь! Мы для вас наизнанку выворачиваемся, а ты мне претензии предъявляешь! Спасибо тебе! Спасибо за всё, доченька моя родная!» И эта раз за разом повторяющаяся картина выглядит столь омерзительно, что Аделаиде гораздо спокойней тупо заткнуться и молчать. Что она и делает. После жутчайшего фиаско с поступлением она себя чувствует настолько раздавленной и настолько виноватой, что при воспоминаниях о том, как она себя вела по отношению к ним и в целом ко всем окружающим, при воспоминаниях о вакханалии безумия, когда она, заявляя о себе как о личности, пошила брюки и обрилась наголо, ей становится ужасно стыдно! Она даже не верит, что это была она.
Но и так жить на коротком мамином поводке тоже невозможно! Можно неделю, месяц, но не больше! Невозможно хотя бы и потому, что ей давно нужны какие-то карманные деньги! У неё появились свои всякие нужды, например, крем от прыщей. Да, его недавно «на руках» продавала новая соседка. Та, которая уже научилась натирать кастрюли и щёлкать во дворе в тазике зелёную фасоль, родила девочку, и теперь, плотно утвердившись в своём жизненном пространстве, продавала соседкам разные штучки-дрючки: разноцветные прищепки для белья, немецкие лосьоны для укрепления волос, помазки для бритья. Деньги Аделаиде нужны были и на «отрезы», из которых, чтоб не остаться совсем голой, она продолжала тайно по ночам шить себе обновки.
Мама последнее время повадилась месяцами сидеть на «больничном». Если она в прошлом году по две недели возлежала с «приступом», то в этом, зная, что Адель больше не посещает школу, она вообще на работу не хочет выходить! Конечно, Адель страшно жалела маму, понимала, что мама больная и немного вспыльчивая, потому что у неё-то самой не было мамы! Разве можно назвать «жизнью» существование с мачехой и знать, что родная мать тебя в трёхлетием возрасте бросила и ушла к другому мужчине?! Да ещё, может быть, и живёт эта зараза где-то припеваючи, совершенно не вспоминая о своём брошенном ребёнке. Это ужас! Маму, наверное, недоласкали, недолюбили. Аделаиде было ещё и очень стыдно перед ней, она, конечно, понимала, что она перед мамой в долгу неоплаченном, что мама так сильно болеет из-за неё, из-за того, что очень хотела иметь детей, долго лечилась, и из-за неё, из-за Аделаиды ей всё время делали уколы, уколы, уколы… Но иногда наступали моменты, когда Адель чувствовала, что просто теряет над собой контроль. Тогда ей хотелось, как папа в приступе воспитательного неистовства ей советовал:
Вазми адын раз палку, бей па галаве, убей! Зачэм мучаэш бедную женщину!
Адель шагала рядом с папой из СМУ, стараясь не показывать своего дикого отчаяния. Ей хотелось наброситься на папу с кулаками, вцепиться ему в волосы, покусать, расцарапать его ногтями или сделать из него чучело и поставить рядом с Птичкой, у которого рот похож на красную присоску. Минут через пять, чувствуя, что сейчас что-то произойдёт, она соврала папе, что ей что-то срочно надо и она не может идти с ним на почту, развернулась и быстро пошла домой.
В тот же день Адель вычитала в «Справочнике для поступающих в вузы», что на подготовительное отделение, оказывается, принимаются и документы с трудовым стажем работы на почте в один год. Какая связь была между почтой и врачебным дипломом, понять было невозможно, важна была суть, а не дело.
Почтовое отделение находилось всего в пяти минутах ходьбы от дому. Два дня она готовилась к разговору. Приводила сама себе возможные вопросы со стороны родителей и варианты ответов. Как-то вечером она произнесла:
– Мам, а почему бы мне не поработать на почте?
– Ямщикоо-ом? – Не желая скрывать ни своего раздражения, ни разочарования, протянула мама.
– Да! Чтоб быть молодым и иметь силёнку!
– Тебе смешно? А мне печально…
– Нет, не смешно, – Адель сделала вид, что не поняла сарказма, – работать на почте почтальоном. Представляешь, стаж на почте приравнивается к рабочему. Я же не могу не приносить в дом деньги?
Вообще-то тебе уже пора самой зарабатывать, а то я устала платить за тебя репетиторам!.. Вся моя зарплата уходит на твоё обучение! Ты живёшь на всём готовом. Хорошо! Можно узнать… Будешь отдавать мне деньги, я буду свои добавлять и платить твоим репетиторам.
Так Аделаиде открыли вторую Трудовую Книжку, и она устроилась служить почтальоном.
Руки в первый же день превратились в чёрные грабли. От расфасовки газет кожа на пальцах стала чёрной и горела, а вокруг ногтей образовались глубокие заусеницы. Стоять было тяжело, но сидеть дома ещё тяжелее. У каждого почтальона, оказывается, был свой, закреплённый за ним, район и журнал со списками жильцов и их подпиской. Пачки газет лежали на столе, надо было переворачивать страницы журнала, смотреть, кто что выписывает, выбирать из общих стопок и складывать всё это сперва друг в друга, а потом в общую кучу. Пакеты на многоэтажный дом получались довольно внушительными. Их надо было перевязать крест-накрест бечёвкой и загрузить в специально нанятые для этого такси.
Аделаиде не было неудобно за то, что её кто-то из знакомых может увидеть с «толстой сумкой на ремне, с цифрой „пять“ на медной бляшке, в синей форменой фуражке»… На самом дела – никакой фуражки у неё не было. И одежда была самая обычная, её собственная. Только невозможно было надеть никакую обувь даже с малейшим намёком на каблучок. Уже через час туфли хотелось содрать с себя вместе с ногами. И что тут такого, что её увидят в старушачьих галошах и тюком газет наперевес? «Ну, увидят, да и увидят! – думала она, распихивая газеты по почтовым ящикам с номерами квартир. – Зря мама так переживает! Чего мне, собственно, должно быть не по себе? Я что, голая хожу, что ли? По любому весь I ород знает, что я не поступила. Я не „выбрала профессию почтальона“, как выразилась мама Пашеньки Середы, стоило ей только узнать о моём новом амплуа, а зарабатываю рабочий стаж для института! Я хочу работать патологоанатомом! Там вечные Мир и Покой».
Утро в бегах проходило мгновенно. Старые «ямщики» сортировали в сто раз быстрее Аделаиды, и она постоянно выезжала на раздачу последней. Она и на раздаче не особенно торопилась. Медленно и важно разносила свои газеты и письма со скоростью червяка в летнем заморе, топталась, засматривалась на разную дребедень. Одним словом, не спешила, не суетилась и была абсолютно счастлива даже с шершавыми и чёрными от краски пальцами.
Однажды, когда она одной рукой удерживала огромную кипу газет, а второй пыталась запихнуть в погнутый ящик почтовую открытку, её окликнула незнакомая голубоглазая женщина с первого этажа. Она забрала у Аделаиды открытку:
– Постой секундочку! Это мне! Это моя открытка. Не надо её туда опускать. О! Смотри – поздравление с Днём рождения! Кто это меня вспомнил, а-а-а? Ну-ка – ну-ка… А ты не уходи, погоди немного! Я сейчас! – улыбаясь и скользя глазами по тексту, сказала незнакомка. Дверь квартиры осталась приоткрытой, и было видно, как она что-то хватает, потом снова бросает и ходит по кухне. «Вот как человеку не понятно, что я и огромный тюк газет держу в руках и дальше идти тороплюсь! Чего от меня может быть надо?» – Аделаида послушно стояла и строила сама себе рожи, то втягивая щёки, то снова надувая их.
– Вот, это тебе! – Женщина протягивала ей свёрток, из которого тут же очень аппетитно запахло на весь подъезд. – Мне сын открыточку прислал, представляешь! Не забыл, что у меня скоро юбилей. Он у меня далеко-о-о учится. Уже на третий курс перешёл! Вот он у меня какой! Ты, наверное, куда-то не поступила и зарабатываешь стаж? Ничего, не расстраивайся! Мой тоже только со второго раза прошёл по конкурсу! Хорошо, что в армию не забрали! Он на год раньше в школу пошёл, потому и повезло. А это, – женщина весело кивнула на пакет, – я только что рулет испекла и печенье. ГЪрячие ещё! Муж на работе, я тут одна, а поговорить-то хочется-я-я-я! – и она, смешно сморщив нос, засмеялась.
Хорошо её детям! Это ж она по ним скучает, печёт печенья, пирожки и угощает всех, кто придёт? От того, что дети уехали, не рвёт на себе блузу и не требует благим матом «воздух». Желание – постоянно видеть своих детей – говорит о том, что мама их любит. А эта женщина даже голову не перевязывает, чтоб показать, как она у неё болит, даже в доме «валерианкой» не пахнет! Сидит себе одна и развлекается тем, что печёт! Эта женщина оставила дверь открытой неизвестно перед кем. Она, как ни странно, не подумала, что Адель воровка и прикрывается газетами… Странная такая женщина…
Адель с тоской вспомнила произошедший совсем недавно случай с папой.
Над ними, на втором этаже, поселилась переехавшая из Большого Города семья «курдов». Их было неимоверное количество и всё равно они неплохо умещались. С некоторых пор к «курдам» сверху зачастила ещё и молодая, симпатичная девушка. Придёт, побудет полчаса и уходит. Мама с папой никогда не упускали случая, фыркнув, демонстративно плюнуть в её сторону. Аделаида вообще не могла понять, чего мама с папой так бурно реагируют на очередное посещение этой молодой особой развесёлых «курдов». Так продолжалось довольно долго, пока папа один раз, не выдержав, Аделаиде в назидание произнёс целую витиеватую, но чрезвычайно прочувствованную и поучительную речь:
– Тьфу! Пасматри на нэво! Вот шансонэтка! Адэваэця чиста, прилична, а сам в нэдэлю два раза к курдам дамой ходыт! Нэужэли эво радитэли не видат гдэ эво дочка гуляэт?! И не стидна?! Ещё куда-куда? – к курдам пашла! Тьфу! Шансанэтка какой!
– Папа, это наш новый участковый педиатр! – Адель просто обалдела и даже не успела разозлиться. – У них новорождённый ребёнок, который всё время болеет!
– Э! Тагда зачэм нармални рибёнок далжна балет?! Какой эво время балет?! – теперь пришло время удивляться папе. – Эсли балеет – пуст балницу лажица! Зачем она дамой идот? Значит – иму тоже нравица!
– Это я к тому, что ты, не зная человека, назвал её «шансонеткой»! Почему «нравится»?! Она же врач! Её советское здравохранение послало на участок – вот она и ходит! А я хожу по подъездам, газеты раздаю, если кто про меня будет так говорить – тебе будет приятно?
– Ну, что ты гавариш, мамам-джан?! – папа аж растрогался! Он резко отшатнулся от Адель. – Гдэ она, гдэ ти! Она же тваево нагтя нэ стоит! Я же знаю, что ти – кристаллическая девучка! (Я же знаю, что ты кристальной чистоты девочка!)
– О! Как ей захотелось сотворить хоть какое-нибудь преступление, чтоб потоптать зону и потом, «откинушись», вернуться оттуда через год в сером тряпье, обритой «на лысо» головой, хоть женщин, говорят, в зоне и не бреют. Или попасть на мужскую зону, честно обслужить всех уголовников по высшему разряду, удовлетворив все их открытые и сокровенные желания! Вернуться во двор. Вернуться в дом к маме и папе. Снова жить с ними и отращивать новые волосы… Ей надо увидеть обезумевшие выражение лиц своего «аца» и «матэри», пытающихся «бэжат ат пазора»! С каким наслаждением она бы скинула с себя зековскую телогрейку и, поставив брезентовый вещмешок на пол, сказала:
– Ну, что, шнурки! Налейте дочери стопарик с дороги! Я откинулася, какой базар-вокзал?
«Ну, почему, почему всё так?! – она билась головой об Китайскую стену самоуверенного нарциссизма родителей, таких противоположно разных и в то же времени совершенно одинаковых в основных вопросах. Как лёд и пар – разные по виду, но с одной и той же формулой обычной жидкой воды!
Адель целое утро так и протаскала с собой гостинчик вместе с газетными стопками. Было, конечно, неудобно раздавать газеты, но и страшно приятно, что вот она принесёт домой угощение, ну, вроде как «принесла с работы», мама с папой обрадуются, будет весело. Потом можно с чаем всё это попробовать.
Адель ввалилась в квартиру около трёх часов дня, счастливая и довольная:
– Вот, что мне на участке подарили, то есть угостили, – поправилась тут же она. Мама не любила неточностей и обязательно бы ей сделала замечание.
– Что это? Покажи-и-и, – мама оттянула край целлофанового пакетика и заглянула внутрь. Рулет и печенье были завёрнуты в матовую кальку, но по сильному аромату ванили вполне можно было догадаться о содержимом.
– Это что? – мама пальцем оттопыривала одну ручку пакета.
– Это меня одна женщина угостила на участке, – повторила Аделаида, с гордостью произнеся слово «участок».
Мама, подняв верхнюю губу и выставив подбородок, прикрыла глаза. Она с горечью отвернулась от пакета, всей позой выказывая презрение к происходящему:
– Во-первых, я тебя предупреждала: никогда у чужих людей ничего не брать! – устало произнесла она. – Во-вторых – я брезгую, понимаешь?! Откуда я знаю – как она это готовила? Может, она голову свою чесала, в туалет ходила и тесто месила! В-третьих – зачем это она тебе дала?! Ты не подумала об этом?! Может, у неё есть великовозрастный сын?!
– Да… у неё есть сын…
– Ну, вот видишь! Я всегда права!
– Сын – студент… он здесь не живёт… – Адель уже лепетала что-то несуразное.
– Какая разница – где он живёт?! Какая разница, я тебя спрашиваю?!
– Ни… никакая…
– Ну вот! Ну вот! Ты такая наивная… Что я говорила?! Ты всё ещё не поняла?!. – мама как то резко осеклась. – А в-четвёртых… а в-четвёртых… – она внезапно негромко всхлипнула и тут же зарыдала в полный голос: – А-а-а-а! Не об этом я для тебя мечтала, девочка моя-я-я! Я мечтала, как ты будешь студенткой, потом врачом, люди будут приходить к тебе на приём, стучаться в твой кабинет… А вместо этого всего… а-а-а-а… а-а-а-а… какие-то подачки тебе бросают! Как дворняге кость! Ты не поняла, что эта женщина хотела оскорбить тебя, унизить, показать тебе, насколько она выше! Прости меня! Прости меня, доченька Аделаидочка…
Адель насторожилась…
– Прости меня доченька Аделаидочка, за то, что я не уберегла тебя!
«Ничего себе заявочки! Такого маман ещё не выдавала! Да чего орать-то?! Я что, померла, что ли?!»
А-а-а! – Мама рухнула на диван, корчась в судорогах, закрывая лицо руками. Папа выскочил на кухню ставить чайник для маминого «плохо», Адель молча вышла из комнаты и, спустившись вниз по лестнице во двор, не разворачивая пакета, запихала его в мусорный ящик. Чем расстраивать маму, да лучше сто лет всё это не попробовать!
Больше она никогда домой ничего не носила. Так ей больше ничего и не давали.
Через месяц выплатили первую получку – 110 рублей с какими-то копейками. Но, по Аделаидиным подсчётам, денег должно было быть немного больше. Она пошла в бухгалтерию и сама, как взрослый человек, попросила показать ей бумажку, где написаны все её вычеты. Вычетов оказалось достаточно. Особенно её удивил «За бездетность». «Это за какую ещё „бездетность“? – прикидывала она. – Неужели, если человек болен и не может иметь детей, у него ещё надо вычитывать деньги из зарплаты?! У него и так горе, и так проблемы, так нет! Надо ещё ему об этом постоянно напоминать! А какая „бездетность“ у меня? Я вообще не замужем, откуда у меня могут быть дети? Я по закону и замуж выйти не могу, потому как мне всего шестнадцать лет, а по нашему советскому законодательству замуж можно выходить с восемнадцати! Какое-то несоответствие получается! Пусть мне вернут мои деньги!». Она, написав гневное заявление на имя директора почты, устроила разборку. И деньги действительно вернули! Это были шесть рублей восемьдесят копеек! Адель почувствовала себя очень взрослой, серьёзной и безмерно богатой. Кто такие владельцы автоконцерна «Рено» на её фоне?! Жалкие скоморохи и убогие ничтожества! Они не смогли бы почувствовать даже сотой доли блаженства, обуявшего всё её существо, булькающего, урчащего, перекатывающегося в кишках и, казалось, готового вырваться наружу, разорвав её на миллион маленьких Аделаидочек. «Так: НО рубчиков я отдаю маме, мелочь оставляю себе, а на шесть рублей куплю чего душа пожелает!».
Ох чего и сколько желала душа!
После работы она первым делом понеслась в «Подарочный» магазин. Душа металась и никак не могла выбрать, чего именно она желает, точнее – рвалась на части между шёлковой комбинашкой для мамы и комплекта нижнего белья… тоже для мамы. Адель выбрала первое – голубую с кружевами по подолу и на груди. Она неслась домой, прижимая одной рукой карман с зарплатой, чтоб не дай Господь деньги не выскочили и не потерялись, а второй размахивая шёлковым счастьем, завёрнутым в газету, всё именно так, как «сервировали» в магазине. С гордостью выложив на стол перед мамой деньги, она сделала хитрющее лицо и вытащила из-за спины свёрток.
– Это что? – Сказала мама и, двумя пальцами правой руки прихватив кончик газеты, начала её трясти, ожидая, что бумага развернётся и на стол выпадет начинка. Начинка наконец выпала.
– Это что? – Повторила мама.
– Это тебе комбинашка! – Адель всё ещё сияла как знаменитые натёртые дворовые кастрюльки.
– Чья?
– Твоя!
– Зачем?
– Просто так! Подарок!
– Какая ты барахольщица, Аделаида! Как ты любишь деньги на ветер выбрасывать, а! Туда, сюда, всё разбрасываешь! Ну, зачем ты это купила? Была необходимость? Я сколько раз тебе говорила: собирай деньги, а потом купи что-нибудь ха-а-арошее!.. – мама так любила произносить это слово, растягивая букву «о» в невозможно омерзительное и длинное «а-а-а». – А, это что?! К чему это? Тряпка и всё! Э-эх! Ничто тебя не исправит! Так и останешься мещанкой! Давай уж, давай, жри и садись заниматься! Горбатого могила исправит! Сколько ты заплатила? Шесть рублей? Вот: шесть и ещё четыре – уже десять! Десять – это полмесяца занятий у Мариванны! Ладно! – вдруг уступила мама. – Чёрт с тобой! Поноси сперва ты, потом мне отдашь!
Адель была реально зомбирована своим «исправлением» и «становлением на ноги». Замечаний она получала всё больше и больше. Что-то с ней явно происходило. Ей часто становилось скучно. Она ни на чём не могла сосредоточиться, ни на хорошей книге, ни на фильме. Не могла расслабиться, получить удовольствия; если она лежала в ванне, то больше двух минут не вытягивала. Она быстренько вставала, мылась и вылезала, как будто куда-то могла опоздать; арии из опер ей стали казаться оглушительным визгом; выступление симфонического оркестра – апробацией крепости её нервов. Если даже она слушала пластинку с любимым певцом, не могла дождаться конца песни, ей не терпелось узнать, какая следующая, она переставляла иголку проигрывателя и так в течение пяти минут заканчивала всю «прослушку». Просматривая фильм, Адель не наслаждалась больше игрой актёров, а просто старалась не терять сюжетную линию и ждала «чем закончится»; в больших толстых книгах, которые Адель раньше так любила читать, пропускала целые «неинтересные главы», вычитывая только куски с «моментами», позже эти книги вообще сменились маленькими рассказами, и чем меньше, тем лучше; она даже перестала «виазат», потому, что больше двух рядов у неё из-под спиц не выходило, нитки путались, пальцы не слушались. Казалось, в неё вселился какой-то ненасытный зверь, который пожирал её изнутри, не давая жить. Её ничего не радовало, ничего не огорчало. «Без местной прописки мне поступление в институт не светит, – с тоской рассуждала она про себя, – при таких крутых „способностях“, как у меня, да на фоне „матэматичэской галавы“, с аттестатом в четыре с половиной балла я могу проскользнуть в Мединститут максимум как „стажница“, отработавшая два года санитаркой, с местной пропиской. И всё. По-другому навряд ли что получится. Но как прописаться в чужом городе, в чужой квартире? Человек, чтоб его прописали, должен быть членом семьи. Многие делают фиктивный брак. То есть – договариваются с кем-то, платят ему деньги, расписываются в ЗАГСе и тогда обязаны его прописать по новому месту жительства, то есть – у супруга».
Адель долго думала о себе, о своих «баллах», негустых способностях, прописках и пришла к интереным выводам… Вот она прописана в квартире родителей в двадцати пяти километрах от Большого Города. Да, там есть медицинский институт, но он на национальном языке! Аделаида говорит на нём, но этого совершенно недостаточно, ни чтоб поступить, ни чтоб учиться. Надо владеть терминологией и суметь для начала сдать вступительные экзамены. Так ведь потом и учиться надо! Это типа – половину понял, о второй половине догадывайся? Так это ещё что! Ведь на курсе будут эти, «целомудренные» царевны-несмеяны, с юбками до земли и продолговатым выражением овечьих лиц! Именно те, которые делают криминальные аборты у акушерок на дому или рожают у себя в подвалах. И с кем там общаться? Это тебе не выпускницы русских школ, и не те, которые с ней сдавали вступительные экзамены с распущенными волосами и в джинсах, с которыми всё просто и понятно. Это параллельные миры, о которых принято говорить «братские народы» лишь до тех пор, пока они не пересекаются. И не дай бог, чтоб они пересеклись! Томные девицы из национального института никогда не осмелятся поднять взор и рассказать всё, о чём мечтали и что уже успели претворить в жизнь. Значит, стать членом «параллельного мира» в местном Мединституте ей не удастся!
Хорошо, что мама была не в курсе, какая чепуха занимает Аделькину башку! Она бы просто не поняла, о чём идёт речь. А вот если б поняла-а-а…
Мам! – Однажды Адель всё таки решила серьёзно поговорить. А что? Если после объяснений директор почты вернул деньги «за бездетность», то почему бы ей не объясниться с родной мамой? – Мам, понимешь, в том городе, где я буду поступать, мне нужно сделать прописку, чтоб я шла как местная. Иногородним там точно ничего не светит. Мне это совершенно официально сообщил на экзамене по «русскому» один преподаватель.
Что за чушь?! – взмутилась мама. – Это что за нацизм?! А ты не могла ему сказать, что твоя Родина Советский Союз!
Сказала, конечно, но он сказал, что приезжают иногородние заканчивают институт и не хотят ехать по распределению и…
А ты скажи, что поедешь по распределению! До него ещё далеко! Поживём, увидим, скажи, что будем делать!
И где это всё говорить члену приёмной комиссии? Прямо на вступительном экзамене?
Ну-уу… при чём здесь это?! Если они увидели, что ты плохая ученица, то кто тебе скажет: «Добро пожаловать!»? Конечно, такой как ты и прописки нужны, и приписки и вообще все отговорки, какие существуют на свете! – мама всегда всем умела разъяснить ситуацию. – И потом – кому ты, скажи, нужна, чтоб тебя прописывали?!
Она сделала вид, что не заметила маминой иронии:
Надо сделать фиктивный брак, прописаться в том городе, или даже в селе, лишь бы этого Края, а потом этот фиктивный брак расторгнуть!
– Да что ты говори-и-ишь?! – мамины глазки стала как щёлочки и полумесяцем. – И за кого ты собралась фиктивно выходи-и-ить? У тебя есть кто-то на примее-е-те?
– На какой примете? – Адель опешила, приняв мамин вопрос за чистую монету. – Откуда у меня «примета»? Просто надо найти неженатого мужчину в том городе, куда я поеду, и договориться с ним. А потом развестись…
– Да-а-а?! – Маме начала нравиться дискуссия. – Этот мужчина, конечно, согласится, что он, дурак, что ли, и спросит: «Де-е-вочка! А что ты мне за это дашь?» А ты скажешь: «Всё, что хочешь, дяденька!» – пропищала мама, как бы передразнивая Аделаиду, хотя у Аделаиды всегда был низкий, хрипловатый голос.
– При чём здесь «дашь»?! Если б ты видела, какие там, в этой России живут красивые женщины, ты бы, мама, вообще не думала про «это»!
– Да! Красивые и все бл. ди! – тут уж мама решила не сдерживать чувства и сказать всё, что столько лет думала о русских женщинах. – И бабка твоя бл. дь, и все русские – бл. и! А тут он увидит хорошую, чистую девочку…
– Мама!!!! Вообще-то обе стороны сразу договариваются о деньгах!
– Кому нужны твои деньги?! – Мама уже почти не владела собой. – Какие «деньги», я тебя спрашиваю?! Распишешься с незнакомым мужиком, он потом разводиться не захочет! Посмотрит на тебя и скажет: «Не нужны мне твои деньги, ты моя жена и давай ложись со мной в кровать!». Что ты потом будешь делать?! Скажешь: «Нет!». Не имеешь права! Значит, ляжешь с ним в кровать! А если весь Город про тебя будет говорить: «Она уже была замужем!» – Тебе приятно будет?! Приятно?! Иди потом рассказывай и доказывай всем, что брак был, как ты говоришь, «фик-ци-я», и он тебя не тронул!
Мама и говорила, и говорила, и не останавливаясь. Казалось, рассуждения на эту тему ей доставляют прямо-таки физическое удовольствие. Она ковырялась в виртуальной интимной жизни «девочки-подростка» и какого-то реально несуществующего «мужчины» с таким азартом, словно ей была близка и интересна тема педофилии.
…приятно будет, я тебя спрашиваю?!
Аделаида хотела пожать плечами и честно сказать, что ей вообще-то всё равно, но, видя бордовое мамино лицо и слюну в углах рта, опустила голову.
А мама продолжала чудить! Очевидно, вычитав в очередном номере журнала «Семья и школа», что «самый опасный возраст – это подростковый», это значало – «упустишь ребёнка однажды, не наверстаешь никогда», или в результате своих каких-то личных умозаключений, она всеми разрешенными и запрещёнными приёмами с девизом: «В праведной борьбе все средства хороши!», старалась «не упустить», «тем бо-о-олее девочку!». Казалось, то ли она мечтает стать Аделаидой, то ли Аделаиду превратить в себя, то ли уже отождествляет эти понятия. Адель понимала, что мама хочет дать ей то, что сама не могла иметь потому, что её воспитывала мачеха.
Когда Адель ела курицу, а ела она хорошо, сжёвывая мякоть, хрящи, суставы, кожу, оставляя гладкие, полированные кости, мама брала кости с её тарелки, запихивала себе в рот и снова их грызла, как будто после Аделаиды на них мог остаться хоть запах мяса! Она догладывала кости, как если б это Аделаида продолжала сама их грызть.
Мама завела манеру ложиться после Аделаиды в её неостывшую кровать, когда она утром уходила на работу. Вылезала из своей кровати и залезала в другой комнате в её.
Не выпускай воду! – кричала она, когда Аделаида купалась в ванной. – Я лягу в твою воду!
«Зачем она это делает?! – просто сходила с ума Адель. – Может, очень меня любит и хочет быть поближе ко мне? Это должно быть противно досасывать из чужой тарелки жёванные куриные кости и ложиться в воду, в которую я писала и смывала свою грязь! Вода-то у нас стоит копейки! А газовая колонка вообще бесплатная. Значит, она это делает потому что ей приятно!».
Мама пыталась натянуть на Адель какие-то свои вещи и запретила самой стирать трусы. Все люди вокруг стали ещё «тупее», «наглее» и «уродливей». Одна Адель, несмотря даже на то, что пока не поступила, была «умна и хороша собой». Нет, мама ей об этом, конечно, не говорила! Мама её «держала в строгости», то есть «в ежовых рукавицах», как она любила говорить. Это было само собой разумеющимся в разговорах со знакомыми и малознакомыми, но, конечно, ей на пути к совершенству ещё предстояла «большая над собой работа». Иногда Адель казалось, что мама издевается, а иногда – что не в себе… Хотя как «не в себе»? В школе же работает, детей учит… у неё в классах по тридцать человек…
Глава 19
Вообще-то мысль о стройном стане не то, чтобы периодически посещала Адель, она жила в ней, как может жить внутренняя болезнь. Как малярия, например: её не видно, не слышно два дня, но на третий начинается приступ, потому что она никуда не делась, она просто затаилась, чтоб, сотрясая тело в страшном ознобе и судорогах, в очередной из нескончаемых разов снова заявить о себе.
Раньше, несколько лет назад Адель просто тупо страдала от своего экстерьера. Теперь же это стало чем-то сродни маниакальной идее. Конечно, если фигура
шем восхищении! «Алла, – подумала она, – лучший представитель знаменитой цирковой династии Дуровых!»
Тут ей от восторга на полном серьёзе страшно захотелось посмотреть в глаза великой дрессировщице, сделать для неё что-нибудь, потому как Адель никогда бы даже не смогла себе представить, что хоть кто-то из простых смертных добьётся таких поразительных успехов с постановкой тяжелейших номеров меньше, чем за полгода! Она подняла взгляд и решила прямо взглянуть в зрачки Лифта. Но!.. Так вот, в чём был фокус с позициями и поворотами туловища вокруг своей оси! Оказывается. никакого поражения скелета не было! Прост один глаз смотрел налево, а второй вверх! Тем, который смотрел вверх, Алла, очевидно, не пользовалась. А тот, который смотрел налево, ей приходилось фокусировать так, чтоб в поле зрения попадал хоть кто-нибудь. В данном случае, Адель, потому что все трое – мама, Сёма и Адель сразу не умещались.
Послушайте, женщина! – ожила мама, всё это время находившаяся в состоянии анабиоза. Она на ощупь, не спуская с Аллы агрессивно-озадаченного взгляда, нашла на буфете очки и торжественным движением водрузила их себе на нос.
Обычно это означало, что мама вступает на тропу войны, а с мамой никто не мог сравниться в искусстве диалога. Хотя это так, одно название было «диалог». На самом деле мама после первых же секунд брала инициативу на себя и солировала, давя противника интеллектом, тесня его к стенке и отсекая пути к отступлению. В зависимости от тяжести ситуации в ход могла пойти и тяжёлая артиллерия: высказывания великих; театрально-художественные образы и просто внушение. Обычно эти приёмы действовали безотказно. Через несколько минут противник, теряя одну позицию за другой, дрожа, отступал. Запрещёнными приёмами, такими как падание в обмороки и громогласный поиск «дыхания», мама пользовалась только дома для своих. То есть, когда мама хотела сказать нечто очень весомое или на кого-то произвести должное впечатление, всё начиналось с надевания очков. Сквозь них она, прищурившись, как настоящая аристократка в лорнет, пристально рассматривала оппонента, как бы выразительно давая ему понять, что они в разных весовых категориях.
Лифт, как оказалось, совсем не был осведомлён о маминых повадках! Он терпеливо стоял посреди квартиры, пока мама выразительно смотрела, а Семён мелко-мелко суетился вокруг него, снимая жакетик, шарфик и всё это прилаживал к вешалке.
Мама никак не могла решить что делать. Во-первых, её отвлекал сын. Своими суетливыми движениями он мельтешил перед глазами и напоминал то ли лакея, то ли прош графившегося холопа. Во-вторых, если б сын явился в дом с шестнадцатилетней шавкой, мама бы умело с ней расправилась. «I (очистила» бы, «поставила её на место», потом бы выставила вон. Алла же была довольно пожилой тётенькой, да ещё с проблемами здоровья. Она просто-напросто маму и не видела! Мама, видя, что на Лифт не действуют ни её парадные очки в большой роговой оправе, ни её суровое выражение лица, строго спросила:
Вы бы не могли мне объяснить, что здесь происходит?
«Умная Маркиза», услышав агрессивные нотки в голосе мамы, перестала счастливо стучать об пол хвостом. Она двинула ушами и глухо, угрожающе зарычала.
Маркиза, молчать! – Сёма цыкнул в сторону вальяжно развалившегося на полу породистого пса. – Мам! Ну, что ты! – случайно смахнув букет на пол, резвился Семён. – Ты же совсем Аллочку не знаешь! Я уверен, она тебе понравится, и вы найдёте общий язык! – Он помог Лифту размотать на голове какой-то тюрбан, аккуратно сложил его и положил на полочку для шляп. Алла всё это время, не замечая ни маминых пламенных взглядов, ни Аделькиных любопытных, величественно водрузилась посреди прихожей, позволяя Семёну за собой ухаживать. Она стояла не шевелясь и только грустно выглядывала в кухонное окно. Адель поняла, что Алла внимательно рассматривает их квартиру.
Послушайте, как вас там… Алла! Я, кажется, с вами разговариваю! – мама Сёму не слышала.
А почему со мной? – Алла развела руками. – Меня сюда пригласили. Я здесь никто. Вы все беспокоящие вас вопросы задавайте своему сыну! Он тут главный.
Мне показалось, что вы в достаточно зрелом возрасте и вполне можете отвечать за свои поступки! – Мама не хотела отступать.
Сём! Я что-то не пойму, мы так и будем тут стоять? Ты, Сёмочка, пока с мамой поговори, я пойду, переоденусь с дороги. Сёмик, где тут у вас ванная? И полотенчик мне дай, пожалуйста, моя рыбочка?
Аделаида! – «рыбочка» зыркнула на Адельку строгим взглядом «главного хозяина». – Тебе трудно проводить человека?! Полотенце чистое принеси!
Проводить, надо полагать, в мою комнату? – Адель присела в глубоком реверансе, почти как это делала мама. – Я правильно поняла?
Ты правильно поняла! А куда ещё?! Больше нигде дверей нет, вся квартира как спортзал! Только твоя изнутри запирается. Алле же надо переодеться и отдохнуть с дороги. Может, она захочет вздремнуть!
«Пожалуй, захочет!» – Догадалась Адель.
Проходите, – она сделала жест рукой, приглашая войти Сёмину спутницу, Маркиза шла за ней, нервно принюхиваясь к новым запахам. – Я сейчас свои вещи, которыми не пользуюсь, сложу и уберу подальше. Если вешалки в гардеробе вот так отодвинуть, ваша одежда поместится?
Поместиться-то поместятся… – Носоподобное возвышение над верхней полоской розовой помады обиженно нахмурилось, – пусть пока побудут, потом перевесь куда-нибудь! – Алла внимательно смотрела в окно, это значило, что она сверлит взором Адель. – Як запахам очень чувствительная. Что ни делай, а у каждого человека свой запах и одежда пропитывается. Неприятно. В гардероб нельзя вешать одежду разных людей.
Хорошо, – Адель быстренько перебрала нехитрые пожитки и унесла их в спальню к родителям.
Мама постепенно начала выходить из ступора:
– Что, этот Мурзилка будет жить в моём доме?! – в её голосе зазвучали истерические ноты.
– Маркиза, мама!
– Этот Маркиза будет жить в моём доме?!
Алла ничего не ответила. Она легким шевелением ноги прикрыла дверь.
«Вот как оно в жизни бывает, – думала Адель, – теперь будет жить с семидесятикилограммовой немецкой овчаркой и её хозяйкой под одной крышей. Так захотел сын, который, как выяснилось, „здесь хозяин“. Только почему они приехали в середине года? Если на майские праздники, то на несколько дней такие баулы и собак с собой не тащут. Значит, надольше? Или… или, не приведи Господь, насовсем?! Кем ему приходится Алла? Неужто правда невеста? Чем он её собирается кормить, если нигде не будет работать? Значит, кормить её будут папа с мамой? Тогда получается, что он бросил институт или перевёлся на заочный. И то и другое ужасно, потому что сейчас в мае набор в армию, его заметут только так! Пожилой Лифт будет жить в её комнате и ждать любимого из армии?»
Всё оказалось один в один, как предположила Адель: и поселились они в Аделькиной комнате, и на работу устраиваться Лифт отказался категорически, и подавать заявление в ЗАГС они пошли на следующее же утро, и повестка в армию не заставила себя долго ждать…
Сёме в институте не понравилось. Палочная дисциплина, со вставанием в семь утра, чтоб в восемь пятнадцать быть на занятиях, его раздражала. Там день даже ранней осенью начинался прохладной свежестью. Гораздо приятней было лежать под казённым одеялом в тёплой общаге, потом часов в двенадцать сесть в странном оцепенении на краешек кровати; посидеть так минут десять-пятнадцать, каждый раз как бы задавая себе вопрос: «Где это я? И как же меня угораздило?!»
Неторопливо сунув ноги в тапочки, вяло в одних трусах прошаркать в туалет, распугивая по дороге припозднившихся студенток, заскочивших в комнату на секунду что-то взять. В коридоре обычно было зябко, поэтому умываться было лень. Душевая являла довольно узкий и вечно мокрый закуток. Не было ванны, не было такого размаха, как дома, поэтому Сёма вскоре перестал посещать и душевую кабинку, просто изредка менял нижнее белье. Прежде чем заменить грязные носки на более свежие, легонько потёртые стиральным мылом, он плотно прижимал их к лицу, внимательно внюхиваясь, чтоб убедиться: не рано ли их кидать под кровать, или денёчек-другой можно ещё поносить? И самое главное, не было папы! Папа, пока Сёма жил в Городе, купал его до окончания выпускных школьных экзаменов. Издав какой-то специфический звук, означающий у него приятное ощущение, папа гак и продолжал говорить:
Х-э! Удаволствие палу чаю! – и тёр сыну спинку, ножки…
Самому Сёме купаться было лень. Он и не стал себя утомлять лишними заморочками в виде водных процедур. Только иногда мыл ноги, это уж тогда, когда духан становился невыносимым. Применение любого вида косметики, кроме хозяйственного мыла, для Сёмы было проявлением педерастии, то есть он понимал, что настоящий мужчина никакими дезодорантами и одеколонами пользоваться не может, «это всё придумал Черчилль в восемнадцатом году»! После нелепой процедуры с хозяйственным мылом и поллитровой банкой воды, называемой «бритьём», кожа на его лице становилась похожей на серую наждачную бумагу. Сёма прочно взял за основу жизни слова папы, которого если бы кто-то захотел бы убить, надо было всего-то сбрызнуть одеколоном и надеть на шею галстук. Папа смешно рвал его на себе какими-то спазматическими движениями, как если б это была удавка с виселицы, и неистово кричал:
– Нэт! Нэт! Нэ надо этот!
Папа даже не поздоровался бы с человеком, от которого пахло не так, как должно пахнуть от «настоящего» мужчины. Потому, что это «с гидно».
«Заговоривший с еретиком сам еретик!»
То ли от лени, то ли от скуки, то ли и от того и от другого, Семён сперва перестал мыться, потом ходить на лекции, потом и на практические занятия. Он весь день то лежал в общаге перед телевизором, то, опять же лёжа, медленно перебирал струны на гитаре из соседней комнаты. Когда уж сильно одолев&п голод, он мог сходить в институтскую столовку. Уж тут он себе отказывать не хотел! На первое – борщ, на второе – двойная порция пельменей со сметаной, двухсотграммовый гранёный стакан сметаны с сахаром, компот с пирожным. Уже после Нового года Семёна было очень трудно узнать. Из члена сборной союза по плаванью он превратился в нечто аморфное, начинающее лысеть.
Обзавестись друзья ми тоже не получилось. В его понятии ровесники были очень легкомысленными и скучными. Их плебейские интересы страшно раздражали Сёму и действовали на нервы. Что за кайф: куда-то вечно бежать, где-нибудь вмазать, потом зарулить на дискотеку и скакать там до у тра как козлы?! Или попереться куда-нибудь на шашлык в лес? Опять включить музой и скакать до утра как козлы? Нет, в его родном Городе любили принять на грудь, но мужчины чинно сидели, вели бесконечно долгие, неторопливые беседы. Беседы были неимоверно содержательными и умными, абсолютно всегда заканчивались выяснением отношений и большой дракой. Застолья продолжались не одни сутки, обычно на третий день пили уже из рогов, копыт, цветочных ваз, туфлей, но никто не скакал! Пили с достоинством и без женщин! А это что за глупости: девочки сидят вперемешку с парнями на траве, без всякого стеснения едят, пьют, болтают без умолку, ржут как ненормальные. Они могут влезть в разговор, перебить, даже когда их никто не спрашивает. Они, конечно, симпатичные, но своего места не знают. Когда Сёма впервые увидел на своей будущей сокурснице мини-юбку, он чуть не вызвал наряд милиции, чтоб предупредить смертоубийство!
Эти одногруппники, однокурсники в промежутках между студенческим беспределом ухитрялись ещё и ходить на занятия, сдавать зачёты и коллоквиумы!
До первой же сессии Семёна за многочисленные пропуски и отсутствие зачётов не допустили. До апреля он делал вялые попытки что-либо изменить, но в середине апреля ег о отчислили за неуспеваемость. Однако Сёму эго не очень огорчило! С некоторых пор жизнь его стала насыщенной и полноводной! Он встретил Её!
Общежития политеха стояли практически на самом конце города, и из окон открывался вид на бескрайний заснеженный простор. Это было красиво, но нудно. Расчищенная проезжая часть дороги ночью снова замерзала и казалась зеркально гладкой в свете неоновых ламп. Прохожих здесь практически не было, если только какой заблудший пьяный не сбивался с пути и шёл не в ту с торону, громко напевая про малиновку. Общага была тем конечным пунктом, за которым, казалось, закапчивается жизнь и именно за домами открывается конец света.
Однажды Сёма заметил в окно одинокую, высокую фигурку в джинсах и куртке с капюшоном, неловко уворачивающуюся от порывов ледяного ветра. Она то и дело поправляла на голове вязаную шапочку и хлопала в ладоши, стараясь согреться. Когда Сёма её увидел впервые, то подумал, что это какая-то «испорченная» собралась искать приключения за чертой города, потому что дорога выводит прямо на шоссе. Он не сразу заметил огромную немецкую овчарку, спущенную с поводка и перебегающую от столба к столбу нервными, мелкими перебежками. Внезапно Семён ощутил острую жалость к худенькой, мёрзнущей под хлопьями снега девушке. И такой внутренней гармонией и бескомпромиссно принятым одиночеством повеяло от этого почти детского капюшона с опушкой, что Сёма не удержался и на глаза его навернули слёзы. «Кто она, эта таинственная незнакомка, такая же одинокая, как я? А живёт она одна, несомненно, потому что если б у неё кто-то был, он бы ни за что не позволил девушке в такую погоду на пустыре выгуливать собаку!»
Высокая девушка в джинсах, заправленных в сапоги, появлялась по вечерам на ночном перекрёстке каждый раз в одно и то же время. И каждый раз Семён с интересом наблюдал за ней, согревая стекло своим горячим дыханием. Через несколько дней он уже с полудня ждал вечера, чтоб прильнуть к окну. Однажды ему показалось, что девушка его заметила. Сёма резко отпрянул и выключил свет. Сердце колотилось в груди, как сумасшедшее. Он испугался ещё больше: оно стучит так громко, что девушка может услышать!
На следующий день в то же самое время Сёма осторожно на цыпочках подошёл к окну. Тёмная комната с плотно задёрнутой занавеской не должна была его выдать…
Она уже была там…
Сёме показалось – девушка почувствовала, что он из темноты снова наблюдает за ней. Он взглянул на неё в упор. Их взгляды встретились – её из-под нежно-розовой вязаной шапочки и его, сквозь дырочки в больших цветах тюлевой занавески. Она засмеялась и помахала ему. Тут к ней подбежала огромная немецкая овчарка и девушка, нагнувшись, сняла рукавицу и стала ласково пальцем щекотать ей за ухом.
Весь следующий день Семён не мог сосредоточиться. Прошлой ночью он почувствовал, что их души созданы друг для друга. Иначе как бы она из сотен окон общаги заметила только его?! Как нашла его взгляд своими глазами и улыбнулась ему?!
Все действия Семёна, все помыслы были обращены только к ней – таинственной и нежной незнакомке, такой одинокой и слабой среди обледенелых многоэтажек, такой тоненькой и хрупкой в этом враждебном ей мире! То, что мир враждебен, Сёма не сомневался ни на секунду! Разве он сам не в нём живёт?! Разве он не видит, что все вокруг дешёвки, которые его не понимают, не ценят. Они не стоят его ногтя, как говорил папа, и в то же время всеми силами хотят ему продемонстрировать, что в нём, Семёне, ни капли не нуждаются! Сёма знает – всё это из зависти, им никогда не стать такими, как он. У него «математическая голова», он хорошо играет на гитаре, а они не хотят его слушать. Он прекрасный спортсмен, и никакой роли не играет, что он сейчас не тренируется. Они обязаны уважать его бывшие заслуги! Этим врождённым алкоголикам и порочным девкам по своей тупости и расхлябанности просто не понять, какой у него глубокий внутренний мир. А она на расстоянии в несколько десятков метров всё поняла!
Сёма, вновь не зажигая света, подошёл к окну.
Она была там. Худенькая сутулая фигурка на ледяном ветру…
«Несколько десятков метров! Всего несколько десятков метров отделяют меня от прекрасной незнакомки! – эта мысль поразила Сёму как молния. – Так ведь нет ничего проще, как спуститься и заговорить с ней!» – он одним движением сунул ноги в полусапожки, рванул с вешалки пальто и выскочил в коридор.
Лифт оказался занят. К чёрту лифт! Если б даже бежать нужно было с небоскрёба, Сёма бы побежал. Ведь внизу стояла она – его прекрасный сон, его мечта!
Почему-то о её несоответствии всем критериям порядочности и добродетели Семён в тот момент не думал. О том, что «нормальная», «не испорченная» девушка не может носить обтягивающие брюки, потому что «видны ноги» и вообще всё «выделяется»; не должна одна без родственников среди ночи шататься по улицам и, тем более, торчать под фонарём, где её может увидеть весь город, и что потом «скажут»?! Всё, что воспитывал и прививал ему Город, каким-то странным образом испарилось. Все беседы папы о «харошай дэвучке, которую вазмом» (хорошей девушке, которую возьмём) завалились в мозгу куда-то очень глубоко, в периферийные нервы и там заблокировались.
Он вылетел на мороз. Дверь на тугой пружине жалобно скрипнула и снова захлопнулась с грохотом, подгоняемая и чудом механики и ледяным ветром.
Она стояла всё там же, на перекрёстке и сняв рукавички дышала на свои замёрзшие пальцы, стараясь их отогреть. Сёма даже не подготовил приветственной речи. Он вообще на знал, о чём будет говорить. Он просто шёл к ней, потому что так ему подсказывало сердце. Незнакомка, видно, заметила его, но вдруг сделала вид, что не видит Сёму, и повернулась к нему боком. Сёма слегка опешил, но потом догадался, что это просто женское кокетство. Какая уважающая себя девушка будет смотреть в упор на приближающегося к ней мужчину?!
– Добрый вечер! – Семён остановился в двух метрах от девушки.
– Добрый вечер! – Приветливо ответила она глубоким контральто, не поворачивая головы.
Как Сёме нравились такие голоса! Не визгливые девичьи, легкомысленные и ветреные, а именно такие – знающие себе цену, серьёзные и сдержанные.
– Я увидел вас и подумал…
Настороженное рычание сзади заставило обернуться. Ну, надо же! В порыве чувств Сёма совсем забыл про собаку!
Фу, Маркиза! Свои! Фу! – Томно приказала девушка, даже не взглянув на свою Маркизу. Она так и продолжала стоять боком, стыдливо отворачивая от Семёна своё лицо. Но она улыбалась! А это говорило о том, что его присутствие девушке приятно! Вот только лица её он никак не мог разглядеть. Скверное освещение роняло на него тень от капюшона, который она натянула поверх розовой вязаной шапочки. Из-под шапочки выбивалась густая каштановая чёлка и стрижка «длинное каре». Сёма знал про «каре», потому что в кинокомедии «Кавказская пленница» у главной героини Нины была стрижка «каре» и все девчонки вокруг хотели быть на неё похожи. Кстати, этот фильм всегда будил в Сёме неприятные чувства, потому что он был лживым от начала до конца и не смешным: не мог такой серьёзный и ответственный человек, как товарищ Саахов, родившийся и выросший на Кавказе, хотеть жениться на такой голозадой вертихвостке как Нина – «студентке, комсомолке и просто красавице»! Это неправда! Она в коротких штанах одна лазит по горам, бегает вдоль шоссе, точит лясы с первым встречным, таскается с Шуриком и выделывается перед ним, постоянно скалит зубы, типа улыбается. Если бы даже товарищ Саахов действительно Нину сильно полюбил и хотел жениться, то всё равно бы этого никогда не сделал, потому что он бы опозорил весь свой род, и над ним бы смеялись и всю жизнь за спиной шушукались. Все его друзья и родственники в его отсутствие щипали бы эту Нину за задницу, или делали вид, что с ней случайно столкнулись грудью. И поста бы такого он больше не занимал, потому что потерял свой авторитет! Особенно лживый финал, когда Шурик с друзьями вроде как «защищают честь сестры» и стреляют в Саахова солью, потому как он вроде бы «надругался над честью сестры»! Раньше надо было о «чести» своей сестры думать, когда спала в горах в этом, как его, в вещмешке. Чего только в кино не придумают! Они, её «родственники», на самом деле должны быть по гроб жизни благодарны Саахову зато, что он – порядочный и честный человек, украл эту распутницу, «испорченную» и «гулящую» с целью женитьбы!
Однако… бывает ещё и однако…
Сёма, конечно, всё это мозгами понимал и знал. Он именно это и считал единственно правильным, единственно верным. Но шевелящаяся в порывах ветра опушка капюшона вызывала в нём желание прижать к себе именно эту девушку, защитить от холода, закрыть от огромных мокрых снежинок, так неистово жалящих её лицо и руки…
Так вот я подумал, вы были бы не против, если б я вам составил компанию? А то молодая девушка одна на улице ночью… Мало ли, что может случиться?..
Случиться не может ничего! Сперва посмотрите на мою защитницу, – и девушка кивнула куда-то в сторону автобусной остановки.
«Какая она милая! – Подумал про себя Сёма.
Конечно, конечно! Я совсем не хотел обидеть вашу собаку! Просто к слову пришлось – такая хрупкая девушка… Я понимаю, что вы не одна, просто хотелось бы уточнить: не хотели бы вы взять меня в компанию?
Конечно! Втроём будет веселее! Правда, Маркиза? Кстати, собаку зовут Маркиза. Это мой самый лучший и верный друг. А как зовут вас?
Меня Семён! – Тут Сёма, наплевав на все законы этикета, первым протянул руку. Девушка протянула свою. Озябшую и немного влажную. Тоненькие пальцы надёжно легли в широкую Сёмину ладонь. Несмотря на явное расположение, она продолжала стоять в пол оборота.
Прекрасная незнакомка забыла сказать, как её зовут! Собаку – Маркиза, а вас? – Сёма просто восхищался своим красноречием! Ещё никогда, ни при каких обстоятельствах и знакомствах его речь не лилась таким ажуром. Обычно он отделывался двумя-тремя нечленораздельными фразами и старался поскорее смыться.
Меня зовут Алла, – девушка достала из подмышки поводок и начала его пристёгивать к ошейнику Маркизы. Делала она это словно на ощупь и как-то неумело.
«Алла»? – задумчиво повторил Сёма. – Есть греческое слово «алло», что означает «другой, особенный, непривычный»!
– Надо же! – Обрадовалась девушка. – Так вы говорите по-гречески? – Алла была очень заинтригованна. Ей польстило, что молодой человек, подошедший к ней, знает не какой-нибудь из привычных языков народов и народностей СССР, а заграничный!
– Это громко сказано! – Сёма шутливо поклонился. – Знаю несколько слов и выражений, для себя изучал когда-то.
– Зачем?
Ну, я же грек! Хотелось бы знать родной язык получше, только это не получится, пока не попадёшь в страну, где говорят на нём. Книги там, самоучители – это всё ерунда. Вот когда съезжу в Грецию…
Конечно, надо съездить! – Алла на полном серьёзе закивала головой. – Маркиза! Стой спокойно, пожалуйста! Всё, всё, успокойся! Уже уходим!
От мысли, что сейчас всё это закончится, у Семёна похолодело в груди. Как?! Он только что, только сию минуту нашёл её, а она хочет исчезнуть?!
Аа-а-а, – Семён лихорадочно перебирал в мозгу все возможные варианты.
Может, хотите зайти к нам на чашечку чая? – Алла, склонив голову на бок, натягивала рукавички, расшитые бусинками.
«Какая искренность в этом человеке! – Восхищению Семёна не было предела. – Никакого жеманства и дешёвого кокетства. Всё её поведение словно говорит: „Вот она вся я! Как на ладони! Чистая, строгая и правдивая! И ничего мне не страшно, потому что я всегда бываю сама собой! Вы не можете меня запачкать. Хотите, любите меня такой, какая я есть, не хотите – не надо меня обижать!“» Всё в ней было мило и трогательно: и наклон головы, и манера говорить, не глядя на собеседника, и рукавички с вышивкой, и нежная опушка на капюшоне, колеблющаяся на ветру.
С удовольствием! – Сёма не верил своему везенью. Ему казалось, что здесь, на Земле только его тело, а невесомая и прозрачная душа подвешена где-то в районе фонарного цоколя, с большим интересом наблюдает за всем происходящим внизу.
Они втроём быстро зашагали в сторону многоэтажек: он, девушка с греческим именем «Алла», что означает «не такая, как все», и огромная умная овчарка Маркиза…
Они вошли в лифт, который работал, был чист и не вонял мочой. Поднялись на третий этаж.
– Маркиза, обтруси лапы! – Алла указала собаке на куски снега, прилипшие к шерсти, и та начала на полном серьёзе трясти всем телом, чтоб их сбить.
«Какая потрясающая тактичность! – отметил про себя Сёма. – У меня-то сапоги в снегу! Значит, и мне надо его смести!»
Он категорически не понимал, что с ним происходит! Он хотел ловить налету каждый её намёк, каждое слово. Мозг словно переключился на другие частоты и с готовностью ловил всё, произнесённое и непроизнесённое Аллой. Казалось, Сёма готов целовать сиденье стула, на которое она сядет, диван, на котором она раскинется, чтоб отдохнуть.
«Алла Топтыгина» было написано на табличке, прибитой к обтянутой дермантином утеплённой двери. «Добрая русская сказка про Машу продолжается!» – с удовольствием отметил про себя Сёма.
Квартирка оказалась маленькой и очень комфортной. Казалось, здесь всё до миллиметра было рассчитано для уюта и отдыха. Отсюда нелегко было заставить себя уйти. За окном сыпал снег, а в доме было тепло и пахло печеньем.
Наконец, она сняла куртку и свет упал ей прямо на лицо.
Нет, Алла совсем не была девушкой. Она была старше Семёна, но это его ничуть не расстроило. И взгляд её поймать было невозможно, потому что Алла, его Алла была раскосой! Так вот почему она поворачивалась боком и смотрела всё время в другую сторону! Сёма не разочаровался ни капли! Он просто удивился. Чтоб сгладить неловкость, вызванную неожиданными открытиями, он шутливо спросил:
– А муж не придёт?