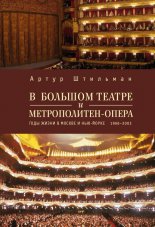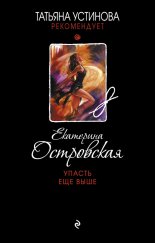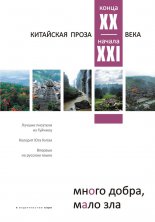Кассия Сенина Татьяна

– Я усомнился, отче… Я подумал… мы умрем тут… и это всё… А они будут смеяться… торжествовать…
– Нет, брат. Просто мы еще должны потерпеть. Еще не исполнились суды Господни… Нынешняя ересь – бич Божий. Как у больного жар не спадает, пока не перегорит внутренняя гнилость, так и Церковь не может получить мир, пока болезнь от наших грехов не будет заглажена бичующей ересью… Господь вразумит, а потом исцелит, в нужное время. Это судьбы Божии, и не нам исследовать их. Не падай духом!
Феодор побледнел и замолк, на мгновение закрыв глаза.
– Отче, зачем ты… тащил меня? – прошептал Николай.
– Пустяки, чадо, – Феодор взглянул на него и чуть заметно улыбнулся. – Не горюй! Скоро утро, и нам, может быть, принесут воды. А если не принесут, умрем тут за Христа, и страдания наши кончатся… И то, и это – великий дар Божий. Видишь, что бы ни случилось с нами, всё будет хорошо, и нужно благодарить, а не роптать!
После их бичевания прошло восемь дней. Анастасий Мартинакий, прибыв в Вониту, первым делом отправился к узникам и потребовал, чтобы Феодор разделся. Когда игумен исполнил приказ, великий куратор расхохотался и воскликнул:
– Где же следы бичей?
Страж, постоянно находившийся при заключенных, испуганно заморгал. Анастасий обернулся к нему:
– Бичи сюда и парочку скамей, да поживее! Ишь, рассердобольничались! Живей, живей, а то и тебе достанется! Охраннички! Вам впору дохлых крыс охранять, а не государственных преступников!
Собственноручно дав Феодору с Николаем по сто ударов, Мартинакий приказал заключить их, почти бездыханных, в помещение под крышей, забить дверь, оставив только небольшое отверстие для передачи пищи, и не давать узникам ничего, кроме хлеба, воды и дров. Кого-либо пускать к ним для свидания было запрещено, даже лестница от двери была отставлена – ее разрешалось придвигать только раз в день, когда охранник приносил заключенным пищу. Кругом поставили военную стражу, не только внутри, но и вокруг дома: она встречала всякого, входящего в крепость, и не позволяла даже приближаться туда, где были заключены студиты. Великий куратор навел на обитателей крепости такого страха, что даже после его отъезда несколько дней все разговаривали друг с другом шепотом и боялись лишний раз вступить в беседу. Только один из стражей, приставленных к студитам, изредка дерзал приносить им из дома еду, воду и тряпицы для перевязки ран, чтобы они совсем не умерли «в этом гробу», как назвал Феодор их новое жилище.
На другой день после бичевания вонитских узников Мартинакий уже был у стратига Анатолика.
– Ну, господин Кратер, – воскликнул он с порога, – ты меня удивил! Я знаю случаи, когда этих негодяев по сердобольности, а точнее, по глупости били меньше, чем следовало. Но вот чтобы их вообще не били, столь наглым образом попирая повеления державного, это впервые вижу. Поистине, тебе подобает песнь… сыгранная на струнах из тех самых воловьих жил, что ты пожалел для студийского разбойника! – последние слова Анастасий произнес с расстановкой и таким тоном, что стратига бросило в дрожь.
– Ч-что?! – ошарашено спросил он.
– А то, что никаких следов от бичей на спине этого пса я не обнаружил! Его и пальцем не тронули! Неужто для тебя это новость?
– Вот перед Христом Богом говорю: я ничего не знал! – воскликнул стратиг, бледнея. – Это всё Феофан, негодяй!.. Ну, сейчас я ему покажу!
Он схватил с крючка на стене палочку с железным шариком на конце и что есть силы заколотил по висевшему тут же металлическому кругу. Двумя ударами вызывался секретарь, тремя – стража, четырьмя – хартуларий, но поскольку разгневанный стратиг стучал много и без счета, то прибежали сразу все и испуганно столпились в дверях.
– Комита Феофана позвать сюда, срочно!
Феофан пришел через четверть часа, приветствовал Кратера и Анастасия и остался стоять посреди комнаты. Комит был бледен, но спокоен. Ему уже сообщили, что опять приехал «этот рыжий», и что стратиг в таком гневе, в каком его давно никто не видел; Феофан понял, что его обман разоблачен, и приготовился к худшему. Он знал, что Кратер чрезвычайно боится прогневать императора, а потому постарается выгородить себя и, скорее всего, образцово-показательно покарать виновного.
– Так значит, господин Феофан, ты дал Феодору пятьдесят ударов? – спросил стратиг, и в его голосе вдруг послышались те же самые вкрадчивые нотки, которые наводили ужас на собеседников, когда говорил Мартинакий.
– Нет, – тихо ответил комит. – Я не бил его.
– Смотрите-ка, – воскликнул Кратер, обращаясь к великому куратору и к стоявшему у дверей стратиоту, – он, похоже, даже не раскаивается!
– Нет, не раскаиваюсь. Я не могу бить монахов, тем более священников, уже убеленных сединами. Если бы ты послал меня опять, господин, я бы снова не тронул отца Феодора.
– Так, – стратиг смерил Феофана взглядом с головы до ног. – Понятно… Ну, что же, в таком случае, придется возместить на тебе то, чего ты не додал этому треклятому еретику. Раздевайся! – он взглянул на стратиота. – Две скамьи сюда, веревки и бичи!
Пока шли суетливые приготовления к бичеванию, Анастасий сидел в кресле и молча, чуть заметно усмехаясь, наблюдал за происходящим. Когда стратиоты привязали обнаженного Феофана к сдвинутым скамьям, стратиг взял в руки бич.
– Отойдите! Я сам… Раз!
Феофан дернулся, но не издал ни звука.
– Два! Три! Четыре! – считал стратиг, махая бичом.
– Э, господин Кратер, постой-ка! – сказал вдруг Мартинакий.
Стратиг остановился и взглянул на великого куратора с некоторым удивлением.
– Ты, я вижу, бить-то как следует не умеешь, – усмехнулся Анастасий. – Разве так бьют? Дай, покажу!
Он не торопясь отстегнул золотую фибулу со вставкой из синей яшмы, снял плащ, аккуратно сложил вдвое и повесил на спинку стула, вытянул вперед руки, несколько раз согнул и разогнул, повел плечами и взял у Кратера бич. Стратиоты и стратиг смотрели на эту разминку, почти затаив дыхание.
– Ну, сколько там было уже, пять? – спросил великий куратор. – Считай дальше! – и он взмахнул бичом.
– Шесть! Семь!
Феофан издал глухой стон: вместо красных полос вспухавшей кожи, оставленных ударами стратига, на спине комита появились кровавые. На двадцатом ударе Мартинакий остановился и отдал бич Кратеру.
– Теперь понял, как надо? С оттяжкой надо, господин стратиг, эти бичи оттяжечку любят, – Анастасий улыбнулся. – Давай, попробуй, а я посчитаю.
Он снова сел и заложил ногу на ногу.
– Двадцать один! Двадцать два! Вот-вот, хорошо! Молодец! Двадцать пять!..
После пятидесяти ударов спина Феофана была истерзана в клочья. Когда комита отвязали, встать самостоятельно он не смог, и стратиоты подняли его под руки.
– В подвал его на десять дней! – приказал стратиг. – На хлеб и воду! Если жена его придет или родственники, всех гнать в шею! Через десять дней пусть приходят и забирают… Негодяй!
Кратер бросил бич на пол, сел и отдышался. Вид пролитой им крови подействовал на него возбуждающе. Когда стратиоты увели Феофана, унесли скамейки и бич, вытерли пол и вышли, стратиг взглянул Анастасию в глаза и улыбнулся плотоядной и торжествующей улыбкой. Мартинакий усмехнулся и встал.
– Вот ты, господин Кратер, – сказал он, надевая плащ, – видно, считаешь, что я человек жестокий?
Стратиг вздрогнул от неожиданности.
– Э-э… – подходящий вежливо-обтекаемый ответ не приходил ему в голову, а совсем врать, что нет, не имело смысла.
– Да ты не бойся, я не обидчив. Это я просто к тому, что теперь ты сам видишь: с нашими людьми иначе нельзя! Мягкосердечны, глупы… Но хитры при этом, мерзавцы! – великий куратор застегнул фибулу и пригладил непокорные волосы. – Вот и приходится с ними скорее жестко, чем мягко… Ну, я поехал, надо уж домой!
– Как, и на обед не останешься? – удивленно спросил Кратер.
– Нет, дружище, прости, спешу! – и Анастасий улыбнулся совсем по-другому, неожиданно открыто и радостно. – Сын у меня родился, крестить уж собрались, а тут государь послал по этому делу… Вот, все мои меня дожидаются, тороплюсь! В дороге где-нибудь перекушу…
– О, поздравляю! Сын-то такой же рыжий? – улыбнулся и стратиг.
Мучительный страх, терзавший его с момента первого приезда Мартинакия, совершенно оставил Кратера, и он чувствовал в душе пьянящую легкость.
– Нет, в мать пошел, темный! – Анастасий был уже у двери. – У нас волосы передаются через поколение: я вот в деда… Значит, внуки засияют солнцем!
– А назвать как решили?
– Ингером. Жена, правда, Андреем хотела, но я сказал: нет, будет Ингер! Прадеда и деда моего так звали. Славные были мужи, воины, гордость рода!.. Ну, всё, пора мне! Прощай, господин Кратер!
– С Богом! Поклон державному!
– Всенепременно передам!
Выслушав доклад Мартинакия, император решил еще ужесточить меры против иконопочитателей и в тот же день приказал арестовать находившихся в Саккудионском монастыре Навкратия и других монахов – из перехваченных недавно писем окончательно стало ясно, что именно через студийского эконома поддерживалась в основном связь братий с заключенным в Воните игуменом. Вскоре схваченные в Саккудионе братия были доставлены в Брусу. Навкратия и еще семерых бичевали и заключили в тюрьму, где они находились около двух недель, после чего под конвоем были отправлены в столицу, несмотря на незажившие раны от бичей и зимнее время. В Константинополе Навкратия посадили в одиночную камеру в тюрьме Претория, а бывших с ним – в Елевфериеву тюрьму. В Претории Навкратий провел еще около месяца, а затем оказался в подвале Сергие-Вакхова монастыря, где его больше недели держали впроголодь, раз в день выдавая ломтик черствого хлеба и немного воды, так что узник совсем ослабел. Наконец, наутро девятого дня его вывели из подвала, провели по каменной лестнице на второй этаж и ввели в комнату с иконой Богоматери над столом и картой Империи на стене. Навкратий по пути уже догадался, что ему предстоит разговор с «нечестиеначальником», как прозывал Иоанна в письмах Студийский игумен. Действительно, Грамматик поднялся со стула навстречу узнику, окинул его внимательным взглядом и сделал приведшим его монахам знак выйти.
– Здравствуй, почтенный отец! – сказал Иоанн, когда они остались вдвоем. – Садись. Давно я желал тебя видеть.
– Признаться, я тоже, – усмехнулся Навкратий, опускаясь на лавку у стены.
– Хочется разоблачить «нечестивого софиста»? – улыбнулся Грамматик, поудобней устраиваясь в кресле у окна.
– Скорее, узнать поподробнее о его доводах.
– Что ж, прекрасно! Значит, наша беседа пройдет к обоюдному удовольствию, – Иоанн скрестил на груди руки. – Итак, по-твоему, Христа и святых подобает изображать на иконах для поклонения, господин Навкратий?
– Да.
– На каком основании ты так считаешь?
– Ведь тебе известно, думаю, что почитание икон – древний обычай. О том, что иконы существовали, сказано во многих писаниях. Отцы восхваляют искусство живописцев и говорят о пользе созерцания Христа и святых на иконах. Святой Григорий Нисский…
– Погоди, отче, – прервал его Грамматик. – «Я часто видел на иконе изображение страдания и без слез не проходил мимо этого зрелища, так живо искусство представляет зрению событие», – это высказывание мне известно. Равно как и великого Василия. Ведь ты, отче, – улыбнулся Иоанн, – далеко не первый, с кем я беседую об иконах, и эти доводы мне довелось слышать неоднократно. Но не все отцы учили одинаково об иконах, а потому вопрос этот всё же из числа спорных. Например, святой Епифаний Кипрский вопрошает: «Пусть рассудит твое благочестие, прилично ли нам иметь Бога, начертанного красками?» И еще в другом месте он говорит: «Я слышал, что некоторые предлагают живописать и необъятного Сына Божия; трепещи, слыша это!» Я, кстати, могу показать тебе и книгу с его произведениями, где он говорит об этом, чтобы ты не подумал, будто я обманываю тебя.
Иоанн говорил не спеша и внимательно разглядывал сидевшего перед ним монаха. Навкратию было уже за пятьдесят; выглядел он, впрочем, моложе своего возраста, но волосы, некогда темно-русые, почти все поседели, а теперь были грязными и свалялись от долгого заключения; глаза блестели молодо, и хотя сейчас эконом знаменитого Студия был сильно изможден, можно было понять, что телом он весьма крепок и может прожить еще долго… если, конечно, не уморят где-нибудь в темнице. Иоанну стало жаль его, мелькнула мысль предложить хотя бы воды – игумен заметил, что губы узника потрескались от жажды, – но Грамматик тут же подумал, что заключенный, скорее всего, откажется принять питье из рук «еретика», тем более «предводителя отступников». Иоанн знал, что Навкратий был одним из приближенных к Студийскому игумену братий, его близким другом и помощником; судя по перехваченным письмам, игумен особенно любил его и во всем ему доверял. Можно сказать, перед Грамматиком сейчас сидел «образ» неукротимого Студита, и спор об иконах с ним был поэтому почти спором с самим Феодором. Коль скоро, по воле императора, с главным противником сойтись они могли только заочно, то теперь, похоже, представлялся именно такой случай…
Навкратий поднял глаза на Иоанна и чуть заметно улыбнулся:
– Не нужно. Я тебе верю, господин Иоанн.
– Благодарю! – Грамматик возвратил улыбку. – Надо заметить, что не все твои собратья были столь великодушны… Но Бог им судья! Итак, свидетельства святого Епифания я привел, есть и другие – например, святителя Астерия Амасийского: «Не изображай Христа, ибо довольно для Него одного уничижения – воплощения, которое Он добровольно принял ради нас. Но умственно сохраняя в душе своей, носи бестелесное Слово». Божественный Феодот Анкирский говорил: «Мы составляем образы святых не из вещественных красок на иконах, но научились изображать их добродетели сказаниями о них в писаниях, как некие одушевленные иконы, побуждаясь этим к подобной им ревности. Ибо пусть скажут выставляющие такие изображения, какую они могут получить от этого пользу, или к какому духовному созерцанию возводятся они чрез это напоминание? Очевидно, что это тщетная выдумка и изобретение диавольской хитрости». Мне кажется, отче, что изречение это истинно. Ведь сколько ни проливай слез, глядя на икону, но истинную пользу душе мы можем получить только через молитву, а при молитве держать в уме какие бы то ни было образы прямо запрещено отцами. Дьявольская же хитрость тут в том, что простой и неграмотный народ, ради которого, как говорят некоторые из ваших, особенно нужны иконы, вполне может решить, что вот, посмотрел он на образ, повздыхал – и этого как будто довольно для спасения.
– Относительно молитвы ты прав, но делаешь неверные выводы. Из того, что кто-то, пусть даже многие, употребляют во вред вещи, придуманные ради пользы, еще не следует, что эти вещи вредны. Приведенный тобой пример можно повернуть и иначе: человек забылся, рассеялся, потерял память Божию, – а взглянул на икону и вспомнил о Боге, и снова стал молиться. Вот и польза! Что до представленных тобой свидетельств, то если эти отцы действительно так думали об иконах, я могу только сказать, что они в этом вопросе, к сожалению, заблуждались. Мы же знаем, что и великим святым иногда случалось ошибаться.
– Это так. Но почему ты считаешь, что из святых, что-либо писавших об иконах, заблуждались именно отрицавшие их, а не одобрявшие?
– Потому что «живописать необъятного Сына Божия» всё-таки можно, поскольку Он воплотился, став ради нас человеком, лежал в объятьях Матери, был повит пеленами, носил одежду, перемещался из одного места в другое, входил в дома и выходил оттуда, был схвачен иудеями, связан и представлен Пилату, и всё прочее, о чем говорит Евангелие. Это не свойственно необъятному божеству, но свойственно вполне объемлемому человечеству Христа. Потому Он изобразим. И странно называть это «уничижением». Воплощение не бесславно!
– Ты говоришь об описуемости Христа до Его воскресения. Это можно было бы признать. Но после воскресения – как можно назвать описуемой плоть, потерявшую свойство ограниченности? Ведь Христос проходил сквозь запертые двери, появлялся в одном месте, исчезал в другом. Ты, конечно, скажешь, что Он был осязаем апостолами, и они узнавали Его, но это было уже не так, как у нас, а потому описать такую преображенную воскресением плоть, как мне представляется, невозможно.
– Если после воскресения Господь имел плоть уже не так, как имеем ее мы, то мы не могли бы верить тому, что Он подобен нам, – возразил Навкратий. – Но Он Сам сказал, что и по воскресении имеет плоть и кости.
– Да, свойства тела Он имел, но не в таком грубом виде, как у нас, ведь это очевидно. Потому Он и мог становиться невидимым и творить прочие чудесные дела.
– Но если Он всё же был видим апостолами, то Он описуем и по воскресении. А если неописуем, то и видим ими быть не мог. Разве не логично? – Навкратий улыбнулся. – Да и чем так уж изменилось Его тело в сравнении с тем, каким оно было до воскресения? Ведь Он и до воскресения ходил по водам, а это не свойственно человеческой природе. Не укрощал ли Он бурю? Не проходил ли между иудеями, когда хотел, так что они не могли схватить Его? Правда, после воскресения Он перестал нуждаться в удовлетворении телесных потребностей, и если ел пред учениками, то только чтобы показать им, что Он не бесплотный дух. Но у всех нас по воскресении не будет таких потребностей. Разве из этого следует, что мы перестанем быть описуемы? Это нелепо.
«Логично!» – подумал Грамматик. И это было сказано не просто логично, но очень спокойно: в Навкратии ощущался некий глубинный и непоколебимый покой, приобретенный многолетним пребыванием в умной молитве и борьбой со страстями. Ни боязни, ни смущения, ни сомнений не ощущалось в узнике – и в то же время в нем не было какой-либо неприязни к Иоанну, стремления поддеть, обличить и пристыдить. Студийский эконом просто излагал свою веру – и только. Грамматик не заметил в нем какого-либо азарта спорщика или стремления во что бы то ни стало «разбить в пух и прах» противника, никакой враждебности к собеседнику, ни намека на положение «страдальца за веру»: казалось, Навкратий вообще не думал о том, что он – истощенный, немытый, нечесанный, в грязной одежде, – сидит теперь перед тем самым человеком, который морил его несколько дней голодом, содержа в темном подвале.
– Но Христос состоит из двух природ, – сказал Иоанн после краткого молчания, – а на иконе в любом случае возможно изобразить лишь одну. Таким образом, вы разделяете Христа, а это сродни несторианству.
– Мы изображаем не природу. Природу саму по себе, какова бы она ни была, изобразить нельзя. Изображается всегда ипостась – частный случай существования природы. Тот или иной человек изображается не поскольку он есть разумное смертное существо, способное к мышлению и познанию, как это можно сказать о любом человеке, а поскольку он отличается от других людей – ростом, формой носа, цветом глаз и волос и тому подобное. Вот, кстати, скажи мне, Иоанн, признаёшь ли ты портрет обычного человека портретом именно этого человека?
– Конечно, если портрет имеет должное сходство.
– А ведь на портрете изображается только тело человека, а не душа, которая невидима, и изобразить ее нельзя. Но ты ведь на этом основании не скажешь, что на портрете живописец «разделяет» человека. Точно так же и Христос описуем по Своей ипостаси, хотя по Божеству не описуем, и при этом Он не разделяется.
– Всё-таки вы несториане, – сказал Иоанн почти с сожалением. – Если то, что вы изображаете, есть ипостась Христа, то в Нем две ипостаси. Ведь человеческие особенности и природа и составляют ипостась.
– Не согласен, – покачал головой Навкратий. – Ипостась не есть «сложение» личных особенностей и природы, иначе исчезла бы простота в Боге, ведь в Нем три ипостаси, но Он при этом не сложен. Ипостась это… можно сказать, способ существования. Христос воспринял в Свою ипостась Бога-Слова человеческую природу с ее особенностями, но при этом не явилось две ипостаси. Ипостась остается одна – Слова. Но в Нем после воплощения есть ипостасные особенности не только Слова, но и человека. Потому Христос и получает имя собственное – Иисус, а это значит, что Он отличается от всех прочих людей определенными личными признаками. Но это не означает, что в Нем появилась отдельная человеческая ипостась. Разве ты не согласишься с этим?
Иоанн хотел было ответить отрицательно, но внезапно понял, что по существу возразить ему нечего. Он был уверен, что пока нечего: просто он чего-то не доглядел, не додумал… Если бы сейчас перед ним был не студийский эконом, а кто-нибудь другой, игумен, возможно, просто прервал бы беседу до лучших времен. Но прибегать к такому приему перед Навкратием ему не хотелось. И Грамматик впервые на всем протяжении диспутов, которые он вел с иконопочитателями, произнес:
– Я должен подумать.
…Игумен Великого Поля уже больше года сидел в тюрьме при Елевфериевом дворце, куда его перевели из Сергие-Вакховой обители. Когда его на носилках вытащили из монастырского подвала и погрузили на повозку, чиновник, один из служителей тюрьмы, руководивший переправкой узника на новое место заключения, сказал келейнику Феофана, выведенному следом и отчаянно щурившемуся на солнечном свете, которого он не видел уже несколько месяцев:
– Ну, а ты можешь выметаться, куда глаза глядят! И чтоб духу твоего не было за пятьдесят верст от столицы!
– Что?! – воскликнул Анатолий, бледнея. – Нет, я никуда не пойду! Я не могу бросить отца Феофана! Ведь он так болен, за ним уход нужен! Вы же видите, он не может даже ходить!
– Не велено никого с ним пускать! – сурово ответил чиновник и оттолкнул монаха, попытавшегося забраться на повозку. – Отойди, ну! Или хочешь, чтоб тебя отправили обратно в подвал?
– Пустите меня с ним, пустите! Пощадите его! – Анатолий зарыдал. – Ведь он умрет там один! Неужели у вас совсем нет милости?!
Тюремщик нахмурился, но ответить не успел – сзади раздался голос Грамматика:
– Пусти его вместе с Феофаном, господин.
Чиновник обернулся:
– Но, отец Иоанн, господин логофет сказал мне, что Феофана надо посадить в одиночную камеру…
– Господин логофет, – холодно ответил игумен, – кажется, забыл, что государь передал этих иконопоклонников в мое распоряжение, а тюремщики обязаны слушаться меня, и этот приказ пока не отменен. Этот монах пойдет в заключение вместе с Феофаном.
Анатолий прижал к груди руки и сквозь слезы смотрел на Иоанна, словно не понимая, а потом вдруг всхлипнул и поклонился ему до земли со словами:
– Благодарю тебя за эту милость!
Грамматик не ответил, даже не взглянул на монаха – он смотрел на Феофана, который, с трудом приподнявшись на локте, с повозки наблюдал всю эту сцену. Взгляды их встретились на несколько мгновений, Иоанн чуть заметно усмехнулся и, повернувшись, пошел прочь.
– Ну, давай, залезай быстро, ехать надо! – пробурчал чиновник, не глядя на Анатолия.
Елевфериевы тюремщики были не так уж строги, и заключенные могли писать и получать письма. Кормили их тут получше, чем в подвалах Сергие-Вакховой обители, а один сердобольный страж приносил тайком укропно-сельдерейную настойку и миндальное масло для больного, так что Феофан получил облегчение в болезни и через некоторое время смог садиться на постели и даже, с помощью келейника, немного ходить. Потом наступила сырая осень, а за ней – довольно ранняя зима с пронизывающими ветрами. Феофан застудил почки, болезнь снова обострилась, и игумен стал сильно сдавать: больше не вставал с постели, почти ничего не мог есть. Он уже ясно ощущал приближение смерти и готовился к ней постоянной молитвой. В начале февраля один из стражей, передавая узникам еду, шепотом сообщил, что начальник тюрьмы собирается на днях доложить императору о состоянии Феофана.
– Может быть, отче, – с надеждой сказал Анатолий игумену, – император смягчится и позволит тебе вернуться в нашу обитель, чтобы ты скончался там в мире?
– Нет, чадо, нет, – ответил Феофан, едва шевеля губами. – Он не отпустит меня, но сошлет на суровый остров… и там один пресвитер приютит нас…
Действительно, император, узнав о плачевном состоянии узника, сказал:
– Если он всё равно не жилец, то пусть умрет подальше отсюда, чтобы не было никакого шума. А то сейчас появятся «мучениколюбцы», глупые женщины, бродячие монахи, будут просить тело, распускать слухи о «зверствах тюремщиков»… Ни к чему это!
В середине февраля Великопольский игумен был увезен на Самофраки – небольшой каменистый остров в Эгейском море. Там их принял на попечение один местный священник, тайный иконопочитатель, и поселил в своем доме. К ним даже не приставили никакой стражи – было ясно, что Феофан никуда не сможет убежать, да он и не собирался этого делать. Погода стояла очень ветреная, почти каждый день шли дожди, но к концу месяца потеплело, солнце всё чаще проглядывало сквозь тучи, и в хорошую погоду Феофан днем лежал у открытого окна и смотрел на старые платаны во дворе дома, на вершину горы Саоки – царицы острова. Анатолий иногда гулял по окрестностям, как-то набрел на красивый водопад и пожалел, что игумен не может увидеть его. «Впрочем, что это я? – спохватился монах. – Ведь отец уже скоро увидит такие красоты, которых “око не видело”… А я всё развлекаюсь на это земное…» Возвратясь к игумену, он с изумлением увидел, что Феофан сидит на постели с дощечкой на коленях и, положив на нее лист пергамента, что-то пишет. Игумен поднял голову, улыбнулся келейнику и вновь обмакнул перо в стоявшую на столике у кровати чернильницу. Дописав, поставил внизу листа подпись, свернул письмо, протянул Анатолию и сказал:
– Чадо, это письмо запечатай и храни пока, а после моей смерти отправь на Принкипо… Ты знаешь, куда и кому. Лучше, если ты сам туда поедешь и отвезешь. А потом, пожалуй, возвращайся в наше Поле, и если там можно будет жить, не общаясь с нечестивыми, живи…
– Нет, отче! – Анатолий умоляюще взглянул на игумена. – Позволь мне вернуться сюда и жить при твоем гробе! Ведь должно же когда-нибудь православие победить, отче? Может, я доживу?
– Доживешь, чадо! – улыбнулся игумен, отложил дощечку и перо, снова лег и, немного помолчав, сказал: – Будь по-твоему, оставайся здесь. Только смотри, с еретиками не общайся… Да вот еще что, Анатолий: никого и никогда не суди! Мы это знаем, а на деле не исполняем… Как бы ни был человек плох, хоть бы даже всем известны были его злые дела, а добрых никаких, всё равно не дерзай говорить о нем, что он – такой и сякой. Не знаем мы глубин сердца человеческого, только Бог один знает… Запомни это!
– Запомню, отче!
– А главное, исполни, – Феофан закрыл глаза и немного помолчал. – Вроде бы всё. Ничего не забыл… Слава Богу за всё!
Он умер на двадцать третий день после приезда на остров, 12 марта. Священник с Анатолием погребли усопшего тут же неподалеку, в небольшой пещере, а на другой день осиротевший келейник отправился на остров Принкипо, где уже тридцать восьмой год подвизалась в монашестве Мегало, супруга почившего игумена, вместе со своей родственницей Марией.
Именно из письма с Принкипо узнал о кончине Феофана Студийский игумен, но написать ответ смог далеко не сразу. Первый месяц они с Николаем страшно мучились в своем «гробу» под крышей: кормили их из рук вон плохо, воды давали мало, дров иной раз не приносили по несколько дней, и подвижники страдали от холода еще больше, чем от голода и жажды. Стражники, принося скудный паек, насмехались над узниками и даже не стыдились желать им «поскорей сдохнуть». Но потом им внезапно стали передавать еду, молоко, масло для смазывания ран, а через неделю в дверном окошке они увидели лицо и самой благодетельницы: местная жительница, сорокалетняя девица Евдоко сумела подкупить стражу и теперь изо всех сил старалась облегчить положение узников. Как она ни осторожничала, заботы ее не укрылись от соседей, и те, завидуя чужой смелости и добродетели, не только стали обвинять ее в «сообщении с еретиками», но и донесли начальнику крепости. Тот вызвал девицу к себе, отругал и сказал, чтоб она немедленно прекратила помогать заключенным. Евдоко выслушала речь архонта спокойно, не двинув и бровью, и ответила:
– Помогала и буду помогать, господин. Средств у меня пока хватает, милостью Божией. Запретить ты мне не вправе. Не нравится, так запрети стражникам принимать от меня приношения, – она чуть улыбнулась, – если можешь.
Начальник крепости метнул на нее гневный взгляд, встал из-за стола, прошелся по комнате, остановился перед девицей и сказал:
– Что ж, вольному воля, но помни, что я тебя предупредил, почтеннейшая. Если слух о твоих выходках дойдет до стратига или до государя, защищать тебя я не стану, так и знай!
– Да я и не просила у тебя защиты, господин, – сказала Евдоко. – Есть у меня защитник на небесах – Бог Вышний, и этого довольно!
Она продолжала помогать узникам, невзирая даже не то, что злобный сосед стал распускать слухи, будто девица «утешает» монахов не только пищей и благочестивыми беседами, а кое-чем «послаще». Евдоко принесла им и письменные принадлежности, и тогда, наконец, Феодор смог ответить на письмо Мегало и Марии.
«Он не умер, а переселился в вечную жизнь, – писал игумен монахиням о Феофане, – не земля скрыла его, но приняло небо». И, обращаясь прямо к почившему исповеднику, Феодор молился: «Ходатайствуй за всю Церковь пред Господом, молись и обо мне, несчастном, чтобы я скорее пришел к тебе таким же образом, каким ты скончался».
16. Невеста Христа
Как с рождением по плоти непременно рождается вместе и сила, разрушающаяся рождаемое, так, очевидно, и Дух рожденным от Него влагает животворящую силу. Итак, что же вытекает из сказанного нами? Чтобы мы, отложив плотскую жизнь, за которой непременно следует смерть, стремились к такой жизни, которая не влечет за собой смерти; а такая жизнь заключается в девстве.
(Св. Григорий Нисский)
Студийские братия иеромонах Симеон и монах Зосима уже три месяца жили в доме у Марфы, в отдельной пристройке возле помещения, где обитали слуги. Они тайком приехали в столицу после того, как всех живших в Саккудионе монахов арестовали, Навкратия отправили в Константинополь, а большинство братий, продержав около двух месяцев в брусской тюрьме, выпустили, запретив под страхом нового заключения жить в каком-нибудь монастыре и в городах. Саккудионская обитель была совершенно разграблена, в кельях всё переломали, в храме замазали известкой фрески, а иконы, собрав в кучу, сожгли на монастырском дворе. Выпущенный из тюрьмы Симеон с несколькими братиями, вернувшись в монастырь и увидев это разорение, не могли сдержать слез. Жить там было теперь невозможно, да и опасно: земледельцы из соседней деревни сказали, что за обителью следят – периодически сюда наведывались чиновники из Брусы в сопровождении стратиотов. Симеон и Зосима отправились в Константинополь, надеясь узнать что-нибудь о судьбе Навкратия. В то время эконом находился в подвале Сергие-Вакхова монастыря, и связаться с ним было невозможно. В Студии по-прежнему начальствовал Леонтий, а трое братий всё так же противились ему и сидели в заточении. В Городе боялись не только обсуждать вопросы, касающиеся иконопочитания, но даже заговаривать об иконах: везде сновали соглядатаи, нанятые властями, чтобы разузнавать, не говорит ли кто чего-нибудь, неугодного императору, не имеет ли икон или книг со сказаниями о них, не уклоняется ли от общения с иконоборцами, не принимает ли у себя изгнанников, не служит ли заключенным за веру; доносившим хорошо платили. Пробираясь поздним вечером к особняку Марфы, Симеон и Зосима испытывали страх и нерешительность: что, если хозяева тоже перешли в стан нечестивых?.. Братия сговорились сразу же сказать привратнику, откуда они, и, если заметят в его ответе или выражении лица что-нибудь подозрительное, немедленно бежать. Петр, однако, услышав слово «студиты», просиял, заулыбался, тут же впустил их и, подозвав одну из служанок, сказал, чтобы та немедленно доложила госпоже, что «прибыли исповедники». Девушка убежала в дом, и вскоре дверь распахнулась, и Марфа, быстро сойдя с крыльца, направилась к монахам.
– Здравствуйте, отцы, благословите! Как же я рада видеть вас!
Она немедленно провела их в дом и приказала слугам затопить баню и накрыть стол для гостей. Пока хозяйка распоряжалась, монахи, несмотря на ее приглашение «располагаться поудобнее», продолжали стоять у дверей гостиной, смущенно озираясь. Симеон, низкорослый худой монах лет сорока пяти с задумчивым взглядом, был здесь только раз в жизни вместе с игуменом и экономом, десять лет назад. Его спутник Зосима, еще молодой монах, среднего роста, круглолицый, пышущий здоровьем несмотря даже на недавнее заключение, впервые переступил порог гостеприимного особняка и теперь с восхищением разглядывал стены, украшенные росписями, мозаики на потолке, мраморный пол, шелковые занавеси, расшитые цветами, птицами и диковинными зверями, изящную мебель… Он вырос в бедной семье в одном из предместий столицы, поступил в Студий в семнадцать лет, за два года до начала гонений, и такую роскошь видел впервые в жизни. Он переводил взгляд с одной росписи на другую, с изображения окруженного овцами пастуха со свирелью на картину охоты на льва, и внезапно вздрогнул: занавеси, закрывавшие проход в соседнюю комнату, раздвинулись, и между ними показалась стройная девушка в темно-синей тунике. Зосима несколько мгновений смотрел на нее во все глаза, вдруг покраснел и опустил взгляд. Девушка улыбнулась и подошла к монахам.
– Здравствуйте, отцы! Добро пожаловать! Благословите!
– Госпожа Кассия? – спросил Симеон немного удивленно. – Здравствуй, Бог благословит! – он перекрестил девушку. – Да как же ты выросла!
Симеон смутно помнил ее четырехлетней девочкой, а теперь перед ним стояла «почти невеста», он узнал ее только по удивительному цвету глаз. Зосима пробормотал что-то не очень вразумительное и просто не знал, куда деваться.
– Я вас смутила, простите! – сказала Кассия. – Я сейчас уйду.
Тут возвратилась Марфа.
– Кассия ты уже здесь? Благословение взяла? – она улыбнулась. – Сейчас, отцы мои, вас накормят… Да что же вы не сели, так и стоите в дверях?! Садитесь, садитесь! Вот сюда, – она усадила их на стулья с высокими резными спинками. – Ты уже уходишь? – обратилась она к дочери, видя, что та направилась к двери.
– Боюсь, я смущаю честных отцов, – сказала девушка, искоса взглянув на Зосиму, который сидел, устремив взгляд в пол, и, кажется, хотел бы сквозь него провалиться.
– Нет, это пустяки, госпожа Кассия! – сказал Симеон. – Конечно, останься, если хочешь, а то выйдет, будто мы тебя гоним… Нехорошо! Брат Зосима, – он взглянул на спутника, – привыкнет, это он только поначалу… Ведь он никогда не бывал в таких домах.
– Ну, конечно, привыкнет! – воскликнула Марфа. – Да мы с Кассией и не будем вам докучать. Я уже распорядилась приготовить для вас келью в пристройке, там вас никто не будет тревожить, и еду туда будут приносить, и книги… У нас большая библиотека, вы можете читать, что угодно, Кассия покажет… А сейчас мы бы очень хотели послушать вас: откуда вы, какими судьбами? Что с братией? Что слышно про отца Феодора? У нас уже давно нет никаких вестей о нем, и отец Навкратий не пишет с декабря… Мы так беспокоимся!
– Вот из-за отца Навкратия мы и оказались в Городе, госпожа. Он в заключении, как мы узнали, в Сергие-Вакховом монастыре, у этого ужасного Ианния…
Симеон рассказал последние новости, какие знал: о бичевании Феодора и Николая в Воните и Навкратия с семью братиями в Брусе, о разорении Саккудиона, о заключении и изгнании всех живших там. Марфа слушала, время от времени утирая слезы. Кассия не плакала, но глаза ее то и дело сверкали негодованием. Когда Симеон умолк, она рассказала о судьбе отца Дорофея и о том, что им удалось наладить с ним связь; монахи порадовались за брата. Потом вчетвером они обсудили дальнейший план действий. Было решено, что студиты останутся жить у Марфы и попытаются связаться с Навкратием и, быть может, с другими исповедниками, заключенными в столице. Кассия очень хотела переслать что-нибудь для утешения игумену Феодору, и Зосима вызвался переправить посылку в Вониту. Марфа с Кассией были несказанно рады тому, что теперь Симеон сможет служить литургию у них в домовой церкви.
– А что, у вас тут не бывает никаких… лишних гостей? – спросил иеромонах.
– Нет, – ответила Марфа. – С тех пор как муж погиб, мы живем очень замкнуто. У моего брата своя жизнь… Он, правда, заходит иногда, но вы не беспокойтесь, отцы, он о вас ничего не узнает! А его семейство к нам приходит в гости только раз в году.
– Понятно. Просто я думал… – сказал Симеон нерешительно, – думал, что, может быть, у госпожи Кассии есть… жених?
Мать с дочерью переглянулись.
– Есть, – с улыбкой ответила Кассия. – Но вам, отцы, нечего Его опасаться. Ведь Он у нас – общий.
Оба студита воззрились на девушку.
– Да, – сказала Марфа. – Кассия решила идти в монахи.
Мать узнала от дочери о ее намерении спустя два месяца после того, как Кассия приняла решение. Георгий, зайдя к сестре, завел разговор о том, что логофет геникона подыскивает невесту для своего младшего сына и, узнав от протоспафария о красоте и богатстве его племянницы, весьма заинтересовался; может быть, в ближайшее время сладится с помолвкой…
– Ты что? – сказала Марфа с досадой. – Какая помолвка? Я тебе сто раз говорила, что не отдам Кассию замуж без ее желания. И тем более за юношу, которого она еще и в глаза не видела. Сначала, по крайней мере, нужно, чтоб они познакомились, пообщались, а там, если он ей понравится, можно уже говорить о чем-то дальше. Зря ты поспешил обнадежить господина логофета!
Георгий раскричался, посыпались уже знакомые укоры в глупости, своенравии, упрямстве, «излишнем свободолюбии»… Марфа слушала брата, сидя в кресле и спокойно сложив руки на коленях, а когда он выдохся и замолчал, сказала:
– А теперь я позову Кассию, и мы у нее спросим, что она думает о твоем предложении.
Когда дочь спустилась в гостиную и поздоровалась с дядей, тот уже было раскрыл рот, но Марфа остановила его знаком руки и заговорила сама:
– Вот, Кассия, твой дядя пришел к нам с предложением. Точнее, к тебе. Тебе уже тринадцатый год, и Георгий полагает, что пора подумать о помолвке. У него на примете есть для тебя жених, сын логофета геникона. Семейство господина логофета я немного знаю, дети у него получают хорошее образование и начитанны, так что тебе, возможно, мальчик понравится. Так вот, мы хотим тебя спросить: желаешь ли ты с ним познакомиться – пока всего лишь познакомиться – или нет?
Девочка выслушала эту речь, опустив глаза, а в конце слегка нахмурилась. Когда Марфа умолкла, Кассия взглянула на мать и ответила:
– Нет, мама, знакомиться с ним я не хочу, потому что не расположена пока думать о таких вещах как помолвка с кем бы то ни было.
– «Не расположена»?! – вскричал Георгий, вскакивая с места.
Кассия отступила на шаг и сказала:
– Да, дядя. Я благодарю тебя за постоянную заботу обо мне, – взгляд ее стал чуть насмешливым, – но я бы очень тебя просила впредь не искать мне женихов. Если я решу выходить замуж, я сама найду себе спутника жизни, без посторонней помощи.
– Если решишь выходить замуж?! – Георгий выкатил глаза на племянницу.
– Именно так. До свидания, дядя, – Кассия улыбнулась, чуть поклонилась и покинула гостиную.
Георгий, казалось, потерял дар речи и какое-то время молчал, собираясь с мыслями. Видимо, он готовился разразиться очередной филиппикой, но, поглядев на сестру, внезапно сник и изрек только:
– Ну, сестрица, поздравляю! Девку ты испортила вконец. Уж не знаю, что с нее выйдет дальше, но точно ничего хорошего! Скорее, одни слезы… для всех окружающих… Вот попомни мои слова!
Когда он ушел, Марфа в задумчивости постояла, глядя в окно, а потом поднялась на второй этаж и постучала в комнату Кассии.
– Да! – послышалось из-за двери.
Дочь сидела, с ногами забравшись в кресло и обхватив руками колени. Марфа пристально посмотрела на нее, подошла и села на кровать.
– Ты пришла узнать, собираюсь ли я вообще выходить замуж или нет? – спросила Кассия.
– Да.
– Нет, не собираюсь, мама. Я… я решила идти в монахи.
Марфа вздрогнула и немного побледнела.
– Я тебе не говорила, – продолжала Кассия, не глядя на нее, – потому что… не знала, как сказать… Ведь тебе… ты, наверное, будешь против…
– Нет, не буду, – тихо сказала Марфа и, встав, перекрестилась на икону Богоматери в углу. – Буди воля Божия! Я обещала Матери Божией, что не буду препятствовать, если так случится.
– Что?! – воскликнула Кассия, спуская ноги с кресла.
И тогда Марфа рассказала дочери, как она вымолила ее рождение. А потом они плакали, обнявшись, и, встав на колени, вместе молились Богородице принять намерение одной и жертву другой, после чего мать благословила дочь на избранный ею путь, и больше они никогда не говорили об этом ни друг с другом, ни с кем бы то ни было еще. Студиты Симеон и Зосима были первыми посторонними людьми, узнавшими о решении Кассии.
– Да, – сказал Симеон, помолчав, – это большая жертва… Особенно с твоей стороны, госпожа Кассия. Трудно тебе будет… Но помогай Бог! Сам Он призвал тебя, Сам и да укрепит на этом пути!
Они разошлись спать, когда уже стало светать. «Почему он сказал, что мне будет особенно трудно? – думала Кассия, поднимаясь к себе. – Почему мне, а не маме? Правда, у мамы еще остается Евфрасия… Но ведь я иду на эту жизнь не против воли, совсем наоборот! В чем же будет мне труднее, чем любому из тех, кто идет в монахи?..»
Спустя несколько дней Зосима уехал в Анатолик с деньгами, одеждой и писчими принадлежностями для передачи вонитским узникам. Симеон остался жить в отведенной Марфой пристройке. Четыре раза в неделю в домовой церкви он служил литургию, за которой причащались хозяйка с дочерьми, все слуги и рабы, а потом, переодевшись в мирское платье, уходил в Город, иногда отлучался и ночью. Ему удалось пробраться к заключенным в Студийском монастыре братиям и передать им Святые Дары, а через три недели по прибытии в столицу он узнал, что Навкратий от «нечестиеначальника» переведен под строгий надзор в Далматскую обитель, где теперь тоже хозяйничали иконоборцы. Надзор, впрочем, на поверку оказался не таким уж строгим, и вскоре с экономом удалось наладить связь, как и с некоторыми другими студитами, скрывавшимися в пригородах у разных благочестивых мирян. Марфа давала деньги на поездки студитов и передачи для исповедников, ей удалось привлечь к этому делу еще нескольких знакомых жен придворных. Однажды Симеон принес переданную ему Навкратием тетрадь с ямбами против иконоборцев, сочиненными Студийским игуменом, и вечером устроили чтение в гостиной. Одно из стихотворений особенно понравилось слугам, которых Марфа тоже собрала слушать:
- «Как только видишь ты икону, зришь Христа,
- Христом же и ее зови, но лишь омонимично —
- Ведь имя одинаково у них, не естество,
- И поклонение обоим нераздельно и едино.
- Итак, кто поклоняется ей, тот и чтит Христа,
- А кто не поклоняется, тот враг Его, конечно,
- как начертание во плоти Его вида
- безумно не желающий почтить».
– Как просто и понятно! – воскликнула горничная Маргарита.
– Ага, – подтвердила Фотина, – уж на что я тупая, а и то поняла, почему одно поклонение!
– Вот видишь, отче, – сказала Кассия Симеону, – надо эти стихи размножить и распространять, ведь это и для самых простых людей будет понятно!
– А Кассия у нас тоже пишет стихи, – улыбнулась Марфа.
– Мама! – с укором сказала девушка.
– А что ты? Ведь неплохие же стихи… Мне нравятся, по крайней мере!
– И мне! – воскликнула Евфрасия. – Кассия скромничает!
– Да ну, – поморщилась Кассия, – это так, опыты… плохие, по-моему. А вот, я знаю, отец Симеон, что у вас в обители монахов учили писать гимны в честь святых, каноны составлять…
– Да, – кивнул иеромонах. – Я и сам этим занимался, писал гимны и музыку к ним.
– И преуспел? – спросила Марфа.
– Как сказать… Отец игумен хвалил, по крайней мере, – смущенно улыбнулся студит.
– Ой, – сказала Кассия, – это так интересно! А не мог бы ты, отче, рассказать мне об этом поподробнее? Я училась музыке, и мне уж давно хочется попробовать сочинять гимны, только я не решалась никогда…
– Да, я помню, – улыбнулась Марфа, – ты еще, когда маленькая была, часто после службы в Великой церкви мечтала: «Вот бы мне что-нибудь написать, чтобы там пели!»
– Ох ты! – с улыбкой сказал иеромонах. – Высокая мечта! Но может, и сбудется, как знать? Конечно, я могу тебя поучить, госпожа Кассия.
– Благодарю! – воскликнула девушка. – Может, завтра и начнем? Мне не терпится, – улыбнулась она, как бы извиняясь. – Думаю, мы могли бы встречаться вечером в библиотеке.
Они стали заниматься раза два или три в неделю, и Симеон рассказывал о приемах гимносложения на разные гласы, в качестве примеров приводя по памяти богослужебные стихиры и иногда напевая их. По просьбе Симеона, его встречи с Кассией проходили не наедине, чтобы не нарушались монашеские правила, и на занятиях всегда присутствовал слуга Геласий – тихо сидел в углу и слушал. Кассия приходила, скромно одетая в тунику и покрывало темно-синего цвета, без узоров и украшений. Во время занятий отец Симеон почти не смотрел на Кассию, а она поглядывала на него и думала: «Да, вот настоящий монах – сдержанный, но не суровый, правила соблюдает…» Как-то раз, вернувшись из библиотеки в свою комнату, она взяла чистый лист и, нарисовав наверху крестик, написала под ним: «Монахов житие – светильник всем».
…Феодор, лежа, полушепотом диктовал письмо. Николай скрипел по пергаменту, то и дело макая перо в чернильницу – чернила кончались, а перо уже порядком износилось. Евдоко обещала на днях достатать новых перьев, но пока приходилось писать старыми. Единственное хорошее перо, которое у них было, Николай хранил для работы по переписке книг – это рукоделие появилось у них тоже благодаря Евдоко: она сумела повлиять на начальника крепости, и он немного смягчился, сам повелел выдать узникам писчие принадлежности и сделал им первый заказ – копию Псалтири. Николай выполнил работу очень быстро, чем удивил заказчика, а почерк студита привел архонта в восторг – такое каллиграфическое мастерство он за свою жизнь видел всего несколько раз. После этого положение узников стало легче: хотя к ним по-прежнему никто не мог проникнуть, кроме Евдоко, но письма стали передавать чаще, приходили весточки и от Навкратия, и от других братий. Первым из студитов, проникших в Вониту после бичевания узников, стал Зосима, привезший дары от Кассии. К Феодору его не пустили, но через Евдоко монах передал игумену подробности о положении дел в столице и ее окрестностях.
«То, что ты прислала мне ради Господа, я получил, – писал Феодор в ответ Кассии. – И кто такой я, смиренный, что твое благоговеинство вспомнило обо мне? Будучи отпрыском от доброго корня, ты привыкла благотворить». Он поблагодарил девушку за благодеяния заключенному Дорофею, о чем сообщил Зосима, и продолжал: «Как я узнал, ты с детства избрала прекрасную жизнь ради Бога. Став невестой Христа, не ищи и не люби никого другого. Ибо кто прекраснее Его? Его красота пусть еще ярче сияет в твоем сердце, дабы ты угасила всякую страсть, изменчивую и тленную. Избегая избегай взглядов мужчин, если возможно, даже и скромных, чтобы не быть как-нибудь пораженной или не поразить. Ожидает тебя небесный брачный чертог: там ты увидишь Того, к Кому прилепилась, с Ним будешь радоваться вечно. Мало это слово, но достаточно для убеждения твоей честности. Да будешь спасена, дщерь Христова».
– Всё, – игумен приподнялся на локте. – Дай подпишу.
Николай подал ему лист и перо. Феодор поставил свою подпись, отдал письмо ученику и опять откинулся на ложе. Николай украдкой вздохнул: игумен далеко еще не оправился после всего, что они перенесли зимой, а теперь приближалась летняя жара, и положение их вряд ли улучшится – здесь, в тесноте, под самой крышей, которая будет нагреваться на солнце… Если б не Евдоко, им пришлось бы совсем худо, может, и не выжили бы…
– Много Господь дает этой девушке, – задумчиво произнес Феодор, – очень много…
– Ты о ней, отче? – спросил Николай, кивая на письмо.
– Да. Высоко полетит… Если лукавый не затянет в свою сеть.
– Так и все бы высоко летали, если б не сети бесовские.
– Да, но ее тут подстерегает особенная опасность…
Игумен умолк. Николай принялся свертывать письмо, чтобы запечатать, но вдруг остановился и спросил:
– Это то, что она богата?
– О, нет. Богатых много, и немало из них спасается… Ты просто никогда не видел ее, Николай. И пока, – Феодор взглянул на него, – я бы и не допустил тебя до свидания с ней, даже если б это было возможно.
Николай вспыхнул и опустил голову.
– Понимаю, – сказал он тихо. – Она красива.
– Сказать, что госпожа Кассия красива, значит ничего не сказать. Когда я видел ее в последний раз, ей шел только одиннадцатый год, но она уже поражала. Сейчас, говорят, она поражает еще больше. Госпожа Марфа писала, что даже боится… Вот и я боюсь…
Игумен замолчал и закрыл глаза. Николай залепил воском письмо и, отложив в сторону, задумался.