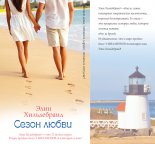Самая страшная книга 2015 (сборник) Гелприн Майкл

– О, – говорит, – малышня! Вы откуда тут взялись? Ночь-полночь на дворе, а вы? Здесь, наверное, дом ваш где-то рядом? Отлично. Повезло мне! Я уж думал, до самой границы дойду, никого людей не встречу.
Мы с Хромым и слова не успели сказать – стоим, таращимся на него. А он все тарахтит, весело так. Видать, вправду нам обрадовался.
– У меня, – говорит, – машина заглохла. Тут неподалеку, я ее на дороге бросил. Хотел помощь найти – мне показалось, я по тропинке какой-то шел, и вроде там даже был кто-то, пыхтел впереди меня. Я его звал-звал. Но он от меня убежал.
Мы с Хромым переглянулись – понятно теперь, где хряк. Далеко, скотина, удрал. Не догоним мы его сегодня. А парень себе тарахтит:
– Я за тем чудаком пошел, да не догнал. А потом как-то сразу в темноте и заблудился. Я вообще-то в лесу не очень привык. В городе вырос. Сюда так только на итюды приехал. Мне друзья посоветовали – мол, здесь места красивые, дикие. Да вот машина заглохла. Даже не знал, что и делать. Но, по счастью, вы, малышня, мне попались. Теперь выведите меня отсюда к вашему папаше. Думаю, папаша ваш мне поможет машину починить. Вряд ли там что-то серьезное. Скорее всего, так, ерунда. Свечи отсырели или что… Я там в лужищу какую-то въехал с разгону, думал, застряну. Нет, не застрял. Но машина заглохла…
И тут он, наконец, дал себе передышку. Глянул на нас – а глаза у него синие-синие, даже при свете тусклого фонаря видно, какие яркие. Красивый такой парень. Прям вот как есть сказочный принц.
– А чегой-то вы, – говорит, – молчите оба? Языки проглотили?
Подошел к нам, присмотрелся повнимательнее. Улыбаться перестал.
– Вы, – говорит, – случайно, не немые? Ну-ка, девочка, как тебя зовут?
Взял меня за плечо.
– Я, – говорю, – не девочка никакая. Я пацан.
– Да ну? – Принц прям растерялся. – А что ж ты в платье ходишь? Впервые вижу, – говорит, – чтоб мальчишка в девчачьем платье ходил. Что у вас тут за дела такие? Или вы из дома убежали, что ли?
Ну вот как тут ему объяснить? Вылезет какой-то чужак из лесу, наткнется на тебя с бухты-барахты, и нате, выложите ему все сразу на тарелочке! Да как?!
Не знаю как. Не знаю почему. Но тут пнуло меня что-то изнутри под дых, и будто кадку с помоями расплескало. Все из меня полилось наружу. Во всех подробностях про мою поганую жизнь.
Про то, что сирота давно. Из детства своего почти ничего не помню. Иногда, когда сплю, одну и ту же картинку во сне вижу: пацаненок маленький, в красных штанишках и белой рубашечке, едет на трехколесном велике в темноте. Впереди у него свет – яркий такой, белый-белый. Это там дверь какая-то открыта, и изнутри тот свет бьет. Вокруг мрак кромешный, ничего не видно, но и свет этот такой, что в нем ничего не разглядишь. Не освещает он, а только слепит… Пацан едет, педали крутит, они скрипят. Куда он едет? Зачем? И кто там ждет его, за этим светом, – ничего я не знаю. Но такая меня жуть забирает от скрипа этого велика, аж в пот бросает, и просыпаюсь я в слезах и соплях. Кто этот малец на велике? Да хрен знает. Может, я сам?
Вот это все я ему зачем-то рассказал. И о своих кошмарах, и о том, как на ферме оказался. О том, что последние мои приемные мамаши – они обе требовали, чтоб я их мамами называл. Мама один и мама два. Они женаты были друг на друге. Даже бумажку мне какую-то с печатями показывали. Но мне это по барабану. Хотят в свои игры играть – пускай. Еще эти старые дуры хотели, чтоб я для них был девочкой.
Они мне платья покупали и надевали белые колготы, а волосы мыли специальным шампунем, чтобы росли мягкие и шелковистые, как у девчонок. А я что? Мне по фигу. Девочек, по крайней мере, не бьют так, как пацанов. Предыдущие родители мне жрать не давали, если я шумел или бегал. Еду мне наливали в собачью миску, а вместо воды заставляли горький кетчуп лакать, если услышат вдруг, что я плохими словами ругаюсь. Чтоб мне язык как следует прижгло за грехи.
Так что эти две мамы меня, в общем, даже устраивали. Сюсюкали они противно, но это ничего, это терпеть можно. А на ферму я попал из-за их соседки. Надо ж было ей влезть в чужие дела! Она, зараза, медсестрой работала и как-то случайно узнала, что эти мамы меня таблетками специальными кормят. Таблетки, чтоб мальчика в девочку превратить. Гармоны – кажется, так они называются?
Ну она сказала про это моим мамашам. Про то, что все знает. Они перепугались: дескать, из-за меня их под суд отдадут. Подумали, посоветовались – и потихоньку сплавили меня к Хозяину с Хозяйкой на передержку.
Хозяева раньше звериную гостиницу держали. Хозяин, он вроде как ветеринаром когда-то был. Поэтому, если что, лечит нас сам, в больницу к доктору не возит. Говорит – глупости, лишний расход.
Ну вот, они собак сперва передерживали, а потом на детей перешли. У них этот остолоп Михей – он как раз тоже приемный. Его кто-то когда-то поленом по голове шваркнул, и с тех пор он такой идиот. Здесь на ферму многие приезжают, чтоб детей оставить – приемных или купленных. Бывает, больные попадутся, а на что они такие кому нужны? Или не больные, а вот как Ханна или Очкарик был – слишком умные. Тоже надоедает. Случалось, кого-то отсюда, наоборот, забирали. Но это редко, и тоже ничего хорошего. Когда забирают – это еще хуже иной раз, чем тут. Я сам не знаю, но от Очкарика такое слышал, даже повторять не хочу…
Ну а Хозяева и от тех, и от других денежки получают – от тех, кто привозит, и от тех, кто увозит. И от тех, кто тут, на месте, пользуется. Как Жирдяй, например, Ханной.
А кроме того, мы еще и по дому работаем: убираем, стираем, посуду моем. Все, что Хозяйке лень самой делать, – все на нас спихивают. Со свиньями вот… И в огороде. И в парниках.
– Постой, постой, – Принц разноцветный слегка ошалел от моего рассказа. – Что-то я ничего не понял, что ты тут несешь. Хочешь сказать, на вашей ферме одни дети работают? Такие вот малявки, как ты? Малыш, да тебе сколько лет?
– Мне, – говорю, – одиннадцать. А Хромому – восемь.
– Обалдеть, – парень говорит. Волосы надо лбом взъерошил, одну прядь на палец накрутил. Хотел на землю сесть. Только земля-то холодная. Ноябрь как-никак. Ну, он на корточки сел. Смотрит на нас круглыми глазами.
– Так, – говорит. – А как же социальные работники? Учителя? Они-то знают о том, как вы тут живете?
– Какие, – говорю, – учителя?
– Так вы, значит, и в школу не ходите? Ваш опекун не возит вас?
Мы с Хромым вместе плечами пожали: нету тут никаких школ поблизости, и опекунов нету. А возить нас куда-то в школу – какому дураку надо? Это ведь Хозяину лишние траты. К тому ж мы и так все, что надо, умеем уже. За свиньями ходить – дело нехитрое. Противно только.
И тут я по лбу себя как хлопну!
– Стоим, – говорю, – как дураки. А хряка-то кто искать будет? Хозяйка жрать не даст и в дом не пустит, если хряка не приведем. Пошли, – говорю, – Хромой.
– Нет!
Парень вдруг вскочил, схватил нас за руки и потащил куда-то за собой.
– Никаких хряков! – говорит. – Я с этим разберусь. Ведите меня к вашему Хозяину! Надо бы мне с ним потолковать.
Мы с Хромым обалдели. Не поняли, чего он такой психованный вдруг стал. И у него, как оказалось, не выдерешься: руки цепкие, пальцы железные. Прям рассвирепел чего-то.
Я растерялся даже. Ну, правда, вякнул ему, что если он на ферму хочет, то в другую сторону повернуть надо. Он послушался. Повернул и потащил нас обратно.
А я как чуял. Не хотел я, чтоб он на ферму попал. Жалко мне его чего-то стало, ну прям до ужаса! Засвербело у меня что-то в груди, вот тут слева – аж горячо и больно стало. Я как заору:
– Нет, нет! Не ходи туда! Хозяин тебя убьет. И нас убьет, и тебя прикокнет, не поморщится! Ты, – кричу, – Михея-идиота не видел, а я видел! Он тебя кувалдой по голове оглушит и свиньям скормит. Что ты, не понимаешь, что ли?! Нельзя тебе на ферму идти!
Запсиховал я, короче. Сам даже от себя не ожидал. Не знаю, что со мной такое сделалось, но вот стою я в этом лесу, а сам вижу, будто сон наяву смотрю, как этот чудной парень с синими глазами в нашем свином загоне лежит. Голова у него молотом размозжена, кровища сползает с виска густая, как кетчуп, и заливает эти его необычные синие глаза. Только не живые они уже, а стеклянные, и мухи по ним ползают. А свиньи вместе с хряком рыла повыставили, пятачками водят, нюхают воздух и подбираются ближе… Жрать хотят, твари. Челюстями пожевывают, хрумкают, чавкают, аж за ушами у них трещит от удовольствия. Им, заразам, все равно что жрать – собачье мясо или человеческое. Или такого вот принца-дурачка.
Короче, ору я, а самого трясет, как будто голый электрический провод рукой схватил. Парень даже испугался. Обнял меня… Я тебе клянусь – обнял! Прям как братишку родного. Гладит меня по голове, успокаивает.
– Ну чего ты, чего? – бормочет. – Чего ты перепугался? Ничего мне никто не сделает. Не позволю я никому ничего сделать ни с собой, ни с вами. Ты что думаешь, я хлюпик, что ли, какой? Это я только с виду. А на самом деле я знаешь, о-го-го-го! Я карате занимался. И боксом. А кроме того, еще и чемпион школы по бегу когда-то был. И по плаванию.
Тут я как заржу. Ну вот при чем тут плаванье? Где он тут плавать собрался на нашей ферме? Хромой не понял, почему я смеюсь, но за компанию захихикал. А парень видит, что мы ржем, и тоже как давай хохотать!
– Тьфу ты! – говорит. – Напугали вы меня, дуралеи! Бестолочи. Ты лучше скажи, как тебя зовут?
– Меня? Крысеныш.
У парня глаза на лоб.
– Чушь, – говорит. – Не бывает такого имени у человека. Я про настоящее имя спрашиваю. Ну там… Как тебя папа с мамой звали?
– Какие, – говорю, – папа с мамой? Первые или вторые? Которые мамаши?
Мне и того смешнее стало. А он задумался. Вздохнул.
– Ну ладно, – говорит. – Знаешь, вот у индейцев… У них было принято, чтоб мальчик, когда вырастает, сам себе имя выбирал. Какое нравится. Или подходит больше всего. Или такое, чтоб счастье приносило. Они считали, что имя влияет на человека.
– Как это?
Хромому тоже интересно стало, он даже забыл руки от холода тереть. Руки у него почему-то всегда сильно мерзнут. Вечно красные, как лапы у гуся, и все в цыпках.
– Ну, например… Если парень быстро бегает, он может взять себе имя Быстрый Олень. Или хочется ему, чтоб все на него обращали внимание, – назовется тогда Грозовой Тучей, скажем. Ну или просто – Медведь. Чтоб все медведи в лесу за брата его считали. Понял?
Мы с Хромым кивнули. Чего не понять? Кликуха, только наоборот. Не плохая, не обзывательская. А хорошая.
– Ну так какое бы ты себе имя взял, если как у индейцев? Вот ты.
Я подумал, затылок почесал и говорю:
– Невидимый.
– Такое имя – Невидимый? – удивился парень.
– Да, – говорю. – Было б хорошо, если б никто никогда меня видеть не мог. Мне ничего другого не надо. Чтоб только в покое меня оставили. Не трогали бы никто.
– А я, я б хотел Медведем быть, – Хромой влезает в разговор. – Я в лесу тогда поселился бы. И не хромал. Медведи ведь не хромают? У них ведь целых четыре ноги.
– Да, – говорит Принц, а сам странный какой-то. И не нравится мне это ужасно. – Медведи не хромают. Ну ладно! В общем, я что, пацаны, хотел сказать? Невидимый и Медведь. Я вам честное слово даю и, можно сказать, клянусь – ничего с вами хозяева не сделают. И со мной тоже. Я просто приду к ним и поговорю. А там поглядим. Может, что-нибудь придумаем. Разберемся с этой вашей фермой. Обещаю. Идет?
– Слово принца? – говорю.
Он сперва удивился, потом, видно, сообразил что-то, засмеялся, закивал.
– Ага, – говорит, – слово принца. Давайте ведите меня. Иди вперед ты, Невидимый. А ты, Медведь, устал, наверное. Давай я тебя на руки возьму, иди сюда, а то, боюсь, свалишься ты, брат, на ходу. В куст какой-нибудь вломишься и заляжешь там в берлогу до весны дрыхать…
Хромой засмеялся, потянулся к Принцу. Но тут, откуда ни возьмись, рука Михеева вынырнула из темноты и цап Хромого за шкирмон.
И голос Хозяина:
– Вот вы где, паразиты, лентяи чертовы. В лесу ошиваетесь. А хряка кто будет искать, а?
И бац – подзатыльник с размаху мне как залепит. Я чуть землю носом не запахал; если б не Принц, упал бы как пить дать. А так только ткнулся мордой в тот деревянный чемоданчик, который у него на ремне через плечо висел, – что-то там загромыхало, да так, что Михей аж подпрыгнул с перепугу.
Принц меня рукой придержал, чтоб я с копыт не сверзился. И говорит тихо так – а голос у самого звенит, как у комара, когда тот кусаться летит:
– А позвольте узнать, господа, кто вы такие и почему бьете этих детей?
Тут только до Хозяина доперло, что рядом с нами кто-то чужой стоит. Разглядел Принца. И давай петь, и все этаким обиженным голосочком – мол, вы меня не за того приняли:
– Никто тут никого не бьет, господин хороший. А детям этим давно в постель пора, разве не понятно? Заботимся-мы-об-их-здоровье-и-душевно-нравственном-состоянии. Только и всего!
У него и Хозяйки подобные фразочки будто бы заранее в голове записаны и в клубочек смотаны. При нас они ими, конечно, не пользуются – ни к чему им. А вот при чужих эти клубочки сами собой разматываются, только дерни за ниточку.
Теперь-то я знаю, кто их там за ниточку дергает. У них даже глаза какие-то косые делаются, когда они такими фразами говорить начинают.
– Вы, – говорит Хозяин, – молодой человек, не волнуйтесь. Не стоит. Мы вот с вами попросим сейчас моего сына Михея отвести этих непослушных детей в их комнаты, потому что им ведь давно пора спать. А вас прошу пройти со мной в дом. Я вас со своей Хозяйкой познакомлю. В спокойной обстановке все обсудим. Мы там на дороге какой-то автомобиль видели. Правда, Михей? Это не ваш, случайно? Вы один тут или с друзьями? Вам, наверное, помощь нужна? С нашей фермы можно механика вызвать. Пойдемте с нами, молодой человек.
Я на Принца смотрю и, чувствую, слезы у меня из глаз вот-вот хлынут. Щиплет глаза невозможно как. А Хромой побелел лицом, испугался и тоже, гляжу, хныкать намастырился: рот распустил, аж слюни закапали. Принц нахмурился, глянул на меня, на Хромого. Кивнул, типа, ничего-ничего, я все помню, держись, пацаны. Сжал губы и машет головой – пошли, мол! Двигай.
Ну мы и пошли.
Хоть про хряка сразу все забыли.
Я еще подумал – может, все и обойдется в этот раз? Все-таки Принц. Я уже вроде как и сам поверил, что тот парень – настоящий принц. Разноцветный принц из разноцветной сказки. А у нас тут сказки-то все одинаковые, на один серый манер.
Как из леса вышли, Михей нас с Хромым сразу направо, в наш барак завернул. А Принц за Хозяином влево пошел, к дому. Там в кухне на первом этаже свет горел, и собаки в вольере тявкали. Принц нам рукой на прощание помахал и еще кулаком вот так сделал. Не знаю, что это означает. Наверно, что-то хорошее. Может, хотел напомнить, что он чемпион по бегу и плаванию? Может, так все чемпионы делают? Или принцы. Не знаю.
Больше мне с ним поговорить ни разу не довелось, так что спросить не мог. Ты случайно не знаешь, что это значит, когда кулак вот так сжимают и так вот рукой вверх? Нет? Так я и думал.
Что дальше было?
А дальше уже не очень интересно. Это ж тебе не сказки. Я ведь тебе все как есть объясняю. Чтоб ты просто понимал, в каком мире живешь.
…Короче, когда вернулись мы в барак, Михей с нами даже разговаривать не стал – Хромому по затылку съездил, и он вырубился. А меня за то, что старший и что хряка мы так и не поймали, да еще с чужаком в лесу разболтались, к столбу привязал да розгой оттянул вдоль спины.
Хорошо так оттянул, неслабо. Мне показалось, что он мне спину распорол и позвоночник выдрал, до того больно было. Свалился я на свою подстилку и головы поднять не мог. Всю ночь спина у меня горела. Только и думал о том, чтоб водой бы ее кто затушил, что ли, а то сил нет терпеть.
Так и заснул. Огонь мне снился. Будто какой-то огромный клоун развел на моей спине костер и бегает вокруг, руками размахивает – счастлив, что одни уголечки скоро от меня останутся. Радуется и знай дрова подбрасывает. Одним поленом по уху звезданул. Тут я и очнулся. Смешно? Смейся, малявка. Если б ты только знал, что сон мой был в руку. Вещий – так это называется. Но ты не перебивай. Ты дальше слушай.
Открыл я глаза и вижу, что никакое то не полено было, а это Очкарик покойный – царствие ему небесное, хотя тогда он еще был жив, – надо мной стоит, трясет меня. Морда встревоженная, весь какой-то встрепанный, на себя не похож…
– Чтой-то, – говорит, – когой-то вы сюда привели с Хромым?
Я говорю:
– А что такое?
– Они с Хозяином всю ночь препираются. Ничего себе парень! Въедливый, как оса.
– Приятно, – говорю, – слышать. Пусть знают настоящего Принца!
– Да что ты понимаешь, – кипятится Очкарик. – Принц. Дурак он, твой принц! Нарвется же… На Михея нарвется. На его кувалду. Как есть дурак!
– Не без этого, – говорю. – У принцев это дело обязательное. А чем бы иначе они от обычных людей отличались? Они все такие. Храбрые, как психи. Он, между прочим, еще и чемпион, чтоб ты знал.
– Чемпион? По чему чемпион?! – вопит Очкарик. – По идиотизму, что ли?
– По плаванию, – говорю. – И по бегу еще.
И ухмыляюсь, как дурак. У меня даже спина не так болеть стала, до того мне за своего Принца весело вдруг сделалось. Вот, мол, какой он у меня. У меня! Ха! Как будто что-то в этой жизни может быть у такого как я, мое.
Но это я сейчас понимаю, что глупости нес. А тогда… Тогда Очкарик со мной чуть не разругался. За то, что я Принцем этим горжусь. Да, так он сказал.
– Что ты, – говорит, – своим Принцем гордишься? Как будто он такой герой и нас всех тут сейчас с фермы на свободу выведет! Или нет, даже не на свободу.
А домой. К настоящим родным, к папам-мамам, бабушкам-тетушкам. В семью. Ага?!
– А что? Может, и выведет!
Дурак я тогда был. Хуже тебя сейчас. Но уж больно я в этого Принца поверил. Что он со всеми этими гадами справится. Всех победит. И все такое. Да-а-а.
Очкарик передо мной бледный сидит, пальцы свои терзает. У него привычка такая дурацкая была – кожу на лапах себе крутить, когда волнуется. Сидит и щиплет сам себя до синяков.
– Ты про Ханну-то зачем ему рассказал? – говорит.
– А что? – спрашиваю.
– Как – что? Ты понимаешь, этот кретин уже потребовал, чтоб ему Ханну предъявили. Назвался он им каким-то там «добровольцем-инспектором по заступничеству за детей-сирот» и канифолит Хозяйке мозги, что, мол, должен он своими глазами увидеть, как тут девочке живется. Жалобы у нее принять, если имеются.
Я прям захихикал, клянусь! Ничего себе, думаю, у Принца разноцветного фантазия. Почище, чем у Хромого или Очкарика. Надо ж, какую штуку завернул. А что, может быть, и сработает? Но Очкарик смотрит на меня и головой качает.
И тут до меня допирает. Все бы хорошо, но Ханна! Действительно, зачем я ему про Ханну рассказал? И про Жирдяя-на-Джипе, помнится, тоже. Зачем?!
– Я так понимаю, про то, что Ханнины косточки давно под свинарником зарыты, про это ты ему забыл упомянуть?
Голос у Очкарика ядовитый – ни дать ни взять кобра. Такая, которая ядом плюется.
Я чуть не завыл в голос. И ведь действительно так: забыл! Ну правда. Как из головы вылетело. Я ведь с головой-то своей давно не в ладах. И болит она у меня, и многое забываю.
А Ханна… Я про нее часто, как про живую, думаю. Даже и до сих пор. Все время почему-то забываю тот день, когда к ней в последний раз Жирдяй приезжал. Хозяйка послала меня с Очкариком ее искать, и мы искали. Долго искали. Жирдяй уже злиться начал. Все бегал, хлопал дверями своего джипа. Какие-то фотоаппараты туда-сюда таскал. А мы все Ханну искали. По-настоящему.
Но нашел ее Косорыл. Он всегда знал, где она прячется. Оказалось, на сеновале она. На балке висит, и ноги босые всего-то в паре сантиметров от земли болтаются. Как будто Ханна на цыпочки хотела встать, подпрыгнула, взлетела вверх, а назад, на землю, не вернулась.
Это в первое, самое первое мгновение мне так показалось. Потом – нет. Потом я ее лицо увидел. Опухшее, не Ханнино совсем лицо. Язык синий, набок свесился. Под ногами лужа вонючая. И веревка на балке раскачивается и скрипит, скрипит. Страх, в общем, и гадость.
Достал ее Кракен. Ханна, она слишком хорошая была. И уже почти большая. Душу ее Кракен забрать не сумел, а убить – сумел. Теперь-то я это знаю. А тогда… Чего только ни думал, аж голова у меня трещала по ночам. Нет, не хотел я про это помнить.
Вот потому и Принцу забыл рассказать. А он теперь из-за меня в ловушку угодил. Потому что, если Хозяин вдруг заподозрит, что Принцу нашему по-настоящему что-то известно про здешние дела – они с Михеем точно его порешат и свиньям скормят. Хоть он и чемпион по плаванию десять раз.
Мне от этой мысли прям дурно стало.
– Иди, – говорю, – Очкарик! Иди скорей. Подслушай еще, о чем они там говорят. И если что, беги сюда. Я сейчас встану, всех соберу. Обскажу им про все, объясню. Не хочу я, чтоб Принца убили. Может, если мы все туда придем и скажем, что нельзя Принца убивать…
– Да куда тебе вставать! – Очкарик говорит, а сам чуть не ревет. – С ума ты сошел. О себе подумай. У тебя ж спина вон вся в крови. А ты о Принце думаешь!
– Миленький, – говорю, – Очкарик. Ты за меня не заморачивайся. Я твердый орешек. Меня разные папы-мамы били и мамы-мамы травили – ничего со мной не будет. Ты иди, тихонечко подберись, послушай, что там делается… Главное – вовремя свистни на подмогу. А я сейчас… Давай двигай!
Очкарик только глянул на меня – понял, что я не отступлю. И убежал.
А я потихоньку поднялся; кровь, зараза, запеклась, и одежда к спине присохла. Надо снять, а не могу – больно, будто кожу с меня живьем тянут. Я вдруг вспомнил, как, бывало, ящериц, сереньких таких, юрких, как змейки, в поле ловил, а они, если неправильно их схватишь, хвосты отбрасывали. Впервые подумалось: больно же им, наверное, когда приходится вот так собственный хвост от себя отдирать да бросать. Раньше мне это в голову не приходило. А тут я этих ящериц крепко пожалел. Когда начал сам, как та ящерица, выползать из присохшей одежки, будто из собственной кожи выдираться… Ужасно больно было. Но иначе-то нельзя. Потом, когда отодрал, полегче все же стало.
Вышел я из барака взглянуть, где там наши все. Косорыл у ворот сидит, башкой во все стороны вертит. Меня увидел – расплылся в улыбочке. Я ему помахал рукой, он сразу прибежал, мычит чего-то.
Я ему велел, чтоб он мне бумагу и карандаш притащил. Я знаю, у него есть. От Ханны остались. Косорыл хранил ее альбом и два карандаша в каком-то своем тайнике.
Он удивился сперва, но потом увидел, что я нисколько не шучу, что мне очень надо, и послушался.
Вынул один листочек из альбома и карандаш принес. Я написал записку ребятам, что жду всех срочно в нашем бараке. Чтоб были все как штык, обязательно. Написал, что это мой им предсмертный завет. Очень я серьезно настроен был тогда.
С этой запиской я послал Косорыла. Чтоб он всем ее показал и собрал наших. А сам сел ждать Очкарика у входа в барак. Отсюда мне видны были еще собачьи вольеры во дворе. Боялся я, что, если чего, Михея Хозяин пошлет за своими зверюгами – на Принца натравить. Надо этот момент не упустить, не прошляпить.
Сидел я, волновался ужасно. Так переживал – даже о жратве забыл, хотя с прошлого вечера не жрамши. Все на солнышко пялился. Небо серое, как свинцовое плита, а солнышко все-таки как-то через эту хмарь пробивается – винтится теплыми лучиками в серую стенку. Будто лампочка сквозь грязную занавеску просвечивает.
Думал я об этом упрямом солнышке, мечтал… И так высоко мои мысли забирались – как стрижи в поле – под небеса. В таком я был необычном помрачении тогда. Дурак, что взять.
И вдруг вижу: въезжает, громыхая на повороте, во двор машина. Яркая, спортивная, хотя и не новая, но красивая. Капот какими-то драконами разрисован. Ни разу эту машину я на ферме не видел.
Вылезает из машины хмырь в рабочем комбинезоне, дверцей хлопает и машет рукой в сторону кухни. А из дома выходят навстречу хмырю Хозяин с Хозяйкой, Михей-идиот и… кто бы ты думал? Принц. Собственной персоной. Причем все улыбаются друг другу, как родные. И разговаривают с такими дружелюбными мордами, ни дать ни взять – лучшие приятели.
Хоть я и зырил на них издалека, со своего места, но все же мне хорошо видно было – улыбаются, да. И Принц улыбается.
Я его пилю взглядом, а он даже головы в мою сторону не повернет. Будто и нет меня. И никогда на свете не было.
Вот в это мгновение я и подумал, что был, наверное, неправ: выдумал тоже имечко – Невидимый! Разве можно человеку такого для себя желать, чтоб никто на него внимания не обращал? Нет, нету в этом ничего хорошего.
По крайней мере в тот момент почувствовал я ужасную обиду. Даже, каюсь, вякнул чего-то в ту сторону – так захотелось заставить их всех посмотреть на меня. Чтоб увидели. А главное, чтоб Принц поглядел. Чтоб заметил. И вспомнил.
Но он не поглядел, нет.
Он снял с плеча свою сумку и деревянный чемоданчик, швырнул в машину, руку Хозяину и хмырю пожал, Хозяйке кивнул. Сел за руль и уехал. Даже не оглянулся ни разу.
Лицо у него было мрачное. Неживое какое-то.
Стоял я и смотрел ему вслед, как дурак. Даже не знал, что и думать. Вот так.
А потом пришел Очкарик, Косорыл с ребятами прибежали. Не знал я, что им сказать. Сидел и только смотрел и смотрел куда-то в пустоту. На дорогу. На серое небо. Странное это было чувство. Сижу, и никаких мыслей у меня в голове нет. Только усталость. Но это даже хорошо.
Знаешь, бывает такая усталость, что даже боли не чувствуешь нигде. В голове шумит, все тело ломит и зудит, но тебя самого как будто нет. Вывалился из этого мира и лежишь отдыхаешь. Как сломанная кукла.
А потом Очкарик ко мне подсел, локтем пихнул.
– Ну че ты, – говорит. – Ну Принц. Нормально же с ним все. По крайней мере обошлось. Ты ж хотел, чтоб с ним ничего не стряслось. Ну вот с ним и ничего…
– Ничего, – повторяю, как попка. А сам и не понимаю, что говорю. – Ничего.
А ребята стоят и смотрят на меня. Тоже не понимают. Но видно, что им страшно.
Очкарик носом дернул, говорит:
– Они у него в багажнике какую-то траву нашли. Пригрозили, что в полицию сдадут. Тогда он свою художественную академию уже не закончит. Они все про него узнали – имя, где живет, где учится. Местная полиция постаралась. Один с утра уже приезжал. Пугнул его. Они ж все здесь долю свою имеют. И полиция, и опека, и муниципалы. Жирдяй, он знаешь кто?
Я отмахнулся. Мне все равно, кто такой Жирдяй. Мне важно, что Ханну он до смерти довел. А кто он, мне до лампочки.
А Очкарик свое продолжает:
– Ты знаешь, говорит, как Хозяин свой бизнес от прежнего владельца перенял? Задешево купил. А все почему? Тот, предыдущий Хозяин, который первым тут все устроил, он чуть было в тюрьму не загремел. Парень ему какой-то попался, сын шишки из соседнего города.
Этого мальчишку семья искала, и уже полиция на след вышла, что его сюда, на ферму, кто-то сплавил. Вот и нагрянули. А тут… сам понимаешь. Ну и прошлый Хозяин уж думал в бега податься. Но тот, что в местной полиции главный, уломал его. Чего ты, говорит. Зассал, что ли, перед залетными? Мы их уделаем. Те собрались, понавезли сюда каких-то социальных комитетов, комиссии понаехали… А на ферме – опаньки! Никого уже и нет. Ни единой души. Кроме Хозяина с Михеем. Но этот идиот, ты ж знаешь, не разговаривает. Да, он с той, прежней партии еще остался. Один. А всех остальных ребят… Они их в лес вывезли, на Дальние Топи. И там положили. В болотной воде тела быстро гниют. Никто их там не найдет. И никто ничего не докажет. Никогда. Хромой услышал все это, заревел. А я говорю:
– И откуда ты, Очкарик, – говорю, – все знаешь?
Он плечами пожал.
– Слышал, – говорит Очкарик – он, правда, подслушивать мастак был.
Я говорю:
– А объясни ты мне, Очкарик, если ты такой умный и все знаешь. Объясни ты мне: почему все это с людьми происходит, а? Как так может быть, что люди друг другу делают больно, невыносимо больно… А за что? Мне, – говорю, – сегодня даже ящерицу жалко стало. А почему, – говорю, – нас-то никто на свете не жалеет? Как такое может быть, а? Скажи, если ты умный!
Очкарик весь сжался в комок. Лицо у него стало задумчивое. А мне чего-то все по фиг – я на него ору, как псих. Как принц какой-нибудь. Даже не страшно, что Михей или Хозяин услышат. Внутри у меня такая вдруг болючая боль образовалась – думал, все, конец мне пришел. Сейчас как лопнет, как взорвет меня изнутри. Не знаю, что пацаны чувствовали, но они тоже на Очкарика уставились совсем не ласково. Даже Хромой, и тот на эти очкариковские очки с потресканными стеклами вызверился, будто именно эти стекла вообще во всем на свете виноваты.
И вот тут Очкарик наконец раскололся по-настоящему. Подумал, помолчал и говорит.
– Я, – говорит, – знаю почему. Я просто боялся раньше, что вы мне не поверите. Да и пугать вас не хотел. Но теперь, раз уж такое дело, слушайте и запоминайте. Я вам все расскажу. Я это однажды в одной очень старой книге прочитал.
Давным-давно, когда Земля еще только начиналась, на дне моря-океана выросло огромное чудовище: Кракен. Весь он полужидкий и прозрачный, как морская вода, и огромный, будто остров. Нет у Кракена ни рук, ни ног, а только щупальца и огромный мозг. Нечеловеческий и страшно злой.
Всю рыбеху на дне моря Кракен сожрал, но ему мало просто жрать. Ему еще надо, чтобы развлекаться. Поэтому придумал он питаться людьми. Сперва он притягивал к себе корабли и губил все живое на море. Потом стал выманивать людей поближе к берегу и поедал их души. Люди, которые ему попадались, становились без души пустыми, как тряпичные куклы, которые на руку надевают. Ими Кракен и стал играться. Души у него нет, поэтому он бессмертный. За миллионы лет все время одно и то же… Скучает Кракен, ему нужно все больше и больше людей. Они ж ему быстро надоедают, как старые игрушки.
Вот он и ловил людей, прилипал к ним и высасывал. А эти высосанные люди возвращались с виду такие же, как раньше. Зато внутри… Внутри у них у всех был уже Кракен. Он ими управлял и продолжал играться и приманивать других людей, все время свеженьких, и пожирать их для своего удовольствия. Давно уже весь наш мир принадлежит этому Кракену. Он везде. Везде высосанные им люди, его слуги. У всех у них нет души, одна черная бездонная яма – Кракен, жадная и жестокая сволочь. Сколько раз я здесь, на ферме, это видал. Приходит с виду обычный человек… Много их тут перебывало. Инспекторы санитарные. Случайные туристы. Полицейские. Приемные родители. Нормальные вроде бы люди. А потом – хлюп! Посидит на их кухне полчаса – и глядишь, нет человека. Как устрицу они его вскроют, и дело сделано. Кончено. Только Кракен внутри сидит, от удовольствия раздувается. Так и с Принцем твоим было. Я просто тебе говорить не хотел. Знал, что расстроишься.
– А почему же, – спрашиваю, – почему с детьми так не бывает?
– А какой ему интерес тебя жрать? – Очкарик говорит. – Мелюзга, она и есть мелюзга. Ни вкусу, ни смаку. Он ждет, когда ты подрастешь.
– А взрослые почему не убьют его?
– Сам рассуди, дурья твоя башка. Как они могут убить то, во что не верят? Ведь люди, когда вырастают, они уже много чего по-другому видят. Кому из взрослых про Кракена расскажи – только посмеется. Кракен этим и пользуется. Он, гад, страшно радуется, что его несуществующим считают. Так ему проще к человеку подобраться.
Да. Вот так Очкарик и открыл нам всем глаза.
Он умный, Очкарик. Книг когда-то уйму прочитал. Правда, ему самому это нисколько не помогло – уж больно он был хилый. И растяпа.
Спустя месяц после того случая споткнулся он в свином загоне, в ногу щепку какую-то вогнал, до крови. А потом у него нога почернела, запузырилась вся. Главное, он сразу понял, что помрет, Очкарик наш. До того умный был.
Сказал: ребята, это у меня гангрена, от этого, мол, помирают. И ведь так и случилось. Два дня всего в горячке пометался и умер, не приходя в сознание. Хозяин тогда кобеля Гектора на выставку куда-то возил, не было его на ферме. Хотя кто его знает – может, и Хозяин ничем Очкарику не сумел бы помочь.
В общем, сгинул наш Очкарик.
Но про Кракена он нам подробно рассказал. Спасибо ему. Лучше все-таки знать про мир, в котором живешь. А иначе свихнуться можно.
Ты реветь-то, малявка, перестань. Тебя еще никто тут не жрет. Научись быть тихим – дольше проживешь. Понял?
Не знаю, как ты, а у меня есть одна мечта. Я ведь как думаю? Вот взять, например, меня. Я про Кракена знаю. И ребята знают. И ты вот, хоть и малявка, тоже теперь в курсе его делишек. Если мы в живых останемся, вырастем, сил наберемся. Может, и получится у нас Кракена убить?
Ведь он, зараза, тоже когда-нибудь… захочет вылезти на свет, поразмяться. Сунется – тут-то мы его и прихватим. Вызнать бы только в точности, какой он…
Если он мягкий, как дождевой червяк, так я с ним наверняка справлюсь. А если у него панцирь на теле, тогда что? Тогда глаза ему, например, выдавить можно. Представь себе, вот было бы здорово – Кракена уконтрапупить! Всю мировую порчу свиньям на хрен скормить и под стенами нашего свинарника закопать. Вот это было б дело, скажи?!
Вот. Не знаю, как ты, а я лично в себе уверен: даже если трижды взрослым я стану, про Кракена ни за что не забуду. Разве можно такое забыть?
Правда, иногда, в самые несчастливые дни или ночью, когда долго маюсь без сна, лезет мне в голову пакостная мысль. Я ее отгоняю от себя, а она лезет, и зудит, и чешется, как вошь под рубашкой…
Какая мысль? Да такая. А вдруг, думаю, нет никакого Кракена на самом-то деле? Что, если Очкарик всю эту бодягу просто из головы выдумал? Навалил врак до небес, только чтоб нас тогда успокоить.
И вот тут-то мне по-настоящему жутко делается, до самых печенок эта мыслишка меня достает. Самое это страшное на свете – когда я думаю, что Кракена никакого нет.
Потому что, если его нет, значит, это сами люди такие. Сами по себе. А тогда… Как тогда вообще?
Ты-то что думаешь, а? Не знаешь?
Вот и я не знаю. Ну ладно, не реви. А то Кракен услышит. Эх ты, малявка!
Александр Подольский
Забытые чертом
Валенки семенили по хрустальной поверхности льда, в которой отражались детские лица. Привычный мороз за тридцать не давал скучать двоим друзьям. Самодельные клюшки отстукивали деревянную дробь, а голоса эхом уносились в туман.
– Ты не Третьяк! – вопил Леха. – Третьяк – вратарь!
– Ну и что! – не соглашался Мишка. – Он самый хороший игрок! Как и я!
Из мехового кокона показалась улыбка. Чуть съехавшая набок ушанка Лехи походила на растрепанную голову какого-то диковинного зверя.
– Да ты дырка! – подначивал Леха. – Спорим, два из трех забью?
– Ха! – воскликнул Мишка, протирая замерзшие под носом сопли. – Да ты и не добросишь, слабак!
Прочертив две линии на льду, Мишка занял место ровно посередке. Теперь мальчишка в почти невесомой куртке на гагачьем пуху превратился в настоящего вратаря.
– Ну попробуй забить, хвастун!
Леха отошел на более-менее приличное расстояние и ковырнул шайбу в сторону «ворот». Каучуковый диск, который, судя по виду, не раз жевала собака, приполз в распростертые объятия Мишки.
– Ха-ха! – радовался тот– И кто из нас еще неумеха?
– Это тренировка! – отозвался Леха. Он был годом старше и раза в полтора здоровее, так что на нехватку сил жаловаться ему было не с руки.
Второй удар вышел будь здоров. Шайба юркнула под ногой Мишки и зарылась в сугроб позади.
– Штанга! – довольным голосом заверещал Мишка, хотя прекрасно видел, что гол был.
– Что ты брешешь? – возмущался Леха. – Там до штанги еще километр!
– А вот и нет! Ты просто мазила!