Тайный код китайского кунфу Маслов Алексей
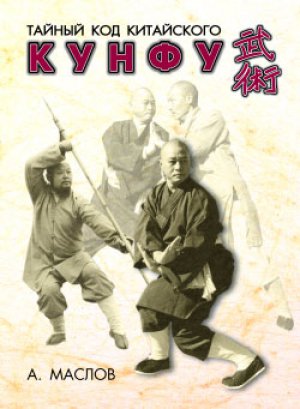
Иногда природные свойства понимались как внутреннее начало человека, его психика, физическое начало. Внутреннее предопределяется неизменным и неизбывным Дао, ушу же позволяет реализовать этот Срединный путь в жизни конкретного человека.
Мастерство в Китае, которое и было равносильно понятию «гунфу», — это восприятие мира, отличного от обыденного. Оно начинается с «прозрения собственной природы» (гуаньсин) благодаря «взиранию внутрь» (нэйгуань). Мир, распадающийся в сознании обычного человека на сотни несвязанных явлений, собирался воедино, и последователь прозревал «целостное Дао» (цюань Дао) и «достигал Единого». Мир приходил в свое изначальное единство, нерасчлененность, суть которого — глобальная Пустота. «Прозрение собственных природных свойств», «своего незагрязненного истинного лика», осознание себя как сверхбытийного, несубстанционального явления (не человека!), разлитого в природной естественности, приводит к ощущению собственной неотличимости от этой глобальной Пустоты. Приводя свой дух в покой и умиротворяя собственную природу, мастер сливается своим пустотным сознанием с Дао, и тогда каждое его движение обретает исключительную ценность, ибо оно и есть воплощение самого Дао, а не механический повтор чьих-то поучений. Лишь у мастера прием действительно исходит из сердца.
Эта распластанность человека в пространстве бытия, утрата личностного в обмен на вселенское и понималась в китайской эзотерике как «не-я» (уво), или «самозабытье» (ванво) — самоутрата в бесконечном потоке изменений. Ясно, что в этот момент перед нами предстает не человек, но воплощение «истины Небес». Так обучение ушу обращается в передачу мистической традиции.
Передача традиции в Китае есть всегда передача истины. Ложное не может передаваться, ибо является не Учением, но лишь его формальным исполнением.
В потоке вечного возвращения
Возвращение Абсолютного Учителя в каждом последующем поколении учеников — одно из самых мистических явлений в ушу, вещь, с трудом понимаемая обычным человеком, хотя это — стержень и нравственный идеал китайской традиции вообще. Как так: если человек умер, погибла его физическая оболочка, тело превратилось в прах — то что «вечно возвращается»? Душа? Дух? Людям, знакомым с языческой и христианской мистикой, это еще может показаться понятным, хотя некоторые возразят против самого факта возвращения каждой души. Но в ушу не об этом идет речь. Возвращается не просто абстрактный Учитель, возвращается его конкретная Личность. Возвращается не только в духе, не только в тождественности помысла и психотипа, но и в конкретных чертах лица.
Обучение бою с копьем
У конфуцианских философов, например, мы встречаем замечательные пассажи о том, как, услышав древнюю музыку, человек видит в мельчайших подробностях лик того, кто ее сочинил, хотя ему никогда не приходилось воочию сталкиваться с автором музыки, жившим за два-три столетия до этого. Мастер тайцзицюань Ян Чэнфу говорил, что когда он начинает делать комплекс тайцзицюань, рядом появляется Чжан Саньфэн (образ? лик? реальность?), который обучает и поправляет его. Создатель стиля багуачжан Дун Хайчуань учился у даосских небожителей, которые появлялись лишь в момент тренировки, причем он ясно видел их облик, одежды, мог описать даже тембр голоса — «низкий и медленный, очень глубокий».
И еще одна история из анналов ушу. Однажды великий мастер синъицюань Го Юньшэнь собрал своих учеников и сообщил: «Сегодня я решил, что мой путь по земле завершен, и я покину вас». Ученики были потрясены решением мастера умереть — умереть так просто и обыденно, при полном здоровье — и принялись уговаривать Го Юньшэня не покидать их. Го, усмехнувшись, заметил: «Напрасно печалитесь. Пока вы занимаетесь этим искусством, я буду жив».
Значит, учителю суждено возвращаться явленно и неявленно, и как образу и как реальной личности, как иллюзии присутствия и как доподлинной личности. В этом — величайший мистический факт передачи ушу.
Глава 6
Врата учения
Изучать ушу легко — заниматься им трудно.
Заниматься ушу легко — сохранять его трудно.
Сохранять ушу легко — постичь его трудно.
Мастер Хань Цзяньчжун (стиль мэйхуачжуан)
Школа — внутренний мир ушу
Естественно, что, говоря о мастерах ушу, нельзя не затронуть такую важную часть внутренней традиции ушу, как школа — основная ячейка, где передается учение. Сегодня можно услышать, как «школой ушу» называют обычный спортивный клуб, секцию, причем это понятие настолько закрепилось в нашем сознании, что мы вряд ли задумываемся над его сутью. А вот для Китая понятие «школа» имело совсем иное, исключительно духовное значение.
Система школ ушу возникает в тот момент, когда начинается осознание боевых искусств как духовно полноценной системы, ничем не отличной от других китайских «искусств». Эта мысль явилась психологической посылкой для формирования школ. Необходимо накапливать и сохранять знания, вводя человека в тесный и интенсивно духовный круг общения, где все проникнуто единой мыслью овладения тайнами ушу.
Прежде всего постараемся разобраться, что мы вообще подразумеваем под названием «школа ушу». Чем она отличается от стиля? Правомочно ли параллельное название, скажем, «шаолиньский стиль» и «шаолиньская школа»? Кстати, такая путаница нередка, и сегодня даже далеко не каждый последователь ушу в Китае способен разобраться в ней. А эти различия весьма немаловажны для понимания «внутреннего пространства» ушу.
Отметим, что школы ушу отнюдь не возникают вместе с возникновением боевых искусств. Они начинают формироваться в XIII веке, однако их складывание завершается лишь к XVII веку вместе со становлением системы внутренних стилей, которые можно практиковать лишь внутри таких школ. Школ было множество по всему Китаю, хотя, конечно, не все они были равноценны и многие лишь имитировали традиционные буддийские общины и даосские секты. Вообще же, на формирование школ ушу и на их структуру, с одной стороны, повлияли форма и взаимоотношения внутри традиционной китайской семьи, с другой — организация и система обучения в даосских и буддийских сектах. К тому же школам предшествуют многочисленные народные общества ушу, носящие в своем большинстве массовый, общедеревенский характер. Становление народного синкретизма в тот момент, когда ушу стало самым массовым народным занятием, поставило точку в формировании школ как организаций не только обучения ушу, но и передачи духовной «истинной традиции».
Особенно бурный рост ушу шел в XVII–XIX веках, частично он был связан с глухим противостоянием народных «мудрецов» элитарно-имперской культуре, частично — с интимизацией мистической культуры вообще, когда единственным способом сохранения духовной «истинности» становилось создание исключительно узкого, герметического сообщества, где концентрация внутреннего напряжения была предельной.
Не стоит полагать, что духовная самоорганизация была основным стержнем всякой школы ушу. Отнюдь нет. Например, после прихода в Китай маньчжуров ряд школ оказался тесно связан с тайными обществами, особенно это распространилось на юге Китая, где действовала знаменитая «Триада» — «Общество Неба и Земли». Зачастую школа ушу и тайное общество полностью взаимоналагались, растворяясь друг в друге, школа вырастала в огромное сообщество. Поэтому наряду с крайне закрытыми школами ушу, в которых нередко объединялось не более десятка человек и отбор в которые был очень строг, стали развиваться более массовые «общества» (шэ) или «дворы боевых искусств» (гуань). В них зачастую состояло до нескольких сотен человек, на деревенском и на уездном уровне их члены тренировались абсолютно открыто, не таясь ни от местных чиновников, ни от проверяющих, хотя при этом нередко такие «дворы» и разгоняли за «еретическую практику», фактически — за отправление неофициальных ритуалов, поклонение «не тем» богам и духам.
Такие «дворы» были обычно тесно связаны с узкими школами, называемыми «мэнь» («врата»). Более того, и во внутренней иерархии, и в структуре взаимоотношений, и даже в изучаемых приемах и комплексах эти два типа школ могли полностью совпадать, благо они обычно располагались в одной местности. И тем не менее, разница была, причем разница весьма существенная.
Огромное духовное напряжение, возникающее в небольшом круге учеников школы-мэнь, позволяло передавать ушу как истинно сакральное знание. Да и вообще, по сути, передавалось не ушу, а некое «нечто», которое стоит за ним, — «искусство Дао». В больших же «дворах», тайных обществах многие секреты ушу растворялись в массе занимающихся, но самое главное — утрачивалась возможность передачи «от сердца к сердцу». Это была своеобразная имитация формы, которой приписывался мистический смысл, но который фактически уже давно был утерян.
Стили ушу как таковые разрабатывались внутри школ, именно там простой технический арсенал боя приобретал свою стилистику — историю, легенды, первопредка, внутренние ритуалы — одним словом, все «опознавательные» знаки стиля. Практиковались же эти стили в более широких обществах. Учение и внутренняя психологическая обстановка школы были очень сложны для большинства тех, кто желал практиковать ушу, а их по всему Китаю были миллионы. Многие аспекты были вообще недоступны для ментальных и духовных способностей некоторых учеников. Поэтому «дворы боевых искусств», выполняя особую, компенсаторную роль, собирали самый различный люд, который овладевал ушу в основном на внешнем, техническом уровне, хотя в этом многие достигали поражающего мастерства. И все же наиболее духовно открытых вводили в узкий круг учеников школы.
Интересно, что существовало и «материальное» отличие школ от обществ или «дворов» — школы имели свои генеалогические хроники, сакральные тексты, их члены широко занимались медитацией, обладали полными методиками «внутренней тренировки». А вот в массовых объединениях это практически полностью отсутствовало или лишь имитировалось в «снятом» виде.
Настоящих школ в Китае было немного, были они малоприметны, равно как и мастера, руководяшие ими, в основном же можно было столкнуться с «дворами боевых искусств». Школы же были столь тесно вплетены в общую духовную ткань культуры, что исчезали в полнозвучии многочисленных «обществ», «дворов боевых искусств», «армейских школ», которые заслоняли их своей яркостью и массовостью. В школах и шла «истинная передача» ушу, так как лишь их структура и внутренний климат позволяли в полной мере не только сохранять знания в концентрированном виде, но и беречь сам дух, саму внутреннюю стилистику традиции ушу.
Сам характер школы исключал приход в нее случайных людей, ученики редко покидали ее недоучившись, большинство из членов школ своим основным занятием в жизни считали практику ушу, и другой «работы», по сути, у них не было, хотя многие последователи являлись крестьянами, торговцами, лодочниками, ремесленниками.
Интересно само название школы ушу. Классическая школа именовалось «семьей» (цзя) или «вратами» (мэнь). Через эти врата неофит входил в новый, по сути запредельный мир — мир тайн великих мудрецов. Там он готовился в течение долгих лет к восприятию трансцендентных истин ушу, тренировал тело и дух, постигая самого себя. «Войти во врата» — так именовалось вступление в школу ушу. За вратами ученик должен оставить, может быть, все то, к чему привык. «Выбросить себя старого и породить нового», — говорит китайское изречение. Наставники ушу советовали «выбросить старую одежду, выбросить старые привычки, выбросить старое «Я». В некоторых школах при ритуале вступления символически сжигались одежда ученика, а также табличка или клочок бумажки с иероглифами, на которых было написано имя неофита. Пепел растворяли в воде, и такой напиток назывался «чай небожителей». Затем ученик выпивал этот чай, как бы поглощая сам себя. Человек символически умирал, уничтожал себя, чтобы возродиться вновь, но уже в истинном виде — в качестве адепта ушу.
Вступление в школу ушу представляло сложное испытание для психики и тела неофита. Новичок обычно сначала отвечал на ритуальные вопросы, произносил магические заклинания.
Во многих школах ушу ритуал вступления был сильно редуцирован, уменьшен внешне до простых формальностей, как бы переведен во внутреннюю форму переживания. В полном ритуале, сложных действиях, заклинаниях не было необходимости. Мастер прекрасно чувствовал, кого он берет к себе в школу, говорили, что мастер узнает об ученике раньше, чем тот придет к нему.
Порой меткое слово, точность выражения мысли становились «пропуском» в школу ушу. Главное, чтобы в них отражались искренность души и живость мысли. Вот одна из историй, относящаяся к XV веку. Однажды на улице города Лояна шао-линьский наставник Хайъу повстречал мальчишку-оборванца удивительно жалкого вида и дал ему несколько медяков. И вдруг нищий ответил ему стихами:
- Лишь отчаяние погнало жалкого Цзю медяки просить.
- Но этот нищий полон решимости за милость отблагодарить!
Наставник Хайъу пристально посмотрел на мальчишку и ответил:
— Тот, кто с молодости выражается стихами, — не нищий. Если просящий милостыню преисполнен решимости — он уже не нищенствует. Придет день — и ты пожелаешь стать благородным мужем и героем.
Старый монах и мальчишка вместе возвратились в монастырь. Хайъу не ошибся — нищему оборванцу было суждено в 28 лет стать одним из самых молодых настоятелей Шаолиньского монастыря и получить прозвище Будда-Воин.[39]
Школа или стиль?
Заметим, что школа по своему характеру отличается от стиля или направления ушу. Например, ряд школ мог практиковать один и тот же стиль. У истоков стиля обычно стоял легендарный первооснователь. Его личность обычно восходила или к полностью мифологическим персонам, чей образ «очеловечился», например к бессмертным небожителям или к полулегендарным героям, которые прямого отношения к ушу не имели, но освящали стиль своей благостью, — Бодхидхарме, Чжан Саньфэну. Был также целый ряд вполне реальных людей, причем живших сравнительно недавно, два-три века назад, которые, однако, столь сильно обросли легендами, что сама реальность этих личностей утратилась абсолютно. Например, основатель стиля «Огненная палка Шаолиня» монах Цзиньнало в мифах приобрел имя буддийского небесного божества Кинары, поэтому считалось, что сами духи принесли методы боя с палкой на землю. Так или иначе, персона-основатель стиля был всегда мифологичен и символичен как воплощение духовной мощи, идущей от века и от мира. По сути, у стиля не было начала, ибо его корни уходили в бесконечную глубину эпохи первопредков. В отличие от стиля, в начале школы почти всегда стоял реальный человек. Сама структура школы вырастала из организации китайской семьи, клана (патронимии), а поэтому и назывались они семейными или клановыми названиями, например, янши тайцзицюань (школа тайцзицюань клана Ян) или хунцзямэнь (школа семьи Хун).[40] Вступление в школу, таким образом, становилось приобщением к семейным связям.
Два бойца из одной школы ушу
А вот вопрос с созданием стилей ушу не так прост, как может показаться. Прежде всего, что такое стиль? В Китае его обозначали как «цюань» — «кулак» (шаолиньцюань, танланцюань) либо «люпай» — «группа последователей». Правда, встречались исключения, например, когда стиль вырастал из семейной школы. Южные стили так и называются — хунцзяцюань (стиль семьи Хун) или люцзяцюань (стиль семьи Лю). Да и знаменитый тайцзицюань первоначально в некоторых центральных районах Китая просто назывался «стиль семьи Чэнь» по имени его первооснователей.
Стили вырастали из школ. Носители «истинной передачи», да и просто талантливые ученики покидали лоно родной школы, переезжали с места на место. Многие чиновники служили за сотни километров от родных мест, более того, считалось, что чиновник не имеет права служить на родине, дабы не потакать и без того развитой коррупции, неформальным связям и тайным обществам. Многие из местных шэньши — чиновников — блестяще знали ушу, к тому же отменное здоровье было важным условием на чиновничьих экзаменах. Это знание ушу помогало «пришлым» быстро адаптироваться в местной среде при переездах с места на место — народ высоко ценил боевое мастерство. Так, ученики школы могли начинать преподавать в разных районах Китая, естественно, с разной долей усердия, к тому же и их способности были различны. Представители семейных школ на новом месте были вынуждены брать в обучение членов других фамилий, и клановость школы ушу нарушалась. Боевые искусства становились все более открытыми и вместе с тем разветвленными. Да и как можно было скрывать наличие школы ушу в деревне, когда занятия происходили прямо во дворе и становились столь же привычным зрелищем, как и готовка пищи.
Но все эти разъехавшиеся в разные стороны люди сохраняли ощущение принадлежности к общему центру и взаимосвязи внутри единого тела школы. Эта идея единила их, а центром мог становиться не только мастер, но какое-то святое место. Так в разных районах возникают школы стиля шаолиньцюань. Их наставники могли никогда и не бывать в Шаолиньсы и даже не общаться с монахами, но чувствовать свою принадлежность к славной обители было приятно и почетно. Центром могло стать даже какое-нибудь животное, и в этом видны отголоски древних тотемных понятий, когда единство рода определялось по принадлежности к знаку (а следовательно, и покровительству), например, тигра, черепахи и т. д. Это породило в Китае сотни абсолютно несхожих школ имитации животных, которые при этом единились под общим названием: хуцюань — стиль тигра, шэцюань — стиль змеи. Ни один, даже самый искушенный знаток не нашел бы ничего общего между шаолиньской школой богомола и школой богомола из провинции Хэбэй. И тем не менее их последователи считали себя представителями единого стиля и возводили свой исток к бывшему монаху Шаолиня Ван Лану. А сколько непохожих направлений ушу единились под названием одного стиля лишь благодаря тому, что считали своим патриархом Бодхидхарму!
Таким образом, стиль — это чисто психологическое отнесение себя к той или иной ветви ушу. Он не определяется ни общим техническим арсеналом, ни общей духовной традицией, в отличие от школы, где люди связаны единым принципом комплиментарности и единым «резонансом духа». Здесь — забавный парадокс традиции китайского ушу: бесконечное разнообразие стилей и подстилей есть проявление полного внутреннего единства боевых искусств.
Единство понимания стилей, конечно же, может показаться надуманным для европейца, но для китайца оно было бесконечно важным. Разве сам китаец не замечает, что стиль тигра, или шаолиньцюань, в разных провинциях и даже уездах не похожи друг на друга? Значит — самообман? В некотором роде да. Но мы уже видели, что миф для Китая, демонстрирующий внутреннее единство всего со всем, намного важнее, чем безыскусная реальность. Стремление отделить одно внешнее проявление Дао от другого сначала привело к мифу о существовании южных и северных стилей, шаолиньском и уданском направлениях ушу, а затем и к более подробной классификации. Итак, в отличие от школы, которая действительно полнится духом мастерства, стиль — это чисто психологическая потребность ощущать единство под одним названием. В школе происходит преемствование «истинной традиции», в стиле — лишь названия.
Существовала и другая причина быстрого роста стилей. Сама система ушу развилась уже настолько, что необходимо было отделить представителей одной школы от другой. Например, шаолиньцюань разросся настолько, что возникло по крайней мере около сотни направлений с разным техническим арсеналом, методикой обучения, способами духовной передачи. Ряд из них принимал за основу даосские методы психотренинга, другие настаивали на главенствовании чань-буддизма, третьи же вообще старались вобрать в себя от всего понемногу. Но какой же учитель захочет, чтобы его школу путали с другой, да и не все были способны придерживаться традиции тайны и анонимности мастера. Постепенно стали возникать «индивидуальные» названия школ, а затем и стилей. Иногда за основу брались названия известных комплексов. Так возникли стили хунцюань («Красный кулак») и лоханьцюань («Кулак архатов») из арсенала шаолиньских комплексов.
Истинные мастера вели себя по отношению друг к другу беспристрастно, уважая то дело, которое выполняют вместе. А вот ученики зачастую устраивали споры, а то и ругались по поводу того, какой стиль лучше. Наказание за это было одно — бесповоротное изгнание из школы. Дело здесь не только в нарушении элементарных моральных правил: это демонстрировало, что человек не понимает самой сути ушу. Стиль или школа не могут быть лучше или хуже, ибо созданы для того, чтобы передать целостность духовного импульса. А боевое мастерство зависит уже от индивидуальности человека.
В основном стили создавались в среде народного ушу, но их основатели часто были людьми весьма образованными, способными не только обучать, но и составлять трактаты, передающие традицию школы. Дун Хайчуань — основатель стиля багуачжан — вышел из обедневшей аристократической семьи, Чэнь Вантин — создатель первостиля тайцзицюань — был блестяще образованным человеком и долгое время служил в императорских войсках.
Колоссальную роль играли генеалогические хроники, или «семейные списки», — цзяпу, которые выстраивали генеалогическое древо рода и, по сути, имелись у каждой семьи. Школы ушу переняли у семьи и эту характерную черту, что еще больше перевело связи между членами школы на уровень кровно-семейных, «от Неба данных», а поэтому нерасторжимых. Хроники хранились как святая святых, передавались из рук в руки от учителя к прямому преемнику школы. Они прежде всего идентифицировали каждого конкретного ученика со всем телом школы, фактически — с телом внутренней традиции. Благодаря такой хронике человек произрастал из семейного древа, осознавал свою принадлежность к «корню мастеров». Он воистину «занимал место» в этом мире, и надо многое понять в китайской культуре, дабы осознать, сколь важно для традиционного китайца, для последователя ушу почувствовать себя живым воплощением духовной традиции, ее производным и ее ретранслятором. Фамилия ученика не просто вписывалась в книгу (кстати, туда попадали далеко не все, а лишь преемники «истинной традиции», два-три человека из одного поколения), она заносилась в «истинную традицию», на путь целостной духовной передачи.
Внесение ученика в генеалогическое древо фактически свидетельствовало о его приобщении к полной традиции школы. Списки долгое время не было принято публиковать, что объяснялось глубоко личностным характером отношений в традиционном ушу, хотя сегодня их можно встретить в некоторых описаниях классических школ; правда, неписаная этика говорит, что такую публикацию может делать лишь прямой последователь школы.[41]
Школа ушу никогда не понималась ее последователями как «список приемов», комбинаций и комплексов. В школе не было и «срока обучения», она вообще могла не иметь видимого (скажем, технического) воплощения. Прежде всего, под школой подразумеваются все поколения учителей и учеников и непрерывность «истинной передачи». Вот почему столь высоко ценились древние тексты и рассказы о мастерах школы. Вот почему нельзя объявить об одномоментном создании собственной школы, хотя в короткий срок можно составить эффективный набор приемов, пригодных для рукопашного боя. Вот почему невысоко ценились люди, не имеющие за своими плечами мастера, несущего в себе школу «древних предков», — кто ничего не воспринял, тому нечего и передавать.
После этого не покажется странным утверждение, что школа ушу постулировала вневременную жизнь. Мы — лишь след великих мудрецов, давно прошедших. Но одновременно мы — воплощение их духа, и ученик, даже в десятом поколении, и есть мастер. Мы растворены в потоке мастерства, и мы транслируем его вперед. Так сохраняются дух и форма школы, вечно возрождаясь в новом поколении учеников. По сути, не существует даже и возрождения, есть лишь вечное возвращение одного и того же Мастера в каждом новом ученике.
Связи духовные и связи семейные
Связь внутри школы была реальным воплощением семейных связей, причем еще более сакрализованных, нежели в реальной семье. Следует также учитывать, что ранние школы вообще полностью базировались на семье — отец или, чаще, дед учили младшего по возрасту. Долгое время семейные школы для пришлых вообще не открывались, например, школа клана Чэнь тайцзицюань не допускала к себе внутрь более ста лет. Благодаря этим кровно-родственным связям школа и получила свое второе название — «семья» (цзя).
Спектр значений термина «цзя» крайне широк: «община», «семья», «сообщество», «клан». Семейные отношения — наиболее тесные и надежные для китайцев, не случайно существует выражение: «Вся Поднебесная — одна семья». Многие отношения в обществе осмыслялись через термины семейного родства, а китаец всегда старается себя идентифицировать с собеседником как «младший» или «старший брат».
Таким образом, школа ушу была как бы уменьшенной проекцией государства и семьи, неся на себе тот же оттенок небесной святости; не случайно общение внутри школы происходило в терминах родства: «брат», «сестра» и т. д. Благодаря этому школа становилась миром в себе и для себя, представляющим не только маленький образ неких «больших» внешних семей, но реально придерживающимся всех семейных уложений.
Отношения соподчинения, внутри какой бы ячейки общества они ни реализовывались, всегда воспроизводили связь отца с сыном, например, император всегда был отцом для своих подданных и заботился о них, как о своих детях. Учитель в школах ушу также был отцом своих учеников, причем статус его был значительно выше, чем у отца по крови, — учитель являлся отцом по духу. Он как бы рождал новую духовную личность, возрождая в ней самого себя. Поэтому и ученик должен относиться к мастеру с чувством сыновней почтительности, как к родному отцу.
Поскольку наставник школы всегда выступал в роли духовного отца, то и его ученики именовались «детьми в духе» или «братьями в учителе».
Китайское выражение «братья в учителе», или «братья по учителю» (шисюн), очень точно выражает саму суть учительствования в Китае. Наставник манифестирует собой родовое древо, выступает как абстрактное начало, некое «тело семьи», ретранслирующее самого себя. Мы уже говорили, что связь внутри школы — это всегда семейная связь, а следовательно, облик Учителя — пускай реального, но в конечном счете всегда мистического и вневременного — и есть облик их общего отца.
В терминах родства воспринимались и все члены школы ушу. Основатель школы обычно именовался «тайцзу» — «великий предок», так же, как называли и императоров — основателей династии. Его портрет всегда висел перед алтарем школы, а перед табличкой с его именем (по китайским поверьям, в нее после смерти человека переселяется часть его духа) возжигались благовония. Напомним, что основателем школы могло считаться и легендарное лицо. Например, легендарный родоначальник многих стилей ушу Гуань Юй был обожествлен китайской традицией и назывался «бог Гуань» (Гуань-ди). Наставник ныне существующего учителя школы звался «шицзун» — «наставник-первооснователь», или «дед-наставник». В школе почитались не только те, кто непосредственно преподавал ушу, но и те, кто связан с семьей мастера, например, его жена именовалась «шинян», или «шиму», — «матушка-наставница», младшая дочь учителя — «шимэй», старшая дочь учителя — «шицзе». В женских школах ушу (существовали и такие) сами женщины-последователи называли себя «шимэй» и «шицзе», фактически — «старшей сестрой учителя» и «младшей сестрой учителя», и хотя никакого реального родства не было, устанавливалась символическая кровная связь между членами одной школы.
Старший сын мастера или старший ученик — шисюн (обратим внимание, что между сыном и учеником не делалось различий) — выполнял обязанности старшего инструктора школы. Он обучал технике приемов, следил за выполнением новичками основных дисциплинарных норм и ритуалов. Существовал также шидае — первый помощник учителя, фактически равный ему по положению, и ему выказывали такое же уважение и почитание, как самому шифу.
Таким образом, школа функционировала как семья, воспитывала детей-учеников, устанавливала отношения с другими семьями, а распределение обязанностей в школе ушу было таким же, как и в обычной семье. Ближайшие ученики приглашались жить в доме учителя, правда, не в самих покоях мастера, а в других постройках. Большинство же просто приходило к нему, так как все жили в одной деревне. Ученики выполняли обычно все обязанности по дому — носили дрова, убирали помещение, готовили пищу, содержали хозяйство.
«Тот, кто вступает в след»
Широко известно, что далеко не всякого брали в ученики. Менее известно, что даже того, кого мастер пускал к себе во двор, еще рано было называть учеником — этот человек мог в течение нескольких дней лишь выполнять домашнюю работу, убирать двор, чистить оружие. До тренировок он не допускался, никаких наставлений от мастера не получал. Люди, поверхностно знакомые с внутренней традицией ушу, это явление объясняют так: учитель хотел проверить преданность и искренность намерений ученика.
«Мудрец смотрит на людей как на своих детей»
Действительная причина здесь заключена в ином. Истинное мастерство наставника заключено как раз в том, что он лучше знает своего последователя, чем тот себя самого. Дело в том, что неофит должен был почувствовать обстановку школы, ее внутренний климат, особую психологическую ситуацию. У новичка была полная возможность отказаться непосредственно от обучения, если он понимал, что физически или духовно не способен воспринять учение. Но сразу отказать человеку — полному энтузиазма, горячего рвения, уверенности в своих силах, настойчивости — значит нанести ему душевную травму.
Большинство учителей сразу чувствовало, кто останется, а кто покинет школу, даже не приступив к обучению, не случайно до сих пор традиционные наставники «учеником» начинают называть лишь того человека, который пробыл в школе не менее трех лет. До этого срока его просто нечему обучать, так как ни его разум, ни его психика не готовы к восприятию этого особого внутреннего мира ушу, который и превращает боевую технику в духовное искусство. Иногда самой большой милостью по отношению к человеку становился мягкий отказ от преподавания ему боевых искусств. Не каждый способен выдержать груз этого знания.
После обряда инициации ученика посвящали в особые тайные ритуалы школы. Эти ритуалы могли лишь в тонкостях отличаться от общепринятых, но тем не менее они составляли один из секретов школы, ибо дистанцировали ее от остального мира, делали ее «внутренней». В частности, в ряде школ смысл таких ритуалов заключался в том, что неофит объявлялся «ребенком», или «младенцем», — человеком, который стоит лишь на пороге своей настоящей жизни. Именно после этого учитель и «рождал» ученика. Смысл такого действа хорошо виден в известной поговорке, распространенной в школах ушу и даже вошедшей во многие уставы школ: «Мать и отец дали мне кости и плоть, учитель дал мне дух». Таким образом, идея «второго рождения», причем рождения истинного, духовного, мистического и глубоко сокровенного, возникновения «человека целостных свойств», заложенная глубоко в недрах эзотерической китайской традиции, получала воплощение в ушу.
На первых этапах ученик находился вне понимания того, что практикует. До прихода в школу ушу любой китаец много слышит об ушу, нередко наблюдает тренировки, демонстрации мастеров, но вне учителя никому не дано проникнуть в саму сердцевину боевых искусств. В школе же появляется возможность постичь это «изнутри», но понимание есть прежде всего долгий процесс психической переориентации и перестройки сознания. Поэтому, делая первые шаги, надо лишь доверять мастеру и следовать ему — следовать ему безотчетно. В традиционных школах, в частности, не принято, чтобы ученик задавал вопросы, — мастер сам знает, когда заговорить.
Для знатока ушу обучение, а точнее постижение школы проходит в несколько этапов, отражающих изменение его ценностной ориентации и психологических установок. Здесь речь, конечно, идет не о внешних ритуалах посвящения или присуждения какой-то очередной степени мастерства, как это можно встретить в каратэ, но о понимании самой метафизической глубины процесса обучения как постепенной интериоризации (переведения внутрь себя) духовных ценностей школы и срастания своей личности с личностью мастера.
Подражать следовало всему — самому мастеру, тому, как он выполняет таолу, его выражениям, жестам и многому другому. Человек не обучается — он перерождается, он вступает в след мастера, входит в его тень, становится созвучным с его внутренним ритмом. Ученик постепенно реализуется как мастер. Медленно, очень медленно удельный вес чисто внешней имитации уменьшается, да и технический аспект имеет свои рамки, уступая место воплощению мастера в своем сознании. Внешнее как бы сворачивалось, сходясь до неизмеримо глубокого внутреннего пространства.
Обучение ушу перед головой жертвенного кабана
Наконец, исключительно духовное следование постепенно заменяло внешнее подражание, и наступало преодоление, отказ от внешней формы. Она переставала играть определяющую роль в обучении ушу, но лишь опосредовала собой существование внутреннего аспекта.
Переход в изучении школы от внешнего к внутреннему происходил у учеников по-разному, многие так и не сумели преодолеть этот барьер. Момент перехода открывал качественно новый этап в ушу. Школа уже становилась внутренней реальностью для занимающегося, она обретала свою субстанциональность, а все комплексы, поединки служили лишь проекцией этого внутреннего пространства во внешнем мире.
Сохранились интересные воспоминания одного из японцев, который в начале 40-х годов XX века присутствовал при ритуале приема в школу ушу. В центре сидел мастер, по бокам от него стояли два ближайших ученика. Посвящаемый вышел в центр, произнес традиционную формулу с просьбой о приеме в ученики и сделал несколько поклонов. Внезапно мастер подал какой-то едва уловимый знак, один из стоявших сбоку старших учеников резко взмахнул мечом, и… посвящаемый упал замертво. То же самое произошло и со вторым неофитом, а вот третий человек, который произносил ту же заученную формулу, делал те же самые поклоны, был принят. Наблюдатель-японец, профессиональный солдат, был поражен жестокостью ритуала. Речь идет не о правильности произнесения формулы или выполнения поклона, но об искренности, о том, чтобы все исходило от сердца, от «Небесной воли». Естественно, что не многие могут отважиться пройти такой ритуал, но ведь сама цель посвящения — проверить искренность, чистосердечие человека в помыслах заниматься ушу.
Первое время ученика в школе могли подвергать тяжелым испытаниям. Однако не стоит считать это издевательствами, это была лишь проверка крепости его духа и черт его характера. Например, он не должен обижаться, ибо учителя прекрасно знали, что обидчивого человека ничему нельзя обучить. Смотрели и на то, как ученик подает пиалу с чаем учителю, как общается с братьями по школе, как сидит, как реагирует на замечания. Это был долгий путь терпения и самовоспитания.
Среди огромного количества учителей и учеников ушу лишь немногие считались действительно подходящими друг другу. Встреча истинного учителя и способного ученика предопределялась Небом, и не случайно последователи ушу годами бродили по Поднебесной, разыскивая «своего» учителя. Истинный наставник — это прежде всего «пресветлый учитель», или «просветленный мастер» (минши), настоящий же ученик должен быть «Небесным талантом» (Тяньцай). Его особые свойства объяснялись не только упорством и тщательностью в следовании наставлениям мастера, но во многом и врожденными способностями, «данными Небом». «Небесными талантами» также называли талантливейших художников, поэтов, философов. По существу, это была особая категория людей, способных не просто выучить что-то, не просто быть старательным ремесленником в своем деле, но открытых для того, чтобы дальше понести умение и мастерство гунфу в любой сфере человеческой жизни.
Между учителем и учеником устанавливались прежде всего взаимоотношения глубочайшей содоверительности. Ученик должен бесконечно доверять своему учителю, лишь эта вера поможет ему реализовать форму, которую он изучает. Эта вера форме и учителю особенно важна на первых этапах, когда ученик лишь постигает азы и не понимает смысла многого из того, что делает. В этот момент надо полностью отдаться словам и мыслям наставника, не вопрошая, почему и зачем, но лишь выполняя то или иное упражнение. Веря учителю, ученик относится с искренним доверием к стилю, который изучает, к его истинности и непреходящей ценности заключенной в нем мудрости. Лишь такая безраздельная вера в стиль и учителя, задающая направление развития, не позволяет ученику сойти с истинного пути.
Вместе с тем и учитель доверяет ученику, так как передает ему часть своей души. Без доверия к миру и учителю невозможно постижение тайн ушу, так как первые шаги в любой системе метафизического знания, к которой относится и ушу, требуют не логического анализа, не попыток разобраться, «что к чему», но приятия всей системы целиком, абсолютного вживания в нее.
Но и в среде самых упорных, старательных учеников всегда выделялась особая группа тех, которые были способны на полную самореализацию ради ушу. Таких людей в школе обычно было немного — два-три, но чаще всего один.
В ушу таких людей называли «учениками внутренних покоев» (шинэй туди) или «учениками, вхожими в покои» (жуши туди). Все же остальные, пускай весьма способные и преданные, именовались «учениками внешних покоев» (шивай туди). Такое деление имело двоякий смысл. Первоначальный, вполне очевидный, исходил из того, что традиционное жилище на севере Китая делилось на внешнюю и внутреннюю части. Во внешней принимали гостей, во внутреннюю были вхожи только члены семьи. Таким образом, человек, который допускался во внутреннюю часть дома, символически становился родственником, кровным преемником учителя. Но существовал и более глубокий смысл в названии «учеников внутренних покоев» — понятие «внутреннего» как бы переводило общение последователя с наставником в сферу духовного, невидимого и недоступного для сознания других.
Зачастую «ученики внутренних покоев» жили вместе с учителем, вместе странствовали, сопровождали его повсюду, куда бы он ни пошел. Им открывались все секреты школы, и именно они должны были принять ее в полном объеме.
«Учениками внутренних покоев» становились лишь те, кто действительно был способен не только воспринять смысл ушу, но и полностью перевоплотиться в мастера, «встать в его след», т. е. преемствовать «истинную традицию». Нередко это были сыновья учителя, так как с ними мастер мог общаться чаще и дольше всего, однако начиная с XIX века прямыми последователями становилось и немало «пришлых», выделенных глазом наставника из большой группы учеников и помещенных в благодатную среду школы. По таким ученикам и строилось генеалогическое древо школы в хрониках.
Например, один из создателей стиля Ян тайцзицюань Ян Лучань (1799–1872) обучил за свою жизнь несколько сотен людей, он преподавал и в родном уезде, и в Пекине, среди его учеников были и простолюдины, и богатейшие аристократы. Однако лишь три человека были вхожи в его «внутренние покои» — его сыновья Ян Цзяньхоу и Ян Баньхоу и некий Ван Ланьтин. Несмотря на то, что двое сыновей в дальнейшем значительно модифицировали технический арсенал стиля Ян Лучаня, тем не менее именно они считались прямыми и истинными продолжателями его школы. Произошло преемствование духа, безраздельное и абсолютно целостное. В этом случае трансформация формы движений, добавление приемов уже не играют существенной роли, ибо ученики в полной мере овладели смыслом учения (не только формой стиля!) Ян Лучаня, как бы переродили своего наставника внутри себя.
Мысль о мистическом перерождении — единственном способе восприятия гунфу — есть центральный пункт в становлении личности «ученика внутренних покоев». Ему суждено в полном объеме понять своего учителя, поэтому немаловажен был и вопрос: кого они понимают? Не является ли человек, стоящий перед ними, талантливым имитатором, заблуждающимся в собственных возможностях, а то и просто шарлатаном?
Зачастую никто из «учеников внутренних покоев» до последнего момента не знал, кто станет преемником школы. Всех их обучали индивидуально, и никто не ведал, что объясняют другому. Могло быть и такое, что каждому объясняли свое направление стиля, как, например, поступал мастер багуачжан Дун Хайчуань со своими учениками. Истории рассказывают, что, следуя теории восьми триграмм, он обучил восьмерых лучших учеников своей школе с небольшими вариациями, в результате чего возникли восемь различных школ багуачжан, каждая со своим патриархом.
Преемника называл сам учитель перед смертью, лишь он один чувствовал, кто сумеет в полной мере понести его учение дальше. Благодаря этому между старшими учениками не было разногласий, один становился лидером школы, другие либо оставались его ближайшими помощниками, либо сами набирали учеников.
Во время тренировки
У каждой школы была своя традиция тренировок, свои ритуалы, хотя во многом они совпадали. В ряде классических школ самой тренировке предшествовало особое приветствие, которое обычно представляло собой девятикратное коле-нопреклонение — цзюкоу, иногда упрощавшееся до обычного поклона. Существовали школы, возникавшие в среде религиозных сект, где приветствие превращалось в длительный акт литургии. Благодаря этому в сознании учеников сам процесс тренировки отделялся от обыденной жизни, превращался в акт священнодействия, выступал как пространство приобщения человека к священным началам.
В традиционном Китае занятия ушу проходили обычно во дворе перед домом учителя. Он был обнесен оградой, что скрывало тренировки от взглядов случайных прохожих. Обстановка такого двора должна была воссоздать внутри ученика уникальный и одновременно универсальный по своим ценностям мир ушу. На стенах зачастую вешались многочисленные изображения духов и богов, вооруженных мечами и топорами, каллиграфические надписи типа «Сочетай военное и гражданское», «Одухотворенное ци и священный удар», «Сконцентрировав дух, достигай совершенства». Были и надписи, напоминавшие об особенностях техники школы: «Руки летают, как два веера, ноги бьют, как молния, вращайся, подобно змее, прыгай, как тигр» (в шаолиньцюань), «Замахнись рукой, но ударь ногой. Покажи вверх, но ударь вниз» (в синъицюань).
Но был и другой — незаметный тип тренировки. Автору этих строк приходилось видеть, как сегодня тренируются последователи традиционного ушу в дальних деревнях Китая. Почти в каждой деревне есть своя школа ушу, которая может являться ответвлением от более крупной школы, действующей, например, во всем уезде. Деревенский учитель в определенное время выходит на небольшую неогороженную площадку и начинает выполнять упражнения. Несколько человек пристраиваются за ним и без всякой команды, без малейших объяснений начинают повторять его движения. Здесь нет ни приветствий, ни поклонов, ни долгой литургии — все до неожиданного обыденно, жизнь плавно перетекает в священнодействие ушу, открываясь человеку своей сакральной, но до времени скрытой гранью.
В этом случае тренирующимся может оказаться любой житель деревни — ушу открыто для всех, к тому же в китайской деревне живут обычно близкие родственники или две-три семьи, возможность понять ушу зависит уже от свойств самого ученика. Здесь видишь, что истинное ушу, ушу классическое, оказывалось настолько тесно вплетено в существование местного общества, что даже сам момент занятий боевыми искусствами неприметно вырастал из каждодневной, рутинной жизни местного деревенского общества.
Мастера как в больших «дворах» (гуань), так и в узких школах — «вратах» (мэнь) — практически никогда не проводили тренировку сами. Считалось, что технические аспекты могут показать и старшие ученики — «старшие братья» (дагэ). Роль мастера — нести ушу именно как Учение, а не как набор техники, который может продемонстрировать и не просветленный человек. И вместе с этим внешняя отрешенность от техники ушу отнюдь не означала безразличия к качеству ее выполнения. Мастер был призван объяснить, что техника ушу есть всего лишь дорога к мастерству, но отнюдь не само мастерство, не сама суть ушу, постигаемая внутренне и внесловесно. Именно об этом гласила сентенция из «Трактата о тринадцати позициях»: «Словесные наставления необходимы для того, чтобы провести ученика через истинные врата и вывести на истинный путь, в то время как мастерство в искусстве обретается лишь в постоянном самовоспитании».
Канон китайской традиции диктовал свои условия: форма есть лишь символическое выражение внутренней сути ушу, и этот технический аспект в классических боевых искусствах самостоятельной роли не играет. И тем не менее он необходим, обойти его невозможно: лишь этот набор форм, объяснений, ритуалов — одним словом, всего того, что мы отнесем к «внешнему», видимому аспекту, позволяет проникнуть через эту прозрачную и все же труднопреодолимую ширму.
Показательным моментом является также то, что в ушу не существует степеней мастерства, подобно тому как существуют пояса, даны, кю в каратэ. Есть лишь мастер и ученик. Перерождение ученика в мастера — процесс, несоизмеримый с показателями нашего, сущностного мира. Нельзя стать мастером натреть или наполовину, при этом любой учитель остается лишь вечным учеником. Никаких формальных подтверждений истинности мастерства быть не может, ибо достижение гунфу в конечном счете всегда есть обретение мистического опыта школы.
И тем не менее, определенный документ все же иногда выдавался. Зачастую он представлял собой обычный лист бумаги с каллиграфической надписью тушью. В нем говорилось, что такой-то такой-то действительно являлся учеником такого-то мастера. И все, больше в нем ничего не говорилось. Документ не свидетельствовал ни о «степени мастерства», ни о том, что предъявитель сего прошел курс обучения по какому-то стилю, — все это показалось бы нелепым любому последователю традиционного ушу. Он свидетельствовал о большем — о преемствовании «истинной передачи».
Мастер брал на себя немалую моральную ответственность, «подписываясь» под всеми поступками ученика. В ученике воплощался дух школы, он приемлет и концентрирует весь опыт своих предшественников и призван передать его последователям — «передать чашу истины, не расплескав». Дурной поступок перечеркивал весь смысл школы, «выбрасывал» ее за пределы морально-этических концепций ушу. Известны случаи, когда мастера полностью прекращали преподавание, узнав, что их ученик убил кого-то на турнире или начал демонстрировать приемы где-то за пределами школы. И все же вероятность ошибки была крайне мала, преемником школы не мог стать кто-то случайный или неискренний, ибо сама традиция «школьного» воспитания, складывавшаяся веками, гарантировала от этого. Система воспитания в школе представляла собой особого рода естественный отбор, безжалостно отсекая на различных этапах либо недостойных, либо нетерпеливых или неспособных. Таким образом, «Небесный талант», раскрывавшийся внутри школы, представлял собой своего рода духовную элиту ушу, гарантируя своим существованием сохранение «истинного ушу» на фоне общего, зачастую бесталанного энтузиазма.
Обучаясь и преподавая ушу, надо обязательно верить в доброту человеческих свойств. Без этой абсолютной убежденности исчезает даже сама возможность восприятия боевых искусств. Попробуем отвлечься на миг от уже привычных нам представлений и посмотреть на ушу взглядом стороннего наблюдателя. Нам откроется парадоксальная картина: люди с почти фанатичным упорством изучают методы нанесения друг другу максимального урона, годами отрабатывают удары и блоки, способы воздействия на жизненно важные точки. Мастера обучают целые деревни, рассказывают о методах воздействия на психику соперника. Разрабатываются десятки вспомогательных методов укрепления тела, до миллиметра выверяются удары копьем и мечом. Большая часть населения традиционного Китая так или иначе через широкую сеть непохожих и неравноценных школ была вовлечена в этот мощный водоворот боевых искусств. Одних только видов оружия насчитывались сотни! Так гуманно ли искусство, столь бережно пестуемое в школах ушу?
Этот парадокс трудноразрешим для тех, кто сам не вникал в суть боевых искусств, не шел за их неистовые формы. Вот несколько общеизвестных фактов: школы ушу не враждовали между собой, истории о поединках между школами — скорее дань традиции кинобоевиков, нежели историческая реальность. Под воздействием ушу миллионы людей воспринимали основные нормы жизни в обществе, то есть проходили то, что мы называем социализацией.
Мифы, легенды, рассказы о тайных приемах и мистических учителях, сложные философские рассуждения… Мы бродим среди них, будучи, может быть, так и не способными уловить их суть. Кажется, «истинность» ушу оказывается рассыпанной в переливах этих побасенок и вечно ускользает от нас. А может быть, это и есть единственный способ передачи внутреннего смысла ушу, ибо прямые словесные объяснения оказываются здесь бессильны? Так какую же роль играют эти вещи в ушу? Почему им отводилась столь важная роль в воспитании учеников? Через легенды и рассказы, распространенные в ушу, многие узнавали об истории Китая, его духовных и культурных ценностях. Чтобы пояснить нашу мысль, приведем лишь один пример.
Многие ли из нас сумеют правильно назвать части одеяния древнерусского воина, отличить один тип шелома от другого или рассказать, как правильно должно крепиться зерцало русского богатыря? Китайцы же благодаря традиции ушу знают, какие мечи и трезубцы держали их предки столетия назад. Через сеть школ ушу прошла масса людей, восприняв тот добрый и искренний настрой, который царит в них. Без веры в доброту человека, в чистоту его природных свойств не может быть ни мастеров ушу, ни самой передачи мастерства ученикам. Именно эта вера и позволяет прокладывать внесловесный мост между сердцами наставника и последователя.
Это самооткрытие в процессе обучения требует внутреннего усилия, внутреннего понимания добра и зла — понимания не на уровне предписаний «можно — нельзя», но исходящего от самых чистых природных свойств человека. Поэтому боевые искусства требовали постоянного, ежемоментного обнаружения меры человеческого в человеке, меры истинности в собственном сознании, меры святости в мирской пыли.
«Узреть Heбо внутри себя»
Можно говорить об особой культуре ушу, сложившейся в Китае, — очень тонкой, почти прозрачной на фоне мощной имперской цивилизации, вечно ускользающей от понимания «снаружи». Иногда эта культура может быть настолько плотно вплетена в общий фон китайской метакулътуры, что становится исчезающе тонкой, практически отсутствующей. Но взгляд «изнутри» традиции как бы меняет местами, переворачивает эти две культуры — «малую», в основном народную, почти сектантскую культуру ушу и помпезность элитарного официоза. Ушу — народная культура — оказывается «внутренним» по отношению к элитарно-имперской культуре, которая в этом случае представляется «внешней», а следовательно, и более далекой, чуждой. И все же это ничуть не снижает ценности последней, ибо в Китае внешнее — не более (но и не менее!) чем проекция «внутреннего». Здесь перед нами характерное и неизбежное для Китая понимание собственной традиции. Сколь часто формы ушу воспроизводили почти полностью практику боевых искусств в армии и при дворе, но в более неистовой, неудержимой внутренней форме, подобно выбросу лавы из недр доселе спокойной земли. Эта стремительная скачкообразная смена регистров моментально отделяет внешнее от внутреннего, которые с этого момента начинают избегать друг друга, при этом бесконечно взаимоопределяясь и выверяясь одно через другое.
Хотя нить ушу, вплетенная в общую материю китайской цивилизации, и могла для стороннего взора сливаться с монотонным буйством общего фона, тем не менее для вдумчивого наблюдателя эта нить — «серебряное плетение». Она явно отличается от всего остального, отличается не по яркости, но по особой выверенности, безошибочности стежка. Не будем забывать, что эта неброская яркость существует лишь благодаря фону, от которого она отличается. Ведь мы узнаем смену темы в музыкальной композиции по резкому изменению тональности и оцениваем красоту на фоне общей серости. Не следует понимать буквально, что все остальное, кроме ушу, было «серым» и невыразительным. Оно было «выразительным» по-другому, по-своему, оно было внутренне иным и в то же время тематически и духовно постоянно пересекающимся с культурой ушу и находящим с ней параллели. В частности, вся теория китайской живописи строилась практически на тех же терминах, что и ушу. И здесь мы обнаружим принцип «юньци» — «циркуляции ци», принцип «воля следует прежде формы», важнейшую мысль о том, что ценность формы определяется по наличию бесформенного в ней. Но все же культура ушу, равно как и культура живописи, есть именно внутренняя реальность со своими сложными конвенциями и абсолютной завершенностью — целостностью. Мастер ушу — воплощение этой целостности, поэтому его характерной чертой и является полнота душевных свойств.
Культура ушу действительно самодостаточна, хотя эта самодостаточность и была исторически предопределена не столько развитием самих боевых искусств, сколько всей общей метакультурой Китая, обращением ее к иной реальности — реальности не исторической, но вневременной. Она как бы взращивала свое детище, дав затем ему право на самостоятельность. Ребенок похож на мать ровно настолько, насколько и отличен от нее, ибо это два разных существа. Духовное родство при этом — момент отнюдь не врожденный, но достигнутый в результате нравственного усилия и сознательного резонанса. Поэтому для нас не будет сложным понять, что культура ушу сформировала в своих недрах свою систему коммуникации и саморегуляции, она имеет собственные каналы сохранения, воспроизведения и ретрансляции, свои ценностные критерии и нравственные идеалы. Поэтому ушу — не только часть культурной традиции Китая, но и отдельная целостная культура. Именно сочетание этих двух сторон дает столь чарующее, но не улавливаемое многими европейцами разнообразие ушу. Кстати, это раз и навсегда ставит крест на бесстрашных попытках создать ушу вне Китая: ребенок не рождается вне матери.
Общение в культуре ушу — вещь весьма хрупкая. Учителю, например, не принято задавать вопросы, выходящие за рамки неписаного канона. Не стоит, например, спрашивать, у кого он обучался, что знает, какими стилями владеет и что вообще думает о вещах, не относящихся к ушу. Весьма некорректной покажется просьба показать «очередной прием». В традиционных школах тайцзицюань иногда учили по одной форме в неделю, а в багуачжан и синъицюань — вообще по одной форме в месяц. Все, что следует сообщить, он скажет сам, будет обучать каждого лишь тому, чему тот может научиться. Выход за эти условные границы есть прежде всего выход за рамки культуры ушу, и общение на этом обычно обрывается. Ушу имеет свою логику и внутреннюю динамику в понимании, преподавании и общении.
Культура — это жизнь, прожитая осознанно, когда каждый момент существования преисполнен внутреннего смысла, подобно священнодействию, и в этом обыденная жизнь человека ничем не отличается от невидимого, но лишь предчувствуемого ритуала. Это не только понимание того, что дано сделать в жизни, но и того, что никогда не будет дано, того, что следует сделать и чего делать не следует. Следование Дао осуществляется не в соответствии с какими-то законами, а как свободное, спонтанное произлияние сознания и воли человека во внешний мир, считывание «текста культуры» из собственного сознания, где он имплицитно присутствует.
Сам момент существования человека приобретает оттенок глобального бытийствования, вечного пребывания «только здесь и только сейчас», странствия в промежутке между бытием и небытием; так как сознание человека дисперсирует, растягивается во времени, он принадлежит в равной степени и прошлому и будущему. Так произрастает Вечно Длящееся Настоящее, которое в равной степени можно назвать вечно длящимся отсутствием этого Настоящего, ибо суть человеческого Дао — все же пустота, а не действие.
Отлична ли природа человека от небесной природы? Дано ли ему в потенции быть равным Небу, или, как говорили китайцы, «узреть Небо в глубине себя»? Культура для Китая — не набор предписаний, регуляторов общества, но прежде всего — способ глобального общения, резонанс вещей, человека и самого Неба, когда звук одного продлевается во всех, когда человек существует в соприкосновении и проникновении в «семя» вещей, в зародыш сущего. Ему дано быть всем, не утрачивая человеческую природу, потому что его Путь — возвращение внутрь себя, как говорили чань-буддисты — «узреть свой истинный лик до того, как ты родился на свет».
Европейский гений Ницше говорил: «Надо обладать большим мужеством, чтобы вступить в область запретного». Не всегда психические силы человека способны совладать с теми глубинами внутри него, которые открывают ему «тайное искусство» ушу, то самопробуждение универсального сознания, которое равно миру. Речь идет не столько об удивительных вещах, демонстрируемых мастерами цигун, вплоть до левитации и абсолютно точного предвидения будущего, но прежде всего об ином уровне миропонимания. Кстати, такие «фокусы» истинно просветленному не нужны, он перерос их. Китайская поговорка утверждала, например, что «истинный даос выше мага».
За обрядом всегда стоит таинство, за формой всегда скрывается мистерия мира. В обучении ушу любой прием первоначально, на самых ранних стадиях обучения, важен прежде всего сам по себе как возможность овладеть «еще одной техникой», которая в конечном счете позволит быстро и эффектно одолеть соперника. Но затем к приему прибавляется внутренняя работа, которая немыслима без определенного состояния сознания. Это предполагает трансцендентацию самого понятия «прием», когда он становится лишь путем к духу человека, но не целью тренировки.
Здесь и преодолевается барьер между почти ритуальным символом — таолу в ушу — и таинством вселенской архитектоники, на которой он и основывается. Школа ушу, таким образом, переносит человека через пространство культурных условностей, отделяющее его от собственно природного начала (цзыжань) или его природных свойств (син), открывая человеку уже не столько познавательную глубину самих форм, но их образы и более того — саму внутреннюю структуру мира.
Каждый человек должен попытаться остаться один на один с этой бесконечностью и войти в лоно мистерии собственного духа. Попытка может, увы, оказаться неудачной, и далеко не каждому суждено стать не то что мастером, но даже полноценным учеником. И тем не менее, эта попытка обязательно должна состояться, ибо лишь в ней есть врата к самому себе.
Глава 7
Комплексы в ушу — форма бесформенного
То, что выше формы, назовем Дао.
Все, что ниже формы, зовется вещами.
«Ицзин» («Книга перемен»)
Таолу: что скрывается за движением?
Ключевым моментом тренировки во всякой школе ушу является изучение комплексов формальных движений — тао, или таолу. В каждом стиле существует свой канонический набор таолу, например, в классическом шаолиньцюань их было несколько сот, в синъицюанъ — пять-шесть, в тайцзицюань и багуачжан — по одному. Дело, естественно, заключается не в количестве комплексов, а в самой возможности реализации внутренних принципов ушу через особую геометрию движений.
В комплексах изучаются не просто комбинации приемов, как полагают многие, но определенные принципы (ли), лежащие в основе стиля, в том числе и принципы энергетической работы, умения направить ци и внутреннее усилие-цзин в ту или иную точку тела. Естественно, здесь не играют большой роли количество движений, их амплитуда, скорость или резкость. Важно другое — насколько полно комплекс соответствует внутренним принципам стиля. «Истинный мастер может проявить себя и на пятачке, где уляжется корова», — говорят в ушу. Комплексы в традиционных стилях ушу формировались веками, постепенно находя идеальное равновесие между внешним выполнением движения и внутренней регуляцией циркуляции ци. Отсюда нетрудно понять, почему практически невозможно самому создать «истинный» комплекс ушу, — можно лишь просто механически сложить движения вместе, превратив отработку таолу в простое физическое упражнение, а не в форму активной медитации.
Внешний вид комплексов мог существенно разниться. Например, в шаолиньцюань существует правило «одной линии» (исянь), когда боец во время выполнения комплекса передвигается по прямой лишь с небольшими отклонениями в стороны. С другой стороны, траектория передвижений в южных школах, подражательных стилям животных, в стилях «Пьяный кулак», «Потерянный след», столь запутанна, изобилует таким количеством разворотов и изменений направления движения под самыми неожиданными углами, что лишь на запоминание таких комплексов могут уходить долгие месяцы. Здесь и «шаги сливового цветка» — передвижения по пятиугольнику, «шаги дракона» — передвижения по серпантину, будто дракон волочит свой хвост, «дуговые передвижения» — передвижения по пологой дуге вперед и назад, «шаги змеи» — передвижения с вращением всего тела, «шаги по девяти дворцам» — передвижения по многоугольнику. В последнем случае во время тренировки на земле рисовался огромный квадрат, разбитый на девять квадратов поменьше, что, по представлениям древних китайцев, соответствует архитектонике самого Неба. Кстати, такие же «девять дворцов» существуют и в нижнем киноварном поле человека, где пестуется пилюля бессмертия, и даже в голове, в верхнем киноварном поле, где рождается высшая духовная субстанция — шэнь.
Комплекс с боевыми граблями
Обычно передвижения в таолу соответствовали развертыванию небесных соответствий на земле, автором которых является сам человек. Например, в стиле багуачжан боец передвигается по девяти кругам, повторяющим схему «девяти дворцов», при этом в общем плане сама траектория передвижений рисовала на земле схему Тайцзи — Великого предела.
Обратим внимание: здесь понятие «форма» — это не просто вещь, которую можно осязать или видеть, но особая граница между сферой небесных образов, фактически — прообразов всего видимого мира, и сферой мира вещного, материального. Отсюда же и знаменитое выражение о необходимости «прозрения доподлинной формы», что означает понимание предела развития обеих сфер, когда одна переходит в другую, образы трансформируются в вещи, а вещи без разрушения уходят в свое предсостояние. Здесь — обретение истинной формы, то есть формализация ведет к определению предела, к самому Тайцзи, где каждое понятие не просто абсолютно тождественно своей противоположности, но оно парадоксальным образом и есть эта противоположность, когда «истинный удар — отсутствие удара», «великая белизна — темна», «великий звук не услышишь», «великая музыка — беззвучна».
Теперь нетрудно понять, почему форма — это лик, отражение Дао. Именно поэтому в ушу внешней форме придается столь большое значение, когда ученик годами может овладевать десятком движений. Ясно, что овладевает он не столько самим движением, сколько его «небесным прообразом».
Тренировка в ушу обычно начинается с овладения базовыми упражнениями — цзибэньгун, которые могут включать в себя простейшие махи ногами, растяжки, передвижения, несложные удары, стойки и т. д. Все их принято сводить к «пяти методам», или «пяти способам» (уфа), которые в сочетании и дают корректную реализацию внешней формы приемов. Это работа руками (удары и блоки), работа ногами (удары, подставки), движения корпусом, стойки и передвижения, способы взгляда.
Обычно наибольшее внимание новички уделяют именно ударам и блокам, и мало кто знает, что истинный знаток боевых искусств определяется по движениям корпуса и способам взгляда. Считается, что именно эти две составляющие свидетельствуют о знании энергетических основ ушу. Скажем, движения корпусом — это отнюдь не просто гибкость или подвижность тела, но особое умение направить ток ци в нужную точку, что в определенной степени похоже на йогические асаны. Существуют стили, где большая часть работы приходится именно на движения корпусом — скручивания, развороты, различные вращения, наклоны, нырки, легкие подрагивания, откидывания корпуса назад. Таковы, например, стили «Пьяный кулак» (цзуйцюань), змеи (шэцюань), обезьяны (хоуцюань). Крайне важна работа корпусом и в упражнениях с оружием, не случайно китайцы говорят, что «меч держат рукой, вращают поясницей, а укол наносят всем телом».
Корпус является своеобразным передаточным звеном внутреннего усилия, характерно, что в ряде стилей его называют «срединным сочленением», уподобляя корпус могучему стволу древа, связывающему воедино влагопитающие корни и цветущие ветви.
Способ взгляда — один из самых сложных элементов в искусстве ушу. Обычно он включает в себя две составляющие — направление и выражение. Например, взгляд может быть направлен на ударную конечность (это обычно делается во время выполнения комплексов) или в сторону удара. В тайцзицюань взгляд всегда следит за «наполненной» рукой, выполняющей основное движение, и тем самым как бы передает ей волевой импульс, не случайно зачастую китайцы говорят о некоем «духе глаз» (янь-шэнь), который наполняет то пространство, на которое направлен взгляд бойца.
Необходимо научиться и играть выражением взгляда. Он может быть спокойным, грозным, гневным или даже растерянным, как, например, в стиле «Пьяный кулак». В синъицюань важнейшим способом воздействия на противника является «отравленный взгляд» (дуянь). Большим знатоком искусства «отравленного взгляда» был великий Сунь Лутан, который лишь одним своим взглядом приковывал противника к месту. Другой мастер синъицюань, Ли Лонэн, «отравленным взглядом» вызывал такую нестерпимую боль у своих соперников, что они валились на землю от боли во всем теле.
В некоторых стилях могли основной упор в тренировках делать именно на отработку особого типа взгляда, причем сами способы держались в строгом секрете. Например, в провинции Хунань в XVII веке на стыке синъицюань, шаолиньского стиля пяти животных, стиля орла и стиля журавля родился стиль горного орла. В этом стиле внутренняя энергетическая работа превалировала над чисто внешней имитацией движений орла, например, особыми упражнениями следовало вскармливать «Прежденебесное ци» и «Посленебесный дух», что в конечном счете должно было «укрепить кости и подарить долголетие». Но основное внимание здесь уделялось «духу взгляда» — «орлиный взгляд» должен был заставить противника в страхе броситься бежать. Сам же боец, когда перед его лицом размахивали мечом или даже кололи в голову пикой, не имел права не только измениться в лице, но даже моргнуть. Естественно, что такой выдержке и искусству взгляда обучались годами. Например, ученики часами смотрели на зажженную свечку не моргая, а вглядываясь в даль, пытались рассмотреть мельчайшие детали у отдаленных объектов; особым образом учились переводить взор из стороны в сторону, не поворачивая головы.
Канон формы в ушу и творчество духа
Средоточием принципов ушу и реализацией базовых навыков является прием (чжао), или форма (ши). По сути, это и есть форма Дао в предельном своем выражении. Это квинтэссенция всей тренировки ушу. Обратим внимание: просто отдельный удар приемом не является, прием может состоять из пяти-шести движений и имеет вид завершенной композиции. Действие такого приема простирается значительно дальше, чем защита или нападение. Он имеет еще и «провоцирующее» значение, вызывая в сознании различные образы и выводя сознание человека за рамки собственной персоны. Об этом ярко говорят и названия самих приемов: «Смиренный монах поклоняется Будде», «Голодный тигр бросается на добычу», «Яростно бить в бронзовый колокол», «Черный дракон выходит из воды», «Панда карабкается на дерево». Не менее показательны названия форм тайцзицюань: «Расчесывать гриву дикой лошади», «Петух, стоящий на одной ноге», «Держать птицу за хвост». Прием в ушу всегда взывает к образу, к переходу сознания человека в этот образ и тем самым бесконечно превосходит выполняемое действие.
Например, в тайцзицюань форма «Схватить птицу за хвост» состоит из четырех базовых элементов: отведение руки соперника (пэн), ее захват и рывок противника на себя (люй), надавливающее движение, теснящее соперника (цзи), и, наконец, толчок (ань). При этом занимающийся представляет, как к его руке привязана птица, рвущаяся в небо, а он легко притягивает ее обратно.
Прием, конечно же, не простая совокупность движений или слагаемая векторов силы. Это прежде всего самобытный психологический акт. В этом коренятся две на первый взгляд кардинально противоположные стороны формы в ушу. Прежде всего, выполнение формы в определенной степени механистично и даже конформно — прием непосредственно связан с определенным каноном, который в свою очередь зависит от традиции данной школы, ее технического арсенала, привычек наставника. В этом случае от ученика требуются абсолютная ортодоксальность выполнения форм, их строгое соответствие канону. Ушу безусловно стоит на каноне, но не на догматике, которая в боевых искусствах Китая абсолютно исключена.
Однако существует и другая сторона приема, которая не позволяет формализации дойти до предела. Она связана с уникальностью человека как совокупности определенных психических свойств, доминантных физических качеств (его роста, силы) и духовных принципов. Приемом руководит всегда воля конкретного человека, зависящая от степени его внутренней свободы и, следовательно, возможности интуитивно варьировать требования канона. Боец, не освоивший формального знания приемов, не сможет эффективно вести бой и остается как бы «обнаженным» без усвоения канона. Но, с другой стороны, человек, боготворящий канон и боящийся уйти от него, также обречен попасть в тупик. Он становится рабом внешних уложений, которые он не способен творчески применить на практике. Эта проблема — чисто психологическая, ибо свидетельствует о полной внутренней несвободе и душевной скованности человека.
Истинный поединок в ушу есть всегда процесс внутреннего творчества, рождающегося из освоения базовых принципов ушу. Эти принципы рождают в человеке бойца, уводят его от механицизма в область свободных вариаций. Поэтому «боевая машина» — не лучшая оценка настоящего воина, так как автоматизм является далеко не последней фазой в освоении боевой техники ушу. Прием доведен до автоматизма, но этот автоматизм подкреплен возможностью интуитивно чувствовать и непредвзято ощущать реальность, выбирать варианты ведения поединка, выражая свой творческий импульс — волю (и), одним словом, творить, освобождаясь от стереотипа канона. Когда требования канона доведены до абсолютного предела, интериоризировались, от внешних наставлений перешли в плоть и кровь, канон ненасильственно самоустраняется. Боец постигает полноту внутренней свободы поединка, открывая перед собой бесконечное количество вариантов и возможностей.
Власть канона и его самоустранение — не просто два этапа в изучении ушу, эти две сущности присутствуют и в поединках и в комплексах, именно это позволяет наиболее полным образом выразить себя.
Таолу — это средоточие всех принципов стиля, живое воплощение духа древних мастеров. В этом состоит абсолютная ценность традиционного таолу — ученик ощущает, явственно осознает, что выполняет те же движения с той же последовательностью и обретает то же внутреннее состояние, что и великие мастера школы. Таким образом, происходит преемствование духа через преодоление внешних форм в таолу. Комплексы как бы рассказывают ученику о традиции ушу, делая это в столь необычной, но проникновенной форме.
Традиционные таолу и есть «истинные формы» ушу. Безусловно, знание такой «истинной формы» еще не означает, что ученик обязательно достигнет уровня мастера, но лишь правильность таолу, их полноценное понимание и целостное объяснение открывают путь к этому. Форма в ушу — всего лишь особый указатель, не путь, но знак этого пути, подсказывающий, куда идти. «Если человеку указано на юг, он уже не пойдет на север», — говорят по этому поводу китайские мастера. Сама по себе дорога еще не гарантирует, что каждый желающий одолеет ее, но она потенциально может привести к цели.
Таолу служит пространством соположения неизменной повторяемости движений и состояний с уникальностью личного опыта.
Истинная форма, сополагаясь с силами космическими, внебытийственными, переносит их вселенский покой на человека. Для этого и следовало «успокоить ци», «привести его в состояние стабильности» (динци). В этом проявлялся принцип «срединной гармонии» (чжунхэ), тонкого и чуткого созвучия, созвучности всех существ и явлений в этом мире. «Срединная гармония» всегда опосредуется в человеке через циркуляцию «срединного ци» (чжунци). Рассуждая о его качествах, мастер тайцзицюань Чэнь Синь писал: «Срединное ци поименовать труднее всего, равно как и трудно дать имя той дороге, по которой движется срединное ци. Оно бесформенно и беззвучно. Если не практиковать долгое время гунфу, то не сумеешь осознать его. Поэтому, не отклоняясь и не колеблясь, является оно следом без формы и срединой одухотворенной естественности».[42] Занимаясь ушу, мастер омывает свое тело «срединным ци», ибо оно «проникает в центр сердца и почек, наверху достигает макушки головы, а внизу опускается до точки хуэйинь (центральная точка промежности. — А. М.)».
Во время выполнения комплексов человек должен быть подобен не столько бойцу, ставящему своей целью грамотный поединок, сколько мудрецу, получающему свои силы и толчок к выполнению движений от «пружины Неба» — Дао. У такого человека движения ушу рождаются сами собой, как бы проистекая из сердца («основа сокровенной пружины проистекает из сердца»), а сами приемы являются лишь видимым и доступным для окружающих выражением самотрансформаций Дао. Все происходит интуитивно и спонтанно. Мастер Сунь Лутан выразил это следующими словами: «Каждое движение тела — это Путь Неба, поэтому можно, не прилагая усилия, достичь Средины (чжун). В отсутствие размышлений легко и свободно достигаешь Срединного Пути. Такой мудрец имеет общее тело с Великой пустотой и совместные установления с Небом и Землей. Принцип кулачного искусства также составляет единое целое с Путем мудреца».[43]
Это отсутствие мысли, размышлений (сы), по выражению Сунь Лутана, и есть «возвращение к Пустоте посредством упражнения духа». «Не двигаясь, изменяемся и достигаем состояния уво («не-я»). Тогда и приходит состояние кулачного искусства вне кулачного искусства, воли за пределами воли, бесформенной формы, безобразного образа, отсутствия себя и отсутствия другого. Упражняя дух, возвращаемся к пустоте. Изменение духа — это и есть достижение неизмеримо утонченного Дао».[44]
Таолу, равно как и вся система ушу, требует понимания не того, зачем делаешь, но того, что делаешь вообще. Здесь принципы ушу в своем предельном выражении неотличимы от принципов обыденной жизни вообще — поэтому и говорят, что «в ушу нет ничего особенного и сверхъестественного», ибо сложно не ушу, а та внутренняя реальность, которая стоит за боевыми искусствами. Но она же стоит и за самим актом жизни и заключена в умении свободно и естественно принять сам момент своего существования. Жизнь тогда обращается в судьбу, а человек должен осознавать свое предопределение, свое мессианское предназначение. Это и есть то, что китайцы называли «полнотой жизненности», позволяющей принимать жизнь в ее данности — «таковости».
Использовать неиспользуемое
В мистической традиции ушу всякое движение, всякий прием становятся знаком присутствия Дао. Особенно ярко эта традиция прозрения внутренней реальности за внешними приемами проявилась в стилях «внутренней семьи» — тайцзицюань, багуа-чжан, синъицюань. Об этой второй сущности приема говорил и мастер синъицюань Го Юньшэнь как об умении использовать «сокровенно-утонченные изменения духа». Все это и есть проникновения в образы Дао, в предобразы мира и самого себя, понимание второй, «внутренней» сущности любого явления, которая предшествует первой — видимой и осознаваемой. «Вторая» реальность может оказаться более чувственной, более настоящей, чем первая. Дао ни умозрительно, ни чувственно не уловимо — «смотрю на него и не вижу его; слушаю, но не слышу», — поэтому и не имеет смысла описывать его внешнее, «вещное» выражение. В данном случае целиком подтверждается известный афоризм, что «все сказанное есть ложь». Знак противоречит сущности, ибо Великий Путь нельзя кодифицировать, так как Дао само кодифицирует нас, расставляет все «по полочкам» и определяет судьбу — «жизненность» (мин) всех людей. Не случайно для ушу описательная форма — трактат, устные наставления — значит намного меньше, нежели бессловесное внимание мыслям (даже не словам!) учителя и вхождение в его образ как образ самого Дао.
И все же при всей иррациональности Дао его можно постичь, но лишь приняв весь мир за его символ — Великий символ бытия. Поэтому вся китайская культура предельно символична и образна, как бы вечно отстранена от конкретики и в то же время предельно прагматична. Примером тому может служить даже не столько даосизм, сколько конфуцианский грандиозно сложный ритуал, ритуал помпезный, богато декорированный и перманентный, зачастую сливающийся с самой жизнью. А что есть жизнь, коль не зримое, объек-тивизированное выражение Дао, где все действия, события, люди — лишь «указатели» на некоего темного двойника действительности, столь же реального, сколь и призрачно-далекого, не имеющего «ни цвета, ни звука, ни запаха, ни формы», пустотного, но всеопределяющего. Ритуал в этом контексте уже становится далеко не механически-безжизненным набором жестов и слов, но попыткой отделить священное от профанного и на этой основе указать на всеобъемлющую двойственность бытия — внешнюю и внутреннюю стороны. Их суть едина и безусловно сводима к Дао. Поэтому в китайской культуре внешнее — всегда лишь проекция внутреннего, и это прекрасно видно на примере взаимоотношений внешних и внутренних стилей, где противоречия — лишь кажущиеся и во многом наигранно-традиционные.
Мир — как символ, движение тела всегда равно движению души, а последняя всегда дана как трансформация сверхбытийной творческой воли — все это определяло суть многих явлений китайской культуры, переводя их в разряд «искусства души». В частности, на этом полностью базировалось художественное творчество, где предметы изображались скорее как символы, нежели как почти фотографическое отображение реальных форм. Стоит ли рисовать обыденность, когда за ней скрыто то, что действительно достойно внимания и долгих лет духовных поисков? Этот подход даже позволил раду исследователей говорить, правда не совсем доказательно, о китайском «импрессионизме», «символизме» и даже «сюрреализме» в живописи, особенно в монохромных пейзажах гор и вод. Однако Европа всегда выражала отношение личностного «Я» к происходящему, утверждая приоритет полнокровного «Эго» и его отражения действительности над самой действительностью. Китай же вел речь о символической глубине явления, но в отнюдь не символическом его восприятии личностью. Это была особая перспектива духа, которая открывалась после преодоления внешней формы. Китайский мастер-живописец не мог сказать про свою картину: «Я так вижу», — ибо так и есть на самом деле во внутренней реальности космоса.
На таком же символическом понимании мира — воплощения внеположенного Дао — и основывалось философское учение ушу. С одной стороны, движение в ушу крайне важно, так как оно сущ-ностно оформляет всю систему, тренирует тело и похоже, пользуясь китайским определением, на сосуд, резервуар, куда вмещается некое содержимое. И в то же время оно не имеет никакого значения, так как это всего лишь заурядная символика непостижимой сущности, а существует «форма вне форм» и «кулачное искусство вне кулачного искусства». Это не более чем горы и воды на живописном изображении, камни и карликовые деревья в китайском миниатюрном саду. Эти два момента — апологетика формы и ее постоянное преодоление, отрицание вплоть до цинизма («Но на самом деле ничего этого не надо человеку — лишь трата времени» (Сунь Лутан)) — отнюдь не отрицали друг друга. Постижение Дао в ушу идет через квинтэссенцию — некую сверхформу, когда на основе долгих занятий «мертвое» движение наполняется духом — «одухотворяется». Поэтому в ушу часто ведут речь о «священном», или «одухотворенном», ударе — шэньда. Форма и не-форма идут всегда рядом, причудливо и иллюзорно переплетаясь, но никогда не смешиваясь.
Ушу включает в себя тысячи приемов, сотни методов тренировки, массу гигиенических, диетологических и моральных предписаний. Даже профану нетрудно понять, сколь огромную роль они играют в формировании корпуса ушу. Но все же, чтобы выразить мастерство, равное в данном случае выражению Дао, не требуется множества форм. Достаточно лишь одного удара. Или, наоборот, полного покоя вне всяких ударов. После долгих лет тренировки истина открывается в своей непосредственной простоте и непритязательности. Об этом и говорят поговорки в ушу: «Один удар и есть Дао», «Всякий прием таит в себе полноту истины». По смыслу это похоже на известное чаньское изречение: «Обыденное сознание и есть истинное Дао». Действительно, коль скоро каждая из мириад вещей мира может служить вратами в сокровенную сущность Дао, то почему ими не может быть всего лишь один прием, выполненный в состоянии обыденного, спокойного сознания?
Но стоит ли в таком случае изучать сотни сложных форм в ушу? Не достаточно ли одной-единственной, но «истинной»? Казалось бы, это может значительно сберечь усилия и сократить путь. Однако истина хотя и проста в ее непосредственном восприятии и выражении, путь к ней может быть весьма долог, так как это дорога к просветленному сознанию. Методы психотехники в ушу предназначены для «просветления» или «очищения» сознания, устранения всех отвлекающих мыслей — «шумов». Разные стили и школы могли использовать и разные методы, хотя можно сказать, что между ними было больше общего, чем отличного. Стили, возникшие под влиянием буддизма, предлагали одни методы медитации и психопрактики. Развивавшиеся в лоне даосизма — активно опирались на опыт психопрактики, накопленный в древних системах даоинь и даосами-мистиками. Однако в XVII–XVIII веках все методы столь тесно переплелись, что стало нелепым говорить об исключительно «буддийских» или «даосских» стилях — таковых просто не было.
Итак, путь к пониманию высшей сути ушу можно выразить приблизительно так: преодоление («опустошение») формы через изучение этой формы и даже фанатичную преданность ей. Мастера ушу вели речь о некоем сокровенном «использовании» (юн). Что же это такое? Первоначально надо использовать лишь то, что имеешь и чем владеешь. Вначале это могут быть несколько базовых движений, позже — сложные комплексы. Их формальное изучение надо довести до некой критической точки и, «используя», полностью исчерпать их, сделать шаг в их внутреннюю сущность. «Использование» — особая наука в ушу, так как всегда существует опасность «споткнуться» о форму, апологизировать ее и вместо использования формы предаться поклонению ей, забыв, что это всего лишь этап на пути к более высоким целям. Чжуан-цзы говорил, что «многие умеют использовать то, что имеет сущность. Но нет тех, кто сумел бы использовать неиспользуемое», т. е. само Дао…
Известный мастер Чэнь Синь (XIX век) так говорил об этапах постижения ушу: «Изучающий ушу движется от того, что имеет форму, к тому, что не имеет и следа, постигая в этом небесном искусстве сокровенно-утонченное начало». Трудно выразить точнее обретение смысла ушу, равного пониманию самого Дао — «того, что не имеет и следа». Все истинное в ушу не имеет следа и пустотно, например, «срединное ци», определяющее мастерство в тайцзицюань, «использование пустотного» в отработке приемов. Поэтапность обучения фактически заключается в переходе от «полного» (ши) и «имеющего форму» (юсин) к использованию «пустотного» (сюй) и «бесформенного» (усин).
Так иллюстрировались учебники ушу в XVI веке
Сунь Лутан писал, что существует несколько этапов «использования» в ушу: «Использование того, что имеет форму и внешний вид. Использование того, что имеет вид и имя, но бесследно. Использование того, что имеет звук и имя, но не имеет формы. Использование того, что не имеет ни формы, ни вида, ни следа, ни звука, ни запаха».[45]
Таким образом, в ушу происходит постепенное нивелирование внешней формы и приход к доформенному состоянию мира.
«Движение за пределами движения»
Итак, движения в комплексах обретали символическое звучание, как бы сообщая, что за ними присутствует бесформенная пустота, которая придает структурное единство всей системе ушу, равно как и любому виду традиционного китайского искусства. Не случайно в наставлениях по выполнению таолу речь идет об «одухотворенном движении», становившемся идеалом естественности человеческого самовыражения. Редко какой-нибудь комплекс, за исключением тайцзицюань, выполнялся больше трех-четырех минут, на большинство же затрачивалось чуть больше минуты. Спрессованность всего знания ушу в нескольких десятках движений заявляла о себе в особом внутреннем состоянии человека, абсолютно отличном от обыденного. В эти мгновения человек жил особой, космической жизнью. Обратим внимание, как об этом говорили сами китайцы. В эпохи Суй и Тан, когда только формировалась система тренировок через таолу, выходившая из недр ритуальных танцев, боевые комплексы уже именовали «чудесными», «преисполненными великой радости», «открывающими Путь», а мастера XVIII века считали, что смысл таолу — «сделать сердце спокойным, дух устойчивым, а сознание невозмутимым».
Такое понимание комплекса выходило далеко за рамки его чисто тренировочной, физической функции. Важно было другое — «намекнуть», что за самой ничтожной деталью движения должны угадываться богатство и «неисчерпаемость» (уцюн) внутреннего содержания. Комплексы ушу начинают непосредственно сополагаться с эстетическими концепциями Китая и превращаются в искусство символа и «движения за пределами движения». Известный учитель багуачжан Хуан Бонянь (начало XX века) говорит именно об этом вибрирующе-тонком, эстетически преломленном состоянии, которое характерно для первого движения комплекса лунсин багуачжан («Форма дракона «Ладони восьми триграмм»): «Из Беспредельного рождается Великий предел. Из Великого предела рождаются два начала (Небо и Земля), четыре проявления (большое инь, малое инь, большое ян, малое ян) и пять первостихий (металл, дерево, вода, огонь, земля). Нет ничего, что бы не рождалось отсюда. Покой изменяет движение, движение трансформирует покой. Опустошаясь, наполняемся. Наполняясь, опустошаемся и изменяем тем самым все сущее. Принцип этот неисчерпаем… Нельзя использовать силу, чтобы наладить циркуляцию ци. Обретаешь состояние пустоты пещеры, отсутствия себя и отсутствия другого. Эти слова содержат покой, но причина его не видна. Эти слова содержат и движение, но не узреть его след. Это — основная форма для регуляции ци и вскармливания духа».[46]
Очевидно, что речь идет о проявлениях в движении Дао, которое настолько бесследно, что утверждает себя лишь через самоотрицание — «но не видна его пружина». Человек, мало знакомый с принципами ушу, вряд ли догадается, что здесь речь идет о первой и самой простой позиции в комплексе, когда боец стоит прямо, ноги вместе, а ладони лежат на бедрах. Простота внешней формы как бы предопределена многообразием внутренних трансформаций, космическим рождением внутри человека Великого предела, Неба и Земли, четырех проявлений, пяти первостихий — одним словом, всего мира. И здесь сам человек становится этим миром на стадии семени, завязи, предшествия. Безыскусность движения, которого, по сути, нет (в физическом плане это статичная позиция), лишь подчеркивает его внутреннюю глубину, вводя человека в состояние двойного самоотсутствия — «отсутствия себя и отсутствия другого» (дословно — «не-я и не-он»), снимая грань между субъектом и объектом, человеком и миром, распластывая его в пространстве сверхбытия и возвращая человека к абсолютной пустоте даосской пещеры — гулкой пустотности пространства, в котором ничего нет, но которое содержит семя всего сущего.
Воин и благородный муж
Итак, таолу в ушу — это внутреннее движение, воспроизведенное вовне. Эта мысль — «дать форму бесформенному» — четко прослеживается в традиции внутренних стилей. Например, известный трактат «Рассуждения о тайцзицюань» так описывал переход импульса воли от внутреннего образа к внешнему движению: «Его корень располагается в ступнях, проистекает из ног, направляется поясницей и обретает форму в пальцах рук».[47] Обратим внимание на безличную форму построения предложения, в котором идет речь о кристаллизации в движении «его» — бесформенного и неясного Дао, которое изливается в вибрации тела человека.
Воля пронизывает все движения, присутствует в них ежемгновенно, а боец не должен «отпускать» ни одно свое действие, он ведет его от начала и до конца. Даже если, например, в комплексе встречается остановка или резкая смена ритма, одним словом «разрыв», то ток воли, ее импульс, не должен прекращаться — это и придает внутреннюю целостность внешне прерывистым движениям.
Учителя «внутренних стилей» говорили, что необходимо в любой момент осознавать, где верх и где низ, где левая сторона, а где правая, где наполненное и где опустошенное, где открытое и где закрытое. По существу, речь идет о некой космической самореализации в пространстве, пронизанном единым ци.
Присутствие воли ни в коем случае не может трактоваться как напряженное внимание — воля здесь не имеет отношения к сознательному действию. Мозг не успевает отслеживать стремительные движения ушу, речь идет прежде всего о движении как о метафизической реальности. Сознание не следует за движениями, но именно «охватывает» их, наполняет и одухотворяет. Обратим внимание на этимологию самого иероглифа «и» — «воля». Он состоит из трех графем — «устанавливать», «говорить» и «сердце». Это можно трактовать как «актуализация того, что глаголет сердце», «проявление того, что исходит из души».
Воля — и есть истинная предформа, она «знает» эту форму, содержит в себе ее образ, ее семя. Образ в воле уже прекращает быть некой концептуальной абстракцией, он уже готов актуализироваться в движении. «Воля прежде движения» — этот важнейший принцип ушу открывает нам правило, что движение должно рождаться и предвоплощаться в виде образа посредством воли, а затем уже переводиться в вещное выражение.
В ушу идет как бы параллельное выполнение комплекса — в мире форм и до-форм, причем образное выполнение — не менее реально и чувственно, чем формальное. Это и позволяет наполнить пространство образов волей, причем движение не выполняется мысленно по фазам, но рисуется единым мощным штрихом волевого импульса, а затем в этот рисунок «входит» форма, помещается физическое тело. И здесь ток ци интенционально опережает тело и стимулирует его к движению. Волевое всеприсутствие — чрезвычайно сложная вещь в ушу, если даже не самая сложная и мистичная по своему пониманию. Волевой посыл заключен не столько в самом движении, сколько в предформе и сверхформе. Таким образом, обычный прием перемещается в сферу космической геометрии.
Форма, реализовавшись, уходит, исчезает, забывается, но благодаря своей наполненности остается вечно присутствовать здесь, в этом мире, в метафизическом виде волевого импульса.
Глава 8
На пути боевой добродетели
Следуя путем ушу, прежде воспитывай характер и искренность души, очищай сознание и пестуй добродетель и лишь затем изучай приемы.
Мастер Хо Юаньцзя (начало XX века)
Сила и мудрость
«Большая сила побуждает к великой мудрости» — в этом известном афоризме традиционного ушу тонко подмечена основа гармоничного воспитания бойца, сочетающего в себе единство духовного совершенствования и боевой практики. Скрытый смысл этой максимы и других, подобных ей, зачастую не сразу подмечается даже искушенными в боевых искусствах представителями западной традиции.
Может быть, все это — не более чем обыкновенный восточный трюизм, облеченный в мудрую традиционную форму, и мы напрасно ищем за глубокомысленной фразой духовное откровение старых мастеров? Не покажутся ли нам рассуждения о добродетельных поступках воинов, их высокой гуманности и мудрости немного наигранными, чуть театрализованными и рассчитанными «на публику»?
А если все же допустить, что за всем этим стоит вполне реальное, абсолютно конкретное состояние духа учителей ушу и их объяснения добродетельной мудрости следует понимать не через логически-холодный разум, а осознавать сердцем? Спросим себя, почему известные наставники в своих трудах больше места уделяют именно нравственному воспитанию человека, причем не в затертом утомительными рассуждениями западном смысле нравственности, но именно как проявлению чистого, запредельно спокойного, светло-доброго состояния сознания, непротиворечивого взаимопреемствования мира и человека?
Этот особый путь нравственно-духовного воспитания через боевые искусства, ведущий к реализации природной чистоты человеческого духа, носит название «удэ» — «боевая мораль», или «боевая добродетель», а если толковать весьма расширительно — то «благое качество, достигаемое через занятия боевыми искусствами». Именно этому качеству испокон веков отводилось важнейшее место во всех школах ушу.
Вот один из ярких примеров. Известный мастер XVIII века из Хэнани Чан Найчжоу в «Книге о технике боя» («Уцзишу») в первых главах и предисловии к своему опусу больше внимания уделял понятию добродетельного поступка, почтительности и скромности бойца, нежели описанию ударов. Он считал, что ушу начинается с воспитания души, а отнюдь не с объяснения техники поединка. Вот его слова: «Изучая кулачное искусство, надо прежде всего совершать добродетельные поступки, в мирских делах быть почтительным и скромным, не вступать в бой с другими людьми. Только таким образом можно стать истинным человеком и благородным мужем».[48]
Не покажется ли нам парадоксальным, что боевое искусство, одна из целей которого заключается в умении нанести своему сопернику максимальный урон, должно начинаться с овладения некими моральными нормами, причем это овладение заключалось не в механистическом заучивании правил поведения, но в их интериоризации, «погружении внутрь сознания», когда предписания становились основой истинной натуры человека. «Боевое искусство создано для того, чтобы им никогда не пользоваться», — подтверждает этот парадокс другая сентенция из ушу. Однако этот парадокс становится закономерностью и необычайной продуманностью, если мы будем учитывать тот факт, что культура, воспитывавшая в своих недрах столь искусных бойцов, вырабатывала и определенные нормы регуляции отношений этих людей с самим обществом. Общество, равно как и сами мастера, должно быть уверено, что их искусство никогда не будет обращено во вред людям.
Неправильно определять «боевую добродетель» как набор каких-то нравственных качеств, как раз «нравственного» тут мы не встретим. Это особая форма существования, стилистика жизни в ушу, по сути — каждодневное существование на грани человеческого и небесного.
Годами проверялся ученик, прежде чем его допускали до истинных тайн школы, до наиболее эффективных приемов и методов. Удэ постепенно превращалась не столько в ряд запретов, сколько в пробуждение общегуманного начала в человеке. Из моральных понятий, навязываемых извне человеку, боевая мораль превращалась в «отклик Дао» внутри него. Примечательный факт — ученику редко запрещалось что-нибудь делать, ему лишь объясняли, что тот или иной поступок несопоставим с идеальным образом последователя ушу. Остальное он мог решать сам: либо следовать предписанным путем боевых искусств, либо пребывать в мире иллюзий, считая, что может существовать боевое искусство без морально-духовного подвижничества.
Конечно, мы говорим о некоем идеальном варианте, но, как ни странно, этот идеал бойца воплощался в Китае не столь редко, как это было с западными нравственными идеалами. Боевая добродетель представлялась не как набор скучноватых морализаторских поучений и разрозненных дидактических наставлений, но как раскрытие высочайшей тайны души мастера («истинного человека»!), которую он передавал последователю, — слепок человеческого духа, достигшего своей вершины.
Удэ начинается с воспитания скромности — проявления особого уважения как к учителю и собратьям, так и ко всем окружающим. Ученик, который выказывал подобострастное поклонение учителю, но был груб и заносчив по отношению к обычным людям, считался утерявшим важнейшую черту боевой добродетели — всеобщность принципа искренности — и зачастую изгонялся из школы. Учитель мог строго наказать ученика за то, что он демонстрировал знания ушу без явной необходимости, добиваясь дешевой популярности.
К правилам «боевой морали» относили не только нравственно-душевные качества, но и саму серьезность человека в процессе обучения. В тренировке необходимо соблюдать «золотую середину», «не торопиться и не медлить», как учили китайские мастера, «позволять вещам и самому человеку развиваться естественным образом, своими советами помогая ученику, но ни в коем случае не приказывая. «Каждый должен следовать в обучении своим собственным склонностям», — объяснял учитель тайцзицюань Ян Чэнфу.[49]
Настоящий учитель живет внутри самого человека, новичок просто не замечает его. Этот внутренний учитель, по сути дела, и есть незамутненная природа человека (син), его врожденно-чистые свойства, которые равны самому Дао. Наставник в ушу лишь помогает пробудить этот изначальный мир внутри человека, но основной духовный процесс остается за самим обучающимся. Учитель подсказывает методы тренировки, объясняет приемы, своим поведением и состоянием устанавливает для подопечного некую точку устремлений, горизонт развития. А вот чтобы подойти к нему, требуются особое терпение, моральное усилие, выраженное в серьезности, покой души и неторопливость — качества, которые предписаны правилами поведения ученика.
Примечательно, что большинство трактатов по ушу описывали обучение не как поэтапное овладение приемами, но как процесс становления сознания, или, как это часто называли во внутренних школах, «овладение истинной мыслью и истинным устремлением». Древний трактат из «Канона тайцзицюань» «Пять заметок об использовании мастерства» так описывает этапы саморазвития: «Глубоко изучай. Вникай, вопрошая. Тщательно продумывай. Отчетливо осознавай. Искренне следуй».[50] Процесс саморазвития, как видно, начинается с вопросов к учителю, пока наставления не войдут в плоть и кровь ученика и не станут неотъемлемой частью его души. И лишь затем начинается следование учению — фактически, само ушу. За всем этим стоят колоссальная тщательность и уважение к искусству. Об этом говорил учитель тайцзицюань Дун Иньцзе: «Метод человеческой гармонии заключен в том, что хотя вы и вступаете в поединок, но при этом должны оставаться вежливыми и не терять достоинства».[51] Обратим внимание на вежливость — не наигранную вежливость, но особый тип искренности, выражающий чистоту отношения к миру. В этом — глобальная вежливость к жизни, предел глубины человеческого сердца.
Парадоксы гуманности воина
Перед мастером ушу нередко вставала проблема: когда можно использовать свои знания? Что в действительности можно считать экстремальной ситуацией? Боевая добродетель предписывала: надо сделать все возможное, чтобы предотвратить поединок, но если он все же состоялся, следует быть предельно решительным и применить все средства для достижения победы. Не случайно у Конфуция понятие «гуманность» часто сочетается с твердостью и решительностью. Гуманность (жэнь) требует большого мужества и выдержки и рождается, по традиционной конфуцианской теории, в процессе постоянного «самопреодоления». «Кто полон гуманности, тот храбр. Кто храбр, тот не обязательно гуманен», — говорил Конфуций.[52]
В ушу понятие гуманности приходит из учения Конфуция. Даже краткое перечисление всех оттенков этого понятия потребовало бы немалого научного исследования, к тому же эти оттенки зачастую меняются в зависимости от контекста. Поэтому здесь мы поговорим лишь о том, что важно для понимания внутренней природы ушу.
Прежде всего обратим внимание, как относился к гуманности, или человеколюбию, сам «учитель учителей» Конфуций. Мудрец понимал под гуманностью «путь преданности и великодушия», а также «любовь к людям». Как-то один из учеников великого учителя поинтересовался смыслом гуманности, и Конфуций объяснил: «Тот, кто в Поднебесной способен придерживаться пяти качеств, может быть назван гуманным». Речь шла о скромности, великодушии, искренности, настойчивости и доброжелательности.[53] Для Конфуция гуманность превращена в особую стилистику жизни благородного мужа, меру человеческого в человеке. А может быть, еще и в особую осторожность по отношению к самой жизни, к акту человеческого миропереживания. Ведь жизнь — это своего рода ритуал, а его надо выполнять по правилам.
Итак, гуманность оказывалась не просто доброжелательным и милосердным отношением к людям, но неким гармонизирующим фактором: во-первых, между миром и человеком, а во-вторых, между человеком культурным и человеком природным внутри одной личности. Тот же Конфуций требовал в следовании гуманности быть неизменно человеколюбивым, бесхитростным, терпимым, твердым, скромным и уступчивым. Так и рождался благородный муж, который «серьезен без суровости» и «не знает ни печали, ни страха, ибо в его сердце нет угрызений совести».
Обратим внимание: на Западе гуманность воина понималась несколько иначе, в основном как проявление сострадания к человеку, прощение сильным слабого или победителем побежденного, как это было в рыцарских поединках. Однако китайское понятие «жэнь» — «гуманность», «человеколюбие», «справедливость», «милосердие» — значительно отличается от западных аналогов. Прежде всего, мастер ушу никогда не искал боя — вероятно, поэтому ему и приходилось столь редко применять свое искусство. Именно понимание мастерства как внутреннего качества, делавшее человека не противоречащим миру, а следовательно и незаметным для этого мира, устраняло саму необходимость поединков, впрочем, как и вообще всякого соперничества. За всей этой непритязательной внешностью, некой предельной обыденностью жизни кроется духовная непобедимость мастера, поэтому и его добродетель в некотором роде запредельна, «не от мира сего». Иероглиф «жэнь» состоит из графем «человек» и «два» и может трактоваться в своем наиболее древнем значении как опосредующая функция Человека между двумя остальными началами триады — Небом и Землей. Таким образом, гуманность оборачивается некой мирорегулирующей функцией, медиатором социального поведения человека в обществе, причем само это начало исходит от Неба.
Гуманность не слепа, она выборочно действует в зависимости от ситуации, хотя для правителя, правившего, опираясь на гуманность, высшей целью становилось умиротворение народа и приведение Поднебесной в гармонию. Считалось, например, что казнь преступника — это также проявление гуманности по отношению к народу, ибо преступник может принести в мир немало зла. Гуманность не дается от рождения, ей надо учиться. Далеко не сразу приходило полное понимание сложных взаимосвязей между гуманностью, ритуалом, тайными знаниями ушу и ценностью человеческой жизни. Не случайно Конфуций называл Знание, Гуманность и Смелость тремя путями благородного мужа: «Знающий не сомневается. Гуманный не тревожится. Смелый не боится».[54]
В связи с особым пониманием гуманности обратим внимание еще на один небезынтересный момент. Дело в том, что в Китае не сформировалось такого понятия, как «путь воина», подобно японскому «бусидо» как высокоэстетизированного переживания смерти. При всем желании многих исследователей обнаружить некий «путь бойца» в Китае, вряд ли возможно сделать это. Действительно, в древних текстах неоднократно встречаются такие выражения, как «путь кулачного искусства» (цюаньдао) или, например, «путь синъицюань», но вот «пути воина» мы все же не обнаружим. Дело в том, что в Китае величественность облика, характерная, в частности, для японского самурайства, заменялась внешней непритязательностью, изящно незаметной линией внешнего абриса, указывавшей, что все истинно ценные вещи заключены внутри человека и не требуют какого-то внешнего подчеркивания. Истинный воин неотличим от самой ткани мира, поэтому и не может существовать пути воина, отдельного от пути человека. Ни разу в Китае не было произнесено это выражение: «Путь воина как путь жизни». Все обыденно, просто, внешне неотличимо от повседневности. Но именно в неприметности, нарочитой тусклости для глаз окружающих и обнаруживается «культура духа», созданная китайским народом и нашедшая свое выражение в живописи, поэзии, ушу.
Существует, кажется, еще одно обстоятельство, которое затрудняет для представителей западной традиции понимание воинской гуманности в Китае. Вопрос заключается в том, что в основе христианских понятий «справедливости» и «гуманности» лежит ощущение непреходящей значимости и высшей ценности человеческой жизни как творения Божьего. Отнять жизнь у другого — величайший грех, влекущий муки в «геенне огненной», тяжелые внутренние переживания или, по крайней мере, осуждение обществом. Множество произведений европейской литературы строит свое повествование именно на коллизии убийства, раскаяния и наказания за него, причем сам момент смерти может становиться отправной или даже центральной точкой всего произведения. А вот в противоположность этому в традиционных китайских романах герой может убивать направо и налево без малейших угрызений совести и — что может немало поразить западного читателя — без малейшего видимого осуждения со стороны окружающих. Заметим, что все это происходит на фоне весьма «гуманной» конфуцианской культуры. Немалое восхищение вызывали во все времена у китайских любителей народного фольклора имена таких бойцов, как Лу Чжишэнь, Ли Куй, Лю Бэй, которые никогда не впадали в раскаяние или хотя бы легкую грусть по поводу многочисленных жертв, павших от их ударов.
Попробуем объяснить этот парадокс. Тесная связь гуманности с ритуалом в китайском традиционном обществе приводила к примечательному явлению: понятие гуманности распространялось лишь на тех, кто соблюдал нормы ритуального поведения в обществе. А поскольку таковым поведением, полностью базировавшимся на реализации чувства осознанно-ритуального соприкосновения с миром, была проникнута вся китайская культура, то тот, кто нарушал эти правила, считался «потерявшим лицо». Автоматически он утрачивал и собственную гуманность по отношению к другим, т. е. терял основное свойство человека, а сле-довательно, с ним можно было поступать без всякой гуманности. В этом отношении весьма показательна одна из бесед Конфуция со своим учеником Янь Юанем. Когда Янь Юань поинтересовался, что такое истинная гуманность, Конфуций объяснил: «Сдерживать себя и поступать сообразно ритуалу (выделено мной. — А. М.) — вот что такое истинная гуманность». — «Позвольте узнать, — продолжал спрашивать Янь Юань, — как этого добиться?» — «Не смотреть на то, что противоречит ритуалу. Не слушать того, что противоречит ритуалу. Не говорить того, что противоречит ритуалу. Не делать того, что противоречит ритуалу», — объяснил Учитель.[55]
Не будем разбирать всей смысловой гаммы этой сентенции, это значительно выходит за рамки нашего изложения. Подчеркнем лишь один момент, кардинально важный для нас в данном контексте. Вывод из всех этих рассуждений оказывается прост, хотя и неожидан: тот, кто не следует ритуально упорядоченным нормам поведения, сам вычеркивает себя из числа тех, к кому приложимо понятие гуманности. И с ним, с человеком, «потерявшим лицо», можно поступать достаточно жестко, если не сказать — жестоко. Кстати, именно поэтому бойца, преступившего правила своей школы, нарушившего нормы общения с учителем или с другими людьми, могли сурово покарать или даже убить, ибо в какой-то момент он просто переставал существовать как полноценный человек. С другой же стороны, пока эти базовые ритуальные нормы не нарушены, необходимо приложить все усилия, чтобы предотвратить поединок и не травмировать соперника. Именно поэтому в теории ушу сосуществовали внешне абсолютно противоречивые установки. С одной стороны, учили: «Пусть твоя защита не будет сильнее, чем нападение», «Мудрец не обнажает оружия по своей воле», а с другой стороны, наставляли: «Коли вступил в поединок — свали противника с ног, как больное животное», «Ударить противника — все равно что щелкнуть пальцами». Оказывается, что дело здесь заключается не столько в противоречивости речей разных наставников, сколько в оценке того, соответствует ли поведение человека социально принятым ритуалам (напомним, что даже национально принятая форма приветствия — тоже ритуал) и, следовательно, обладает ли он в необходимой мере гуманностью.
В этом отношении весьма показателен пример Сунь Лугана — общепризнанного символа «боевой добродетели». По его теории, истинный боец должен придерживаться двуединой добродетели — «добродетели в речах» и «добродетели в руках», т. е. в поединке. В то же время Сунь Лутан весьма образно объяснял: «Смотри на соперника, как на сорную траву. Ударить соперника — все равно что прогуляться по дороге».[56] Кажется на первый взгляд весьма негуманным давать такие советы рядом с рассуждениями о гуманности и добродетели бойца, и все же, как видно, китайская традиция с ее внутренне-ритуальным понятием добродетели вполне допускала это.
Добродетельный боец
Может быть, именно субъективность этих понятий заставляла учителей ушу формулировать особые уставы школ, где описывались элементарные нормы поведения. На первых порах обучения именно они и понимались под «боевой добродетелью», хотя, разумеется, смысл ее был намного глубже и средства языка не способны были адекватно передать его. Так рождались «Шаолиньские правила учеников», «Правила последователей внутренних стилей» и многие другие уставы. Особая роль в них уделялась отношениям учеников с мастером.
Китайская эзотерическая традиция считала, что Небо испускает некую Благую силу, или Добродетельную мощь, Дэ, которую воспринимает высший среди людей — император, не случайно называемый Сыном Неба. В свою очередь, правитель распространял Дэ на своих подданных и таким образом своей Благой мощью напитывал Поднебесную, ведя ее по пути гуманности, преданности и справедливости. Если же император оказывался недостойным человеком, то он лишался «мандата Неба» на правление, а объективно это проявлялось в том, что он был не способен передавать небесное Дэ на землю и в Поднебесной начинался хаос. В уставах школ ушу практически та же теория описывалась в отношении учителя — именно он воспринимает истинное Дэ и передает его своим ученикам, напитывая свою школу. Уважение к учителю становится залогом установления прямой передачи благой силы Неба и, соответственно, истинного «небесного» мастерства. Но если человек не нес в себе это качество, то все его претензии на мастерство были напрасны, и уставы школ ушу советовали остерегаться таких людей, впавших в самообман. Дэ было практически единственным качеством, которое определяло человека как Мастера, и никакого другого критерия не существовало.






