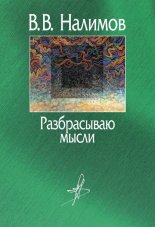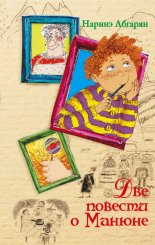Готический роман. Том 1 Воронель Нина

И он с облегчением повесил трубку. Чудно – ему удалось усмирить мать всего за семь марок и тридцать пфеннигов. Дешево отделался, можно сказать, если учесть, как серьезно начала вдруг воспринимать жизнь легкомысленная Клара, что было ей совсем не к лицу. После гибели мужа, отца Ури, в первый день йом-кипурской войны в нее словно бес вселился, и она ринулась сжигать себя в бесчисленных кратких любовных авантюрах, утверждая, что жизнь не имеет ни цели, ни смысла. А теперь она ни с того, ни с сего начала заботиться о том, что будет завтра. Она не могла понять простой истины, открывшейся Ури в том залитом кровью тупичке: что никакого завтра нет, есть только случайное стечение обстоятельств. Десятки пуль, выпущенных в одну секунду дюжиной вражеских автоматов, чудом обошли его, – случай, не задевая его тела, провел их траектории через тела Эзры и Итая. А он остался жив, хоть мог умереть и перестать быть, как Эзра и Итай. В этом не было ни его вины, ни его заслуги, – он остался жив по ошибке, которая может быть исправлена в любой момент.
Ури вышел из телефонной кабинки, приютившейся в дальнем уголке кабачка «Губертус» возле курочки и петушка – парных дверей в туалет. Он был здесь в первый раз после того, как его занесло сюда в ту нелепую смурную ночь, память о которой была почти смыта волнами горячечного бреда. В полутемном низком зале было пусто и тихо, только где-то за дверью – наверно, на кухне – скучно бубнило радио:
«...когда мы поем, мы держимся за руки и раскачиваемся все вместе, а еще лучше, если мы обнимаем друг друга, потому что души общаются друг с другом через тело... когда кто-нибудь кладет мне руку на грудь или между колен, он проникает в мою душу еще глубже...» – монотонно рассказывал женский голос.
Ури огляделся. Слева высилась стойка бара, увенчанная кофейной машиной и бессчетными кранами впрессованных внутрь пивных бочек, справа зеленело обширное поле зеленого бильярдного стола, за ним выстроились отделенные друг от друга решетчатыми перегородками обеденные столики под красно-белыми клетчатыми скатертями. Над стойкой висели вниз головой окольцованные бронзовыми зажимами крупные бутыли с янтарными коньяками местного производства. Пространство между баром и бильярдом было густо уставлено длинными пивными столами из хорошо оструганного некрашеного дерева, вдоль которых тянулись такие же деревянные лавки. Было очевидно, что в этом заведении пили гораздо больше, чем ели. Рядом с бильярдом переливался всеми цветами радуги и весело попискивал экран игрового автомата.
Со стен на Ури глядели бесчисленные Губертусы, искусно вырезанные из узловатых хитросплетений древесных корней. Они выглядели, как портрет одного и того же человека в разные минуты и годы его жизни – в молодости и в старости, в беде и в радости, в гневе и в застольной беседе. Было что-то магнетически притягательное в этих хитрых мордах с узкими проницательными глазами и ощеренными бородатыми ртами, так что Ури не мог оторвать от них взгляд, невольно прислушиваясь при этом к сбивчивому женскому голосу, звучащему по радио. Это была одна из тех раздражающих передач, когда кто-то неумело рассказывает свою историю, а ведущий не перебивает, чтобы вернее следовать правде жизни:
«...а в свечном воске смешаны душистые травы, от которых голова кружится... когда мы долго поем, мы становимся как один человек, будто поем одним голосом все, и тогда наши слова доходят прямо до Бога, и он слышит наши просьбы. В тот момент, как он нас слышит, демоны зла покидают наши души, и нас пронзает яркий свет... мы все падаем на пол, как попало – кто на колени, кто ничком, и начинаем кататься по полу... к нам приходит озарение, и силы зла уже не могут нам повредить...»
Хлопнула дверь, и за спиной Ури что-то звякнуло. Он оглянулся, – за стойкой стояла хмурая костлявая женщина с потухшей сигаретой в углу рта и старательно терла тряпкой зеркально чистую поверхность между кофейной машиной и пивными бочками. Ури понял ее появление как намек, что ему пора что-нибудь заказать, и попросил кружку темного пива. Монотонный голос продолжал бубнить за закрытой дверью, но разобрать слова уже было невозможно. Нацедив полкружки, кабатчица долго отстаивала пиво, пока осядет пена, чтоб долить доверху, так что у Ури было полно времени ее разглядеть. Он никак не мог вспомнить, видел ли он ее в тот вечер, хотя лицо у нее было запоминающееся – этакий женский вариант Губертуса: тот же кочковатый нос, те же узкие проницательные глаза, разве что без бороды, хоть, впрочем, какая-то щетина топорщилась у нее на подбородке.
Фрау Губертус тем временем тоже внимательно разглядывала Ури и делала какие-то выводы из того, что увидела.
– Три пятьдесят, – не сводя с него глаз, сказала она.
Ури достал из кармана пригоршню монет и бросил на стойку. Он чувствовал себя почти Крезом – вчера он получил свою первую двухнедельную зарплату. Вполне приличную, если учесть, что работа его состояла только из ухода за свиньями и строительства холодильника. Забой свиней Инге взяла на себя.
Кабатчица отсчитала свои три с полтиной и вопросительно уставилась на него снова:
– Я могла вас тут раньше видеть?
Ури ссыпал оставшуюся мелочь в карман и отхлебнул пиво, – это был божественный продукт, в котором горечь гармонично сочеталась с терпкой сладостью:
– Как-то поздно вечером я заходил к вам, чтобы спрятаться от дождя.
Лицо кабатчицы озарилось каким-то потусторонним восторгом, будто упоминание ночного визита Ури в кабачок открыло перед ней новые, ей одной ведомые горизонты. Она рывком отворила дверь в кухню и позвала хриплым прокуренным голосом:
– Марта! Хватит сказки рассказывать, неси мне чистые кружки!
Голос резко оборвал свою речь на полуслове – значит, это было вовсе не радио! – и на пороге появилась толстая баба с подносом чисто вымытых пивных кружек. При виде Ури она застыла на пороге кухни, словно новые горизонты открылись и перед ней. Женщины быстро обменялись полувзглядом-полукивком, и Марта, не отрывая глаз от лица Ури, с таким размахом поставила поднос на стойку, что одна кружка соскользнула с него и закачалась на самом краю.
– Смотри, куда ставишь! – взвизгнула кабатчица, ловко подхватывая кружку почти на лету, но сталкивая при этом на пол весь поднос. Рассыпавшиеся кружки со звоном покатились во все стороны. Из кухни вопросительно выглянул высокий мужчина средних лет, судя по повадке – хозяин кабачка. Его мелкие правильные черты странно не вязались с очень светлыми, почти прозрачными выпуклыми глазами от совершенно другого лица.
– Что за шум, Эльза?
Кабатчица пожала плечами и, не удостоив его ответом, начала собирать кружки.
Толстая Марта присоединилась к ней, а хозяин стал цедить из бочки пиво, лениво разглядывая два мелькающих перед ним зада – тощий и пышный, от чего в его прозрачных глазах вспыхивали и гасли многоцветные сполохи. Ури взял свое пиво и сел в дальнем малоосвещенном уголке, пытаясь сообразить, не та ли это Марта, которая пару раз приходила в замок скандалить. Хозяина он теперь вспомнил: и голос, и глаза, и имя – Вальтер.
Хлопнула входная дверь, и в кабачок вошли двое – кажется, встречавшийся уже здесь крепкий мужик средних лет с большой пластиковой сумкой в руке и молодой бритоголовый парень, затянутый в черную кожу со стальными бляшками – может, и этот знакомый, по поезду? Парень, громко цокая подковками высоких сапог, буркнул «Грюсс Готт!», прошел к игровому автомату, бросил в него монету и начал сосредоточенно играть, а мужик бережно опустил свою сумку на стойку, куда Эльза кончала ставить последние кружки.
– Все, все, все! Спешите познакомиться с нашей ведьмой из замка! – высоким голосом ярмарочного зазывалы выкрикнул он, распуская стягивающие горло сумки тесемки.
«Гейнц!» – предостерегающе крикнула Эльза, указывая глазами на Ури, но было поздно: Гейнц (точно – Гейнц, его Ури тоже вспомнил) уже извлекал из сумки искусно вырезанную из длинного корня куклу. Толстая Марта радостно захохотала и захлопала в ладоши, – кукла и впрямь была похожа на Инге. Это была уродливая злая карикатура, но суть сходства была уловлена с большим мастерством. Пока Марта злорадно тискала куклу, словно пыталась причинить ей боль, Эльза что-то тихо говорила Гейнцу, многозначительно поглядывая в угол, где сидел Ури. Вальтер тоже прислушивался к ее словам, медленно прихлебывая свое пиво. Цветные сполохи в его странных глазах вспыхивали еще ярче, – то ли там отражались всплески красок на экране автомата, то ли зажженные Эльзой лампочки в центральной люстре, увенчанной старинным оранжевым абажуром с шелковыми кистями.
Не говоря ни слова, Вальтер поставил еще одну кружку под пивной кран, а затем взял из ящика острый нож и, сняв с крюка висящий над стойкой круг сырокопченой колбасы, бросил его на деревянную доску и стал умелыми ровными взмахами строгать его на тонкие, почти прозрачные кольца. Закончив свою работу, он полюбовался полученным натюрмортом, добавил к нему обе кружки – свою и вновь нацеженную – и, аккуратно ступая среди лавок, понес его к угловому столику, где сидел Ури.
– Со знакомством! – сказал он, опуская доску на стол перед Ури.
Ури не успел ответить, потому что в это время кожаный парень выиграл у автомата горсть монет и под их перезвон радостно провозгласил:
– Наше правительство – говно!
Присутствующие отозвались на его слова веселым гулом, а парень со звоном швырнул свои монеты на стойку и приказал:
– Пива на всех!
Эльза подставила по кружке под каждый кран и вышла из-за стойки, чтобы протереть лишний раз зеркально чистые столы по соседству с Ури, а Вальтер придвинул доску с колбасой поближе к Ури и спросил:
– Надолго вы к нам?
Каждой клеточкой кожи ощущая напряженное внимание всей рассеянной по кабачку аудитории, Ури пожал плечами:
– Еще не знаю. Смотря как пойдет, – и услышал, как прямо над его ухом недобро хихикнула Марта. Он оглянулся: Марта стояла за его спиной возле игрового автомата с куклой в руках, делая вид, что кукла нажимает на кнопки, и следя за маневрами Вальтера. Ури даже не заметил, как она туда прошла. Он вдруг явственно почувствовал холодящий перехват дыхания под ложечкой, – почти забытый сигнал тревоги, предупреждающий, что он попал во вражеский лагерь.
Вальтер быстрым движением приподнялся и, перегнувшись через спинку лавки, шлепнул Марту по оттопыренному заду, в ответ на что она взбрыкнула ногой, но не обернулась и продолжала играть с куклой. Эльза выплюнула в пепельницу свою погасшую сигарету и рявкнула:
– Марта! Пора чистить картошку!
Тут Марта оглянулась на Вальтера, словно ища защиты, но тот и бровью не повел. Тогда она нехотя положила куклу на стойку и вышла на кухню. Вальтер проводил ее глазами и снова повернулся к Ури:
– Вы в замке работаете, да?
Ури осторожно кивнул, – правила поведения во вражеском лагере требовали быть сдержанным и по мере возможности учтивым, пока дело не дошло до стрельбы.
– Что ж, со знакомством! – громко провозгласил Вальтер, надвигая на Ури доску с пивом и колбасой. – Угощайтесь, раз мы теперь соседи. Я – Вальтер Мерке, это моя жена – фрау Эльза Мерке, а вас как звать?
Ури приподнял кружку и вежливо отхлебнул пиво, хоть пить ему больше не хотелось.
– Очень приятно, Ури Райх.
– Так вы не итальянец? – удивился Вальтер.
– Нет, я из Израиля.
В кабачке стало вдруг очень тихо, будто все присутствующие на миг оцепенели и даже перестали дышать. Кожаный парень вдруг крутнулся на каблуках и, не дожидаясь своего пива, стремительно вышел. Опять воцарилось молчание, которое, наконец, нарушила Эльза:
– Значит, вы – не итальянец, а еврей?
– Я – израильтянин, – терпеливо пояснил Ури.
– Почему же вы так хорошо говорите по-немецки? – вопрос Эльзы звучал почти как обвинение, и Ури почувствовал, как сдержанность покидает его:
– Потому что мои предки были немецкие евреи, и это был их родной язык.
– А ваши предки, они что, погиб...? – начала Эльза и не закончила, потому что Вальтер перебил ее на полуслове:
– Ты что, ослепла? Там пиво через край переливается!
Эльза ахнула и, не выпуская из рук свою неразлучную тряпку, бросилась к стойке и стала торопливо закручивать краны на бочках. Гейнц взял одну из свеженалитых кружек и стал стряхивать с нее пузырящуюся пену, то и дело вопросительно поглядывая на Вальтера, пока тот, наконец, не позвал:
– Иди к нам, Гейнц, и захвати вилки.
Зажав в кулаке три вилки с деревянными черенками, Гейнц готовно устремился к ним и отодвинул лавку, готовясь сесть:
– Вы не возражаете, если я присоединюсь?
– Присоединяйся, присоединяйся, колбасы всем хватит. Колбаска у меня – первый сорт, сухая, как янтарь, – похвастался он. – Из свинок фрау Инге.
Гейнц одним глотком опрокинул пиво в рот и склонил к Ури свое крупное грубое лицо с твердым раздвоенным подбородком, заглядывая ему в глаза хитрыми глазами не успевшего еще состариться Губертуса. От него приятно пахло табаком и древесным лаком.
– Ты не думай – ничего, что я тебя на «ты»? – так ты не думай, что мы имеем что-то против фрау Инге. Это все – шутка, дружеская шутка между соседями, понимаешь – ты ведь ничего не имеешь, что я на «ты»? Мы ведь тут живем, как одна семья, она – в замке, мы – в деревне, а вокруг лес и никого больше, только мы и она. Если не пошутить, тут от тоски с ума сойти можно, тут ведь никого больше нет – только мы и она. Ты меня понимаешь?
Судя по частым повторам, эта кружка пива была у него сегодня не первая и не вторая, но нити разговора он все еще не терял. Не зная местного деревенского этикета, Ури не мог решить, следует ли ему выступить на защиту своей хозяйки, или он, наоборот, должен проявить понятливость и посмеяться невинной шутке вместе со всеми. Поэтому он решил сменить тему и вместо ответа указал на обильно увешанные Губертусами стены:
– Это все – ваши работы?
– Мы же договорились перейти на «ты», – по-дружески упрекнул его Гейнц и гордо осклабился. – А работы – все мои. Нравятся?
– Очень, – честно похвалил его Ури.
Гейнц все время пытался подцепить на вилку прозрачный ломтик колбасы, а тот никак не давался. Наконец Гейнцу это надоело, он бросил вилку и сгреб пятерней несколько ломтиков враз:
– То-то же! Мы хоть и в глухомани живем, а тоже художники! – похвастался он, почему-то уважительно говоря о себе во множественном числе, из-за чего Ури его не понял:
– Так вас здесь целая группа?
– Да нет, какая группа – это все я один. Кроме этих трех, – Гейнц указал в противоположный угол, – видишь, они почернели от старости, их сделал мой отец, он меня и научил. Вальтер, – обратился он к кабатчику, подхватив в щепоть пару лепестков колбасы, – поставь нам еще по кружке пива, а то колбаска посуху не идет. Ведь Дитер-фашист за все заплатил, чего ж добру пропадать?
Вальтер секунду посомневался – идти за пивом или не идти, и нашел решение:
– Эльза! – крикнул он, не вставая, – дай-ка нам еще по пиву!
Эльза послушно принесла всем по кружке, но и себя не забыла и тоже села на лавку рядом с Гейнцем, словно зритель в ожидании спектакля. Холодящий спазм у Ури под ложечкой все не проходил, продолжая настойчиво предупреждать об опасности. А Гейнц, потихоньку потягивая пиво, спросил участливо:
– А как ты со стариком ладишь?
– Да никак, – соврал Ури. – Старик как старик.
– А я слышал, он тебе каждый день норовит нервы попортить.
Собственно, этого следовало ожидать: в таком замкнутом пространстве слухи и сплетни должны циркулировать с двойной скоростью. Небось и Клаус, и фрау Штрайх, приходя по вечерам в кабачок, с наслаждением смакуют подробности жизни в замке. А слушатели блаженствуют, обсуждая в деталях, как старый тиран Отто измывается над новым работником дочери, или, еще пикантней, – над ее новым любовником. Эта тема наверняка всех занимает – хоть вряд ли они что-то знают, но уж подозревают в свое полное удовольствие, можно не сомневаться! Откровенничать с Гейнцем, во всяком случае, не следовало.
– Да я к старику никакого касательства не имею, – сказал Ури, скрывая глаза за поднесенной к губам кружкой, хоть пиво, честно говоря, у него уже из ушей сочилось. – Я ведь ухаживаю за свиньями, а не за ним.
Ури так и не понял, почему его слова вызвали такой феерический взрыв смеха. Смеялись все, – и Вальтер, и Гейнц, и Эльза, и даже Марта, подслушивающая за кухонной дверью. Особенно веселился Гейнц – он качался из стороны в сторону и громко хлопал себя по ляжкам, повторяя сквозь счастливые слезы:
– Ой, не могу! За свиньями, а не за ним! – ой, убил, просто убил: за свиньями, а не за ним! Убил и все!
Отсмеявшись, он перегнулся через стол и почти любовно заглянул Ури в глаза:
– Ты скажи честно – ведь тебе это непросто, да?
– Что именно – непросто? – осторожно осведомился Ури, испытывая неловкость от этого незаслуженного и ненужного ему дружеского участия.
– Ну, мириться с человеком, у которого такое прошлое.
– А какое у него прошлое? – спросил Ури, тут же рассердившись на себя за этот дурацкий вопрос: какое ему было дело до прошлого Отто? И зачем было спрашивать, если он не хотел ничего знать?
Но мяч, сдуру им брошенный, был тут же с готовностью подхвачен:
– А ты не знаешь? – жарко задышал ему в лицо Гейнц. – Она тебе не сказала? Он ведь комендантом был... Отто... а она не сказала... комендантом лагеря. Там, в карьере, – ну знаешь, где камень рубят? – там всю войну работали в карьере, заключенные... они камень для военных сооружений добывали – для бункеров и дотов... я точно не знаю, для чего, меня тогда еще не было... но все знают – там был лагерь, и Отто был комендант... ему руку в России оторвало, так что на фронт его послать было нельзя, но коменданту можно и с протезом...
– Ну, а мне какая разница, кем он был? – опять не удержался Ури, хоть уже наперед знал, что он сейчас услышит, – он ведь столько раз слышал это от Клары. И точно:
– А то, что заключенные там были эти.., ну, ваши, – с торжеством сказал Гейнц и обернулся за поддержкой к Вальтеру. – Расскажи ему, Вальтер, что ты видел, когда ходил во время войны в лес за грибами.
Вальтер сосредоточенно уставился на Гейнца, явно силясь перехватить какое-то сообщение, – от напряжения радужные сполохи погасли в его бледных глазах, и они стали совсем пустые и прозрачные.
– Ты ведь мне рассказывал, как вы искали грибы на вырубке за карьером, помнишь? – подначивал его Гейнц.
Вальтер какой-то миг всматривался в лицо Гейнца, словно старался увидеть там нечто потустороннее, только им двоим ведомое. Длилось это считанные доли секунды – полувзгляд, полувопрос, полуответ – и глаза Вальтера заискрились с новой силой:
– И что я там видел?
– Что ты спрашиваешь? Ты ведь сам рассказывал – людей с желтыми звездами!
Похоже, Гейнца начинала сердить тупость Вальтера, но тот наконец ухватил суть беседы:
– Ну да, с желтыми звездами, конечно!
И вдохновенно повернулся к Ури:
– Давно это было, я уже стал забывать. А ты помнишь, Эльза? – спросил он жену и тут же пояснил:
– Она ведь мне двоюродная сестра, отцы были на фронте, вот мы и жили одной семьей – почти как сейчас. Так мы с ней часто ходили в лес собирать грибы, есть-то было нечего. И проходили мимо карьера – там наверху полно грибных мест. Там все было затянуто колючей проволокой, но сверху было очень хорошо видно. Ты помнишь, Эльза? – повторил он, словно ища подтверждения.
Эльза перегнулась назад через скамью, взяла из пепельницы на соседнем столике выплюнутую ею недавно потухшую сигарету и сунула ее в рот:
– Ясно, что помню. Там за проволокой работали люди с желтыми звездами на рукавах...
– На рукавах и на груди... А среди них ходил Отто и бил их своей железной лапой. С размаху бил, куда придется, – подхватил Вальтер.
Он уже увлекся собственным рассказом и больше не нуждался в суфлерах:
– А однажды, перед самым концом войны, мы увидели, что за колючей проволокой пусто, никого нет. Мы, конечно, тогда ничего не понимали, – ей было шесть, а мне восемь, – но потом мы узнали, что всех евреев из карьера увезли в специальное место... ну, ты сам знаешь, зачем.
– Говорили, что Отто сам загонял их в крытые грузовики, – вмешался потерявший терпение Гейнц, – Разве вы не видели этого, Вальтер?
Вальтер вопросительно поднял глаза на Эльзу, которая нерешительно сдвинула брови и, слегка оттопырив нижнюю губу влево и вверх, коротким толчком вытолкнула маленькую порцию воздуха через зазор между верхней и нижней губой. Ури уставился на нее, не веря своим глазам, – выходило, что прелестная эта гримаска, выражающая и замешательство, и смущение одно-временно, не принадлежала ни матери, ни Инге, а была национальным достоянием всех немецких женщин, даже таких, как Эльза.
Эльза тем временем поборола замешательство и одним махом пресекла дальнейшие попытки Гейнца вовлечь ее и Вальтера в опасную авантюру.
– Ничего такого мы не видели, – твердо сказала она.
Гейнц смерил ее с ног до головы сердитым взглядом, но она ответила ему взглядом не менее сердитым, – они выглядели при этом, как пара Губертусов, ощерившихся друг на друга с противоположных стен кабачка. Ури чуть было не усмехнулся, приметив это сходство, но вовремя сдержался, догадываясь, что вежливость запрещает ему усмешки и смешки при подобного рода рассказах. Больше всего ему сейчас хотелось прекратить этот мучительный разговор, косвенно повторяющий навязшие в зубах столь же мучительные рассказы матери, но он не знал, как сделать это, не нарушая местных приличий.
Тем более, что Гейнц явно не склонен был отступать. Смирившись с тем, что Вальтер и Эльза отказали ему в поддержке, он попробовал зайти с другой стороны:
– Ты видел, тут был Дитер-фашист – тот, с бритой головой, что пиво заказал? Так можешь расспросить его деда, он работал в карьере охранником.
– О чем я буду его расспрашивать? – отмахнулся Ури, не зная, как увернуться от назойливости Гейнца, не вступая с ним в конфликт. Но тут, на его счастье, с улицы раздался автомобильный гудок: он и не заметил, как фургон Инге подкатил к кабачку. Все взгляды обратились к окну с таким сосредоточенным интересом, будто они сейчас увидели Инге впервые в жизни. Направляясь к выходу, Ури заметил за кухонной дверью Марту: она погасила на кухне свет, чтобы лучше видеть происходящее в зале, и ее лунообразное лицо странно светилось в полутьме, словно источало какую-то скрытую энергию.
Ури легко сбежал с высокого крыльца кабачка и пошел к фургону, всматриваясь на ходу в улыбающиеся ему навстречу глаза Инге. Она улыбалась, не догадываясь, что ему все известно, и не предчувствуя, какая волна черной ярости начала захлестывать его с той секунды, как он вырвался из пронизанного враждебными биотоками пространства кабачка. Он подошел, рывком распахнул дверцу кабины и протянул ей руку. Все еще улыбаясь и ничего не подозревая, она охотно приняла его ладонь в свою, а он стиснул ее пальцы стальной хваткой и сказал сквозь зубы:
– Выходи! Я сам поведу!
Ресницы ее дрогнули, но она не стала спорить, – она покорно отстегнула ремень и вышла, давая ему возможность сесть за руль. Ури с трудом подавил острое желание рвануть с места и умчаться, оставив ее в растерянности у дверей «Губертуса», – у него все-таки хватило ясности ума на то, чтобы не устраивать ей сцены на виду у всех. Инге наверняка уже поняла, что он в смятении, но не стала ничего спрашивать, – она села рядом с ним, молча затянула ремень и предоставила ему самому начать разговор.
Доехав до моста, Ури не стал подниматься вверх, к замку, а свернул налево и погнал фургон на большой скорости по узкой дороге, вьющейся вдоль заросшей камышами реки. Несколько минут они рискованно мчались по извилистой ленте асфальта в полном молчании. Вдруг перед мысленным взором Ури возникло многорядное шоссе Иерусалим – Лод, по которому он перед отлетом в Европу гнал машину матери в аэропорт. Все было так похоже, – пелена ярости, застилающая ему глаза, и напряженное молчание женщины на пассажирском сиденье. Изменился только пейзаж: сейчас вдоль шоссе мерно покачивался глухой хвойный лес, зеленый массив которого был в отдельных точках оттенен начавшей краснеть к осени листвой редких дубов и кленов.
Но у Инге не было тренированного терпения Клары, и она, в конце концов, не выдержала:
– Что там стряслось, Ури? Что они тебе сказали?
Он с трудом разлепил закушенные до боли губы:
– Ты прекрасно знаешь, что они мне сказали.
– Что-то про отца, да?
– Почему ты сама мне не рассказала?
– Потому что там нечего рассказывать.
– Но почему ты мне не рассказала?
– Потому и не рассказала, что нечего рассказывать.
Он еще сильней нажал на газ:
– Прямо-таки нечего?
Она обеими руками вцепилась в ремень, словно стараясь удержаться на месте, и выкрикнула:
– Нечего, нечего, нечего!
– А почему ты сначала пыталась скрыть его от меня?
– Я просто не стремилась тебе его показать!
– А кто были те заключенные, что работали в его лагере?
– В каком лагере? Они сказали тебе, что здесь был лагерь? Они просто негодяи!
– Ты хочешь уверить меня, что здесь не работали люди с желтыми звездами на рукавах?
Он повернулся к ней всем телом, забыв на миг об узкой дороге, вьющейся по берегу извилистой реки. Тогда Инге вдруг сбросила с плеча ремень и, перегнувшись через сиденье, резким движением перехватила руль.
– Сейчас же останови машину! – выдохнула она.
Фургон рвануло вбок, и Ури автоматически нажал на тормоз. Их понесло было по наклонному лугу вниз к реке, но он стряхнул с себя руки Инге и в последний, почти безнадежный миг умудрился вывернуть назад на асфальт, где, слава Богу, не было встречных. Все это продолжалось какую-то долю секунды, но и этой доли было достаточно, чтобы ярость погасла в его душе, не оставив там даже струйки дыма, а только вялое недоумение, – чего, собственно, он так взбесился? Что ему до тех несчастных евреев, которых убивали тут, в Германии, сволочи-нацисты? Ему, конечно, было по-человечески их жалко, но не больше, чем других – армян, например, или цыган. Когда они проходили эту тему в школе, все в его классе дружно решили, что с ними – с израильтянами – такого случиться бы не могло. Что это за люди, которые соглашаются добровольно идти на убой?
Он повернулся к Инге, – она сидела, откинувшись на спинку сиденья, и по щеке ее катилась слеза. Неожиданная нежность к ней заставила его бездумно протянуть руку и кончиком пальца стряхнуть эту слезу:
– Не плачь. Ведьмам не положено плакать: у них слезы, небось, ядовитые.
Она улыбнулась сквозь слезы и потерлась щекой о его ладонь:
– Ну, как ты мог им поверить, что бы они ни сказали?
– Сам не знаю. Может, они меня заворожили? Вы тут все играете в чародеев-разбойников.
– А что же они, все-таки, сказали?
– Что в лагере твоего отца работали люди с желтыми звездами на рукавах.
– С желтыми звездами? – она почти задохнулась от возмущения. – Какая гнусная ложь! Имей в виду, это – объявление войны. Теперь вся деревня будет вести войну не на жизнь, а на смерть – против нас с тобой.
– На черта им эта война? – спросил он, касаясь губами ее щеки и чувствуя, как тело его становится невесомым от пронзительной радости этого прикосновения. Она решительно отстранила его и снова надела ремень:
– Поехали домой. Я объясню тебе по дороге.
Развернуться на узкой, нависшей над рекой дороге было непросто, и ему удалось это не без усилия. Они медленно покатились назад, перелистывая в обратном порядке стремительно промчавшиеся мимо них раньше живописные опушки и причудливые химеры, созданные природой из выветрившихся красных скал. Инге несколько раз глубоко вдохнула воздух, чтобы немного успокоиться, и сказала:
– В нашей деревне живут очень сердитые люди. Они всегда сердятся на весь мир, друг на друга, и особенно на меня.
– А на тебя за что?
– Причин полно. За то, что я – дочка Отто, что я живу в замке и с ними не дружу, за то, что я не делаю стирку в тот день, когда положено, – господи, да разве можно все перечислить? А теперь вот – еще из-за тебя.
– Потому что я – еврей?
– Это ты из-за желтых звезд? Да нет, я думаю, на то, что ты еврей, им наплевать. Им важно, что ты чужой. А желтые звезды просто пришлись им кстати, чтоб получше вбить между нами клин. Их выбрал кто-то умный и сердитый – уж не Гейнц ли?
– Ты права, Гейнц. А за что он на тебя сердится?
Инге прикусила губу и ничего не ответила.
– Не за то же, что ты белье не по правилам стираешь? – продолжал настаивать Ури.
– Ну, Гейнц.., – она на миг замялась, – он ведь брат Марты. Кроме того, мы с ним учились в одной школе, он был на несколько классов старше.
– Это еще не повод сердиться. У тебя, что ли, был с ним школьный роман?
– Наоборот, у меня не было с ним школьного романа!
– А он добивался?
– Вообще-то да, добивался.
– Ну, а ты что?
– А что я? Ты же его видел.
– Что ж, это уже причина сердиться.
Они уже въезжали в деревню. Укрепленная на полосатом столбике белая стрелка с синей готической надписью «Нойбах» указывала на площадь с памятником жертвам мировых войн в центре. Мощенная красноватым булыжником улица спускалась от площади к мосту, разворачивая перед глазами Ури многоцветную панораму взбегающих вверх по холму домов. Пестрая россыпь черепичных крыш на зеленом склоне напомнила ему картины примитивистов в парижском музее, которыми так восхищалась мать. Каждый двор был украшен индивидуальным орнаментом цветочных клумб, изобретательно разбитых в самых неожиданных предметах домашнего обихода – в прогнивших деревянных бочках, в старых тачках, в выдолбленных древесных колодах, в почерневших котлах, в огромных плетеных корзинах, подвешенных на столбах. Искусно подобранные радужные сочетания цветов в клумбах соперничали в яркости с гирляндами цветущей герани – бледно-розовой и рубиново-красной, – висящей в горшках под окнами и на балконах.
Ури отпустил окно – в кабину ворвался легкий ветерок, настоянный на аромате хвои, цветов и скошенной травы.
– Не понимаю, как люди, живущие в таком райском месте, могут сердиться?
– Может, это место выглядит таким райским именно потому, что они сердятся на всякого, кто нарушает их священный порядок... Глянь наверх!
Она показала на торчащий над верхушками деревьев высоченный каменный столб, увенчанный на конце алым фаллическим утолщением:
– Это – Чертов палец, вокруг него в полнолуние пляшут лесные черти. Ходят слухи, что это души некоторых наших соседей. Наплясавшись всласть, они возвращаются в свои дома и вползают под одеяла в свои спящие тела.
– И Гейнц, конечно, один из них?
– Уж он-то наверняка.
Они переехали через мост и начали взбираться по крутому серпантину вверх на гору. На одном из витков серпантина навстречу им вынырнул маленький синий «Гольф». За ветровым стеклом мелькнуло бледное лицо, полускрытое большими квадратными очками. Лицо качнулось сверху вниз – то ли в прощальном приветствии, то ли в немой укоризне – и через миг синий «Гольф», аккуратно обогнув фургон, скрылся за спиральным изгибом сбегающей вниз дороги.
– А эта дама, – спросил Ури, – тоже из них?
– Фрау Штрайх? Конечно! Она из заправил, – не пляшет, а дирижирует оркестром!
Ури почувствовал, как смех щекотнул ему горло, и в который раз подивился той легкости, с какой они понимали друг друга с полуслова.
– Ну, а у тебя какая там роль?
– Увы, я туда не вхожа, я другой породы. Они оборотни, а я – чародейка, лечебница, понимаешь? Меня они особенно не любят: я хоть и ведьма, но не танцую с ними возле Чертова пальца. Я – не совсем чужая и не совсем своя.
Тут, как всегда неожиданно, из-за поворота возник замок. И хоть Ури уже не впервые подъезжал к нему снизу, эта полуразрушенная химера цвета предгрозового заката, отороченная темной зеленью вековых елей, каждый раз заново поражала его своей неуместностью в мире телевизоров, компьютеров и межконтинентальных ракет. Малиново-красная зубчатая стена, по всей длине испещренная частыми узкими бойницами, скрывала от постороннего взгляда свежеотремонтированный фасад первого этажа и сверхсовременный свинарник. Но зато она подчеркивала и оттеняла всю древнюю красоту высокой круглой башни в центре и двух квадратных, тоже зубчатых башен разного роста и разного возраста, охраняющих замок с двух сторон. Правая из квадратных башен, хоть и древняя, но не вполне сохранная, задней стеной сливалась с нависающим уступом мощной красной скалы, отвесно уходящей вверх и вниз. Левое крыло было вовсе нежилым, башня над ним частично обрушилась, а глазницы сохранившихся кое-где стрельчатых окон смотрелись черными провалами в свете заходящего солнца.
Глянув на эти черные провалы, Ури вдруг вспомнил:
– Послушай, Гейнц принес сегодня в кабачок свое очередное творение. Оно – женского пола, и зовут его «наша ведьма из замка».
– И что, эта ведьма сильно похожа на меня?
Ури уже перестал удивляться способности Инге угадывать недосказанное:
– Похожа, черт бы ее подрал! Страшная, уродливая, а похожа!
Глаза Инге потемнели от внезапно расширившихся зрачков, и Ури показалось, что она чего-то испугалась:
– Ты что, когда-то всадила в его сердце хорошую занозу?
Инге не ответила, погруженная в какие-то свои мысли, и это задело Ури:
– Ну хорошо, предположим, у тебя не было школьного романа с Гейнцем. А с кем был?
– Не было у меня никакого школьного романа.
– Вот уж в это позволь мне не поверить!
– Можешь поверить – я просто не успела. Я сбежала из дому, когда была в предпоследнем классе.
– Что значит – сбежала из дому?
– Господи, ты настоящий маменькин сынок, если не понимаешь, что это значит!
– С кем же ты сбежала?
– Сама с собой. Вырвалась, как из тюрьмы после очередного приступа клаустрофобии.
– А что тебе было не так? Неба – вдоволь, леса – вдоволь, тишины – вдоволь.
– Вот именно – тишины! Попробовал бы ты в семнадцать лет пожить в полной тишине!
– И куда же ты вырвалась в семнадцать лет?
– В мир – понимаешь? В огромный мир. Где было полно людей, грохота, машин, самолетов, всего, чего мне не хватало здесь.
– И как, понравилось?
– Я сначала вовсе голову потеряла. И стала мотаться по всему свету, как неприкаянная.
– На чем же ты моталась? На помеле?
Ури сам удивился тому, как ехидно прозвучал его вопрос, но Инге этого словно не заметила:
– Нет, помела мне тогда еще не полагалось. Я моталась на самолетах.