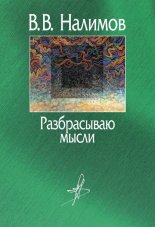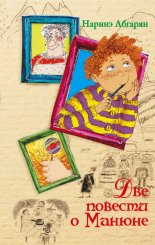Готический роман. Том 1 Воронель Нина

– То есть?
– Господи, ну стюардессой я была, стюардессой! Кто еще летает по миру, не платя за билет?
– Прямо в семнадцать лет ты стала стюардессой?
– Конечно, не сразу. Мне сначала пришлось изрядно помыкаться. Я была и официанткой, и кассиршей на бензоколонке, пока не добралась до школы стюардесс. Там я почувствовала, что нашла свое место.
– И долго ты летала?
– В общей сложности восемь лет, с перерывами. Сперва на «Люфтганзе», потом на «Тай-Эр», потом опять на «Люфтганзе».
Ури присвистнул, остановил машину и уставился на Инге.
– Что ты так смотришь? Я надеюсь, ты отдаешь себе отчет, что я намного старше тебя?
Он, конечно, давно понял, что она старше его, но не стал утруждать себя арифметикой, – какое это могло иметь значение для временного их союза? Однако в его сознании она была неразрывно связана с замком, была его неотъемлемой частью, – как красная зубчатая стена или полуразрушенная квадратная башня. А эти годы, проведенные ею где-то в большом мире, неизвестно с кем и в каком круговороте, неизвестно в каком небе – от Канады до Таиланда, – меняли ее образ и его отношение к ней. Он вдруг с тревогой почувствовал, что она ускользает от него, как пригоршня воды, – только что он держал ее в своей ладони, и вот она уже просачивается сквозь пальцы и утекает, оставляя его наедине с его жаждой. И он испугался этого чувства, – он еще не был к нему готов. И потому он нажал на газ и молча рванул фургон вверх, не желая больше расспрашивать Инге о ее прошлом, в которое он вовсе не хотел быть вовлечен.
Отто
Клаус включил телевизор, подкатил кресло Отто поближе к экрану и пошел к вешалке, где висела его куртка.
«Ты куда?» – всполошившись, заколотил в рельс Отто, но этот наглый болван притворился, что не понимает. Отто уже изучил все его уловки: он переставал понимать, когда ему это было выгодно. Однако Отто не собирался весь вечер торчать в одиночестве перед телевизором, – ему давно надоели все их идиотские погони и убийства. А уж их комедии и подавно – у него прямо скулы сводило от скуки при одном звуке этого дурацкого искусственного смеха, которым они надеялись его завлечь. Он мог бы велеть этому болвану поставить какой-нибудь фильм на новый видео, который дочь недавно подарила ему на день рождения, но все свои фильмы он пересмотрел уже по три раза, а взять что-нибудь новое в видеотеке она и не подумала, – конечно, теперь ей было не до него! Отто отстучал Клаусу: «Не смей уходить!», но тот и глазом не повел – напялил куртку и пошел к двери. На пороге он все же остановился и сказал:
– Не надо так шуметь, Отто, я все равно уйду. У меня сегодня спевка.
Тут Отто вспомнил, что этот кретин и впрямь поет в церковном хоре и, надо признать, поет не так уж плохо. Особенно сладко он пел пару лет назад, до того, как голос его начал ломаться, хоть его дебильная рожа изрядно портила картину церковного благообразия. Что ж, раз у него сегодня спевка, значит, удержать его все равно не удастся. Сообразивши это, Отто стал колотить в рельс еще громче, чтобы его услышала Инге.
Отто не помнил, любил ли он свою жену, хотя помнил, что звали ее красивым именем Лило – «фрау Лило», как называли ее в деревне: некий смутный безликий силуэт со струящимися по плечам волосами. Даже голос ее выпал из его памяти по дороге из одной больницы в другую. Неужели он прожил с этой тенью без глаз и без голоса больше тридцати лет? Иногда он напрягался, пытаясь вспомнить ее черты, но видел перед собой только дочь. Он давно понял, что любил он только Инге. Иногда он терял связь с реальностью и ему казалось, что она и была фрау Лило. В такие минуты нестерпимая ревность выжигала в его душе остатки всех других чувств.
Именно такой приступ ревности накатил на Отто сейчас – ему казалось, что он бесконечно долго зовет дочь, а она вовсе не спешит к нему, потому что отдается в это время другому. Призывно колотя лапой в рельс, он, растравляя себя все сильней, представлял себе разные замысловатые подробности этой любовной игры. Он так увлекся своими эротическими фантазиями, что не услышал, как Инге вошла в комнату. При виде дочери он так было возликовал, что готов был простить ее измену, но тут же снова задохнулся от ненависти, потому что она посмела привести с собой своего возлюбленного еврейчика.
Отто, собственно, ничего не имел против евреев, хоть и относился к ним с осторожностью, как к зверям чуждой породы. Но этого еврейчика он невзлюбил с того первого дня, когда тот появился в замке. Причин для этого было предостаточно, – хватило бы уже одного того, что дочь тайно приволокла его среди ночи и долго лечила, чем возродила в памяти Отто историю с проклятым Карлом. А если к этому добавить молодость, красоту и ловкость рук еврейчика в любом деле, – Отто всегда старался объективно оценивать своих соперников, – то даже болвану стало бы ясно, что большой надежды быстро избавиться от него нет: эта порочная сладострастница наверняка употребит все свои чары, чтобы задержать такого жеребца подольше. Оставалось рассчитывать на то, что тот сам захочет сбежать. В этом Отто готов был ему помочь, тут он мог быть щедр и великодушен, – оставалось только найти его уязвимое место. Отто давно уже понял, что у каждого человека есть уязвимое место, а его, Отто, единственное оружие – найти это место и умело нанести удар.
– Папа, – объявила Инге с притворной лаской в голосе, – поехали ужинать ко мне. Ури тебя отвезет.
Отто гневно полыхнул на нее глазами и хотел было отстучать наказ, чтобы этот тип не смел прикасаться к его креслу, но не успел – сильные руки еврейчика быстро покатили его через двор. Отто беспомощно затрепыхался, заподозрив ловушку, – почему через двор, ведь там же ступеньки? Но дочь не заметила его беспокойства, она шагала рядом с креслом, не отрывая глаз от лица своего красавца, и взгляд ее был красноречивее всяких слов. Даже на Карла она никогда так не смотрела. Что ж, тем хуже для нее, – и с этим тоже придется покончить. И как можно скорей.
Нельзя сказать, чтобы любящая дочь часто приглашала Отто ужинать вместе с ней. Гораздо чаще она забегала к нему сама, чтобы покормить его ужином, если нельзя было поручить это Марте или Клаусу. Но если уж его везли к Инге, то по подземному коридору, который кончался специальной пологой дорожкой, ведущей из рыцарской трапезной в комнаты дочери. Как же ему было сейчас не взволноваться, не понимая, куда его молодой соперник катит его кресло? Тем более, что Отто за это время уже немало крови этому типу попортил разными мелкими придирками и проказами, в которых он заставлял принимать участие то Клауса, то курицу Штрайх. А вдруг этот тип намерен отомстить беспомощному старику? Вообще-то Отто не любил думать о себе, как о беспомощном старике, но сейчас ему понравилась такая формулировка, – очень уж хотелось, чтобы кто-нибудь его пожалел.
Однако оказалось, что беспокоился он напрасно. Эти двое умудрились притащить откуда-то большой металлический лист, которым они накрыли ступеньки крыльца, так что еврейчик вкатил кресло в кухню без всякого труда. Стол был красиво накрыт на троих – фарфор, хрусталь, старое серебро. Это сразу не понравилось Отто: что они затевают, уж не собираются ли сообщить ему о своей помолвке? Ему только не хватало, чтобы Инге вышла замуж! При мысли о такой опасности Отто опять забылся и на миг вообразил, что это его Лило собирается на его глазах замуж за чужеродного молодца. Как называл его Клаус – парашютист? Его Лило – замужем за парашютистом! Он стукнул лапой по столу, но стол был старинный, и даже фарфор не дрогнул, не говоря уже о серебре.
– Видишь, папа, все в порядке, ты напрасно волновался, – улыбаясь, сказала «Лило», – Ури все устроил так, чтобы тебе было удобно.
Тут Отто очнулся, узнал Инге, – конечно, это была Инге, а не Лило! – и вдруг почувствовал, что он ужасно устал. Голова у него закружилась, и ему стало страшно, что дочь рассердится на него за его глупую ревность и перестанет о нем заботиться. Инге тем временем повязала ему салфетку и стала кормить его протертым супом из зеленого горошка. Суп из зеленого горошка был его любимый, так что он почти успокоился и даже ни разу не пролил суп изо рта на салфетку. Он уже забыл про парашютиста – он помнил только, что дочь взяла его к себе и кормит его протертым супом. Полный любви и благодарности, он с трудом повернул к ней свою свинцово-тяжелую голову и лизнул ее руку. И тут вдруг парашютист напомнил о себе:
– Вы еще помните ваш лагерь в карьере, господин комендант?
Рука Инге дрогнула, уронила ложку, и зеленые капли супа обрызгали чистую салфетку Отто. Он не сразу понял суть вопроса, но немедленно почувствовал смятение дочери, а значит, ее зависимость от его ответа. А он никогда не мог устоять от соблазна нанести удар кому угодно, если уж представлялась такая возможность. Надо было только понять, в чем сейчас состоит слабость дочери. Отто сосредоточился и, желая выиграть время, отстучал краткое: «Повтори вопрос!», хоть тут же сообразил, что этот чужак его не поймет.
Однако парашютист был, видно, парень не промах и знал азбуку Морзе – он понял вопрос и повторил:
– Вы еще помните ваш лагерь в карьере, господин комендант?
Мысли испуганно заметались в голове Отто – о чем он? Какой лагерь, какой карьер? Но напряженное лицо дочери не просто говорило – оно кричало, что она боится ответа отца. А значит, имеет смысл ответить утвердительно, а там будет видно.
«Помню, конечно.» – бесшабашно отстучал он.
Инге молча смотрела на него, но он постарался не встретиться с ней глазами, потому что она умела превращать свое молчание в наказание. Несмотря ни на что, ему стало весело, потому что парашютист не удовлетворился его кратким ответом, а спросил снова:
– И много евреев у вас там было?
Инге продолжала молчать, но Отто уже было все равно: он понял, как он сможет выжить еврейчика из замка. Это оказалось даже слишком просто. Он резво поднял лапу и отстучал:
– «Много».
– Сколько?
– «Всех не упомнишь!»
Клаус
Я с утра привез Отто на кухню, потому что фрау Инге и фрау Штрайх должны были замесить и разделать на порции 200 килограммов теста для праздника в деревне. Праздник начинался сегодня вечером, и мне надо было уйти раньше всех, чтобы носить с ребятами по улицам большого дракона, которого много лет хранили в специальной комнате при церкви. Перед самым моим уходом, когда я уже кончал пить кофе с бутербродами, фрау Инге вдруг предложила Ури поехать в деревню вместе со мной.
– Возьми мой велосипед, – сказала она ему, – и посмотри, как ребята носят по улицам дракона. А я приеду за тобой, когда мы с фрау Штрайх кончим раскатывать тесто.
– Какого дракона? – удивился Ури, который, оказывается, ничего про нас не знал. И я тоже немножко забыл, что случилось с этим драконом, хоть каждый год мы поем об этом, когда носим его на шестах по деревне.
Фрау Инге и фрау Штрайх стали хором ему рассказывать, как дракон влюбился в прекрасную принцессу, похитил ее и запер в нашей башне, – это было очень давно, тогда замок был серый, и в нем была только одна высокая башня, а других еще не было. И случилось чудо: принцесса полюбила дракона и поцеловала его, и он превратился в прекрасного принца. Они поженились и стали вместе жить в замке. Все было бы хорошо, но вместо детей у них рождались только маленькие дракончики. Бедная принцесса так стыдилась этих несчастных дракончиков, что скрывала их от всех, и каждый раз, как у нее рождался новый дракончик, она никому ничего не рассказывала, даже мужу, а ночью прокрадывалась на самый верх башни и бросала своего младенца вниз, так что он разбивался насмерть на скалах. Но однажды ночью принц проснулся и заметил, как его жена крадется в башню с корзинкой в руке. Он потихоньку пошел за ней следом, потому что был очень ревнивый и думал, что у нее свидание с кем-то, кто с самого начала был рожден человеком. Он спрятался за дверью и увидел, как она вынула из корзинки маленького дракончика, поцеловала его и бросила вниз, в пропасть. Тогда принц страшно закричал от боли и превратился обратно в дракона. Увидев это, принцесса зарыдала и сама бросилась вниз. Кровь ее разбрызгалась по всей окрестности, и с тех пор наши скалы стали такие красные.
– А дракон? – спросил Ури.
– А дракон пополз в деревню: он так долго был человеком, что разучился ходить по-драконьему, – сказала фрау Штрайх, быстро раскатывая тесто.
– Пока он полз, его чешуя цеплялась за камни и кусты, и кровь брызгала во все стороны, так что вся земля у нас в лесу тоже стала красная. В конце концов, он приполз на центральную площадь и умер, – закончила рассказ фрау Инге, и мне стало так жалко дракона и принцессу, что я чуть не заплакал, хотя тысячу раз все это слышал.
– Мало вам ваших чертей и ведьм, вам еще понадобилось дракона погубить! – засмеялся Ури, а Отто засверкал на него глазами так, будто хотел его прожечь насквозь. Может, мне кажется, но Отто, по-моему, терпеть не может Ури.
– Ты готов, Клаус? Езжайте уже, – поспешно сказала фрау Инге, перехватив взгляд Отто. Она, наверно, тоже заметила, что Отто не выносит Ури.
Мы с Ури вывели велосипеды и покатили вниз по дороге. Мне было весело ехать с Ури, тем более что вниз ехать всегда легче, чем вверх, и погода стояла хорошая, как бывает каждый год, когда у нас в деревне праздник. Листья в малиннике вдоль дороги начали краснеть, и в воздухе летали тонкие паутинки. Ури спросил, для чего надо готовить так много теста, и я сказал, что для лукового пирога.
– А где же лук? – спросил Ури.
Но я не знал, что ему ответить. Потому что все прошлые годы мамка помогала фрау Инге резать лук для начинки. Они сидели на кухне, стучали ножами и плакали, а на всех столах и подоконниках высились горы нарезанного лука. Запах по всему замку стоял такой, что мне тоже хотелось плакать. Я не знаю, что случилось в этом году, но я слышал, что лук для начинки будут готовить профессорши из Верхнего Нойбаха, которые поссорились с фрау Инге из-за ее знаменитого рецепта: они считали, что их рецепт лучше.
Когда мы подъехали к церкви, ребята уже вытащили дракона на улицу и прилаживали к нему шесты, на которых мы будем его носить. Дракон провисел целый год в темной комнате в огромном мешке, сложенный, как гармошка, и потому выглядел печальным и помятым. Невозможно найти такую комнату, в которую можно было бы поместить нашего дракона и не помять, – когда мы несем его по улице, голова его подходит к «Шпаркассе», а хвост все еще тащится вдоль булочной, а ведь между «Шпаркассой» и булочной стоят дома нашего пастора и фрау Штрайх.
Ури сел на скамейку возле памятника жертвам, а я пошел помогать ребятам приводить дракона в порядок. Дракона сшили очень давно из цветных лоскутков и натянули на проволочный каркас, но каждый год его приходится чуть-чуть чинить – подшивать порванные лоскутки, подкрашивать красным пятна крови на шее и на хвосте и распрямлять помятый каркас. Когда все было готово, каждый из нас взял свой шест, и мы пошли по улицам. Мы шли, пили пиво из банок и пели песню про дракона и принцессу. Я-то пива не пью и не знаю, стали бы они меня брать с собой, если бы я не пел лучше всех в церковном хоре.
Я очень люблю петь, – мне кажется, что когда я пою, люди забывают, какой я идиот. Только не наши ребята, они всегда помнят все плохое. И даже когда мы ходим по улицам с драконом, они все время напоминают мне, что я не такой, как они. Они стараются наступить мне на ногу или больно ущипнуть. Но сегодня никто из них не решался меня обидеть, потому что я пришел с Ури.
Ури не носил дракона вместе с нами, а бродил среди палаток и киосков, которых было без числа, – их поставили за одну ночь на площади и на лужайке перед школой, и они будут тут стоять сегодня и завтра, пока не кончится праздник. Но все почему-то знали, что Ури пришел со мной, и Дитер-фашист опять показал мне кулак, а я показал ему язык. И тогда он пригрозил мне:
– Ты лучше держи свой мерзкий отросток за зубами, а то я тебе его отрежу!
Я так и не понял, чего он от меня хочет, но сразу испугался, и мне расхотелось в сотый раз петь про дракона и принцессу. Мы наверно уже тысячу раз проперлись вверх по холму, а потом вниз к реке, потому что наша деревня построена так, что все улицы идут то снизу вверх, то сверху вниз. Руки у меня болели, я устал все время держать над головой этот дурацкий длинный шест, а в горле у меня совсем пересохло – ведь я не пил пиво и пел громче всех. Так что, когда кто-то больно наступил мне на ногу – раз, и еще раз, – потому что Ури отстал от нас, разглядывая профессорские дома в Верхнем Нойбахе, я бросил свой шест и побежал вниз по улице. Они закричали мне вслед:
– Клаус, ты куда? Мы же еще не кончили!
– Брось его! Он побежал поссать!
– Да нет, он побежал менять штаны, – он уже уссался!
– Ты уссался, Клаус? Уссался, да, Клаус? Клаус уссался! Клаус!
Но я не остановился, хоть всю дорогу слышал их крики «Клаус! Клаус уссался! Клаус!». Я припустил к себе домой, представляя себе, что мамка приготовила мне на ужин. Но мамки дома не было и ужина тоже. С тех пор, как она перестала работать в замке, она почти каждый вечер уезжает в город, если только Эльза не зовет ее убирать и мыть посуду в кабачке. Меня она совсем забросила, потому что злится, – она хотела забирать всю мою зарплату, а фрау Инге сказала, что 20 марок она будет каждый раз отдавать мне. А кроме того, мамке, наверно, обидно, что мне можно ходить в замок, а ей нет.
«Ну и ладно, уехала и уехала!» – сказал я сердито. Я нарочно старался посильней на нее рассердиться – вместо того, чтобы заплакать. Я теперь реже плачу, и мамка жалуется, что я стал очень злой, и, конечно, валит все на фрау Инге, будто это она меня заколдовала. На себя она никогда ничего не валит, у нее всегда кто-то другой виноват. Она ведь знает, что я не люблю ходить на праздник без нее, потому что там собираются все те, которые надо мной смеются. Я бы и сейчас не пошел, но она не оставила мне ничего на ужин. А на площади понастроили разных киосков и в каждом продавали что-нибудь вкусное – сосиски с капустой, гиросы с булкой или жареных кур. У меня прямо слюнки потекли, когда я об этом вспомнил.
Я побежал на площадь и остановился возле киоска с курами – их было, наверно, сто штук, а может, даже больше. Они не были готовы и еще крутились на вертелах над огнем, но выглядели замечательно: видно было, что коричневая корочка на каждой курице уже хрустит. По всей площади пахло вкусным дымом, в центре на высоком помосте играл оркестр, и хозяин булочной Петер пел в микрофон. Он пел очень веселую песню про каких-то девушек в лесу, и все, кто пил пиво на площади, подпевали и размахивали пивными кружками. Всем было весело, только мне было грустно – я не знал, кто, кроме мамки, захочет ходить со мной среди киосков и палаток. Наверно, никто не захочет. Я купил половинку курицы на алюминиевом подносе и стал искать хорошее место, чтобы ее съесть. Мне было очень жалко денег, – курица стоила шесть марок пятьдесят пфеннигов – на эти деньги я бы мог целую неделю играть на автомате в «Губертусе», но делать было нечего: я здорово проголодался.
И тут я увидел Ури и фрау Инге. Они стояли возле тира, где можно было купить десять патронов и стрелять по мишеням. Ури стрелял, а фрау Инге смеялась. Я подошел к ним поближе и стал со своей курицей так, чтобы они могли меня заметить. Мне очень хотелось, чтобы они меня подозвали и чтобы все вокруг увидели, как они со мной разговаривают, не думая, что я такой уж идиот. Ури выстрелил еще раз, фрау Инге захлопала в ладоши, и хозяин тира Мартин – он держит в соседнем городке магазин детских игрушек – бросил на прилавок большого розового плюшевого мишку. Этот мишка висел у него на витрине с позапрошлого года, но никто не мог столько раз подряд попасть в мишень, чтобы его выиграть. Фрау Инге взяла мишку на руки, как ребенка, огляделась вокруг и увидела меня.
– Клаус! – весело позвала она – Иди сюда, мы с Ури хотим подарить тебе этого медведя!
Как раз в этот момент Петер допел свою песню, а музыканты кончили играть и стали пить пиво из кружек, которые они прятали под пюпитрами, так что на площади стало тихо, и все уставились на фрау Инге и на меня. Мне стало очень весело и хорошо, только руки у меня были в курином сале, и я сначала вытер их салфеткой, затем бросил поднос и салфетку в урну, а потом пошел к фрау Инге. Все вокруг стояли молча и смотрели, как я иду к ней, а она улыбается и протягивает мне плюшевого мишку.
И тут прямо мне навстречу откуда-то из темноты выскочила мамка. На ней был белый чепец и белый передник – значит, она никуда не уехала, а просто мыла пивные кружки в каком-то соседнем киоске. Она шагнула между мной и фрау Инге и протянула руку к мишке:
– Забери назад своего зверя, Инге, – сказала она, глядя фрау Инге прямо в глаза, – И не надейся, тебе не удастся так заворожить моего ребенка, что он перестанет меня любить.
Фрау Инге все еще продолжала протягивать мне медведя, но рука ее вроде как ослабела и начала опускаться вниз, будто этот игрушечный медведь стал для нее слишком тяжелый.
– Ты сама не понимаешь, что говоришь, Марта, – сказала она растерянно, и мне стало страшно, потому что я раньше никогда не видел, чтобы фрау Инге растерялась. Тут оркестр заиграл снова, и булочник Петер схватил свой микрофон и сунул в рот, будто собирался его проглотить. Мамка под музыку сделала еще один шаг к фрау Инге и обеими руками оттолкнула ее руку с медведем. Фрау Инге покачнулась и прижала медведя к груди, чтобы не уронить его на землю, а мамка приблизила свое лицо к ее лицу – для этого ей пришлось встать на цыпочки, потому что фрау Инге намного ее выше, – и зашипела:
– Оставь его в покое, Инге! Зачем он тебе, такой идиот?
Это она про меня.
С этими словами она повернулась и пошла в свой киоск мыть бокалы и кружки. А мы остались втроем посреди толпы, которая уже давно про нас забыла и снова размахивала полными кружками и пела вместе с Петером про трех лихих чертей, нашедших одно золотое колечко. Фрау Инге все еще прижимала моего медведя к груди, будто не знала, что ей с ним делать дальше. А Ури подмигнул мне, взял у нее медведя и потащил ее за руку к тиру:
– Не огорчайся! Лучше давай опять купим патронов и я отстрелю тебе что-нибудь получше. Что ты хочешь, тот большой крендель или деревянный башмачок?
Но когда Ури подошел к тиру, Мартин начал поспешно закрывать ставни киоска с криком:
– Закрыто на перерыв!
– Какой перерыв? – не понял Ури.
– Законный перерыв! Каждый человек имеет право облегчить свой мочевой пузырь, – выкрикнул Мартин, повесил замок на киоск и быстро зашагал на школьный двор, куда еще вчера вечером привезли вагончики-сортиры на колесах.
– Здорово ты его напугал своей стрельбой! – усмехнулась фрау Инге, и тут я увидел, что у Ури на плече висит пластиковая сумка, из которой выглядывают уши двух плюшевых зайцев. Значит, он еще до моего прихода настрелял тут несколько призов! То-то Мартину так приспичило в сортир!
– Может, подождем, пока он вернется? – спросил Ури, но фрау Инге решительно подхватила его под руку:
– Не стоит: он теперь будет сидеть в уборной, пока нам не надоест ждать. Лучше идем, я покажу тебе нашу печь, пока там еще не собралась толпа. Это очень знаменитая печь – она стоит тут с шестнадцатого века, топится один раз в году, и только в ней можно испечь наш знаменитый луковый пирог, ради которого сюда приезжают даже из дальних городов.
И она повела Ури вверх по ступенькам через узкий проход между церковью и школой к нашей знаменитой печке. Когда они повернулись ко мне спиной, мне вдруг стало очень обидно, что они унесли моего плюшевого мишку и не взяли меня с собой, и я, наконец, заплакал. Мои глаза, наверно, были на мокром месте еще с тех пор, как я пришел домой и не нашел там мамку, потому что слезы так и хлынули у меня из глаз. Мне очень хотелось, чтобы Ури заметил, что я плачу, и позвал меня идти с ними, но он уже ушел вверх по лестнице руке об руку с фрау Инге и с моим плюшевым мишкой под мышкой.
Я стоял, обливаясь слезами, и смотрел им вслед.
И тут я услышал смех – не хохот «Го-го-го!», как смеются наши ребята, и не визг «И-и-и-и!», как смеется мамка, а просто смех «Ха-ха-ха!» – не знаю, как объяснить. Я подумал, что смеются надо мной, и осторожно повернул голову в сторону большого дерева – туда, где смеялись. Под деревом, дымя сигаретами, стояли профессора и профессорши из Верхнего Нойбаха. Сразу было видно, что они оттуда – они не нафрантились в нарядные платья и пиджаки с галстуками, как все другие люди, а приперлись на праздник все, как один, в джинсах, кроссовках и в простых майках. Можно было подумать, что они сбежали из детского дома для сироток, – я этих сироток видел как-то, когда мамка еще не разочаровалась и таскала меня по врачам.
Ури
– Ты заметил этих, в джинсах? – спросила Инге, опираясь согнутой рукой на потемневшие от долгого употребления черепицы, облицовывающие верхний свод печи. Нижний свод, покрытый многовековой копотью, уходил далеко вглубь плотного каменного тела печи, скрывая от постороннего глаза могучую чугунную решетку колосников. Спичка в руке Ури погасла, и он, разогнувшись, оказался лицом к лицу с Инге:
– О ком ты?
– Видишь, вон, под деревом, с сигаретами? Нет, левей, за тиром, в джинсах и в кроссовках?
– Ну вижу, и что?
– Это наши профессора из Верхнего Нойбаха!
– А-а, те, с которыми ты поссорилась из-за рецепта лукового пирога?
– Ты, оказывается, все наши мелкие сплетни знаешь!
Прозвенела в голосе Инге едва уловимая досада, или ему это показалось? Она вроде бы уже жалела, что затеяла этот разговор, но отступать было поздно и ему, и ей:
– Неужели ты и вправду поссорилась с ними из-за какого-то дурацкого рецепта?
– Ты что, всерьез спрашиваешь? – сверкнула она глазами и уточнила:
– Во-первых, это они со мной поссорились, а не я с ними.
– А во-вторых?
– А во-вторых, я могла бы тебе рассказать, что легенда о луковом пироге играет в жизни нашей деревни почти такую же роль, как легенда о драконе. Но я не стану морочить тебе голову, потому что в нашем споре... нет, это был не спор... в нашей, ну...
Она запнулась, подыскивая слово.
– ...размолвке? – подсказал Ури.
– Да нет, это не просто размолвка. Это раскол.
– Всюду жизнь! – засмеялся Ури.
– Вовсе не смешно! – вспыхнула Инге, – Причина нашего раскола гораздо глубже, чем спор из-за кухонного рецепта. Хочешь, расскажу?
– Наше ли еврейское дело вникать в причины войны Нибелунгов?
Прикинувшись наивным простачком, Ури заткнул уши, потому что вовсе не хотел впутываться в их деревенские дрязги, но она силком отодрала его руки от ушей и горько пожаловалась:
– Ну, послушай меня! Или ты думаешь, мне легко жить, имея в друзьях только тирана-папочку, кретина Клауса и курицу Штрайх?
Он было сжалился над ней и приготовился слушать, но тут вокруг печи вдруг началась большая кутерьма. Первым пришел Гейнц и ловко разжег на колосниках веселый огонь, в который два молодых парня в высоких сапогах со стальными гвоздиками начали подкладывать мелко наколотые сухие полешки, заранее заготовленные в поленницах под школьным забором.
Как только в печи заплясало пламя, на ветвях всех кленов в школьном дворе вспыхнули десятки разноцветных лампочек и осветили притаившиеся под церковной стеной длинные столы, на которых стояли дубовые бочонки, наполненные золотистыми шарами теста. Возле столов уже выстраивались ряды нарядных матрон в белых кружевных фартуках и в белых крахмальных чепчиках. Завершив построение, они разом, как по команде, высыпали на каждый стол горки муки из холщовых мешков и стали проворно раскатывать тесто на небольшие лепешки размером с десертную тарелку.
Ури на миг показалось, что он оказался на оперных подмостках, с которых сейчас слаженный хор веселых дровосеков в высоких сапогах со стальными гвоздиками и пышных матрон в белых крахмальных чепчиках грянет что-нибудь возвышенное, вроде: «Сатана там правит бал, там правит бал, там правит бал!»
И действительно, музыка на площади оглушительно взвилась вверх, ведущий тенор выкрикнул первые слова, и вся толпа, нестройно вторя ему, запела что-то про ловкого черта, который отобрал у своих неудачливых друзей золотое колечко. Ощущение театральности происходящего было таким подлинным, что Ури даже начал озираться по сторонам в поисках актера, подходящего на роль Сатаны. Гейнц был несомненно герой отрицательный, но низшего ранга – скажем, провинциальный леший, не более, а уж два бритоголовых оболтуса в сапогах, несмотря на свой рост, и на это не тянули. И вдруг Ури почувствовал на себе чей-то взгляд, тяжелый и обжигающий. Он быстро обернулся в направлении источника и столкнулся глазами с Отто, – тот сидел в своем кресле позади третьего стола справа и неотрывно смотрел на Ури. Только тут Ури заметил, что пухлая дама в чепце, раскатывающая тесто на этом столе, была не кто иная, как фрау Штрайх. Отто сидел за ее спиной, излучая почти физически ощутимую черную волну зла, так что Ури без всяких скидок тут же определил его на роль Сатаны. Или, в крайнем случае, на роль того черта, который отобрал у своих друзей золотое колечко.
– Так ты приволокла сюда отца? – спросил он Инге.
– Традиционный семейный выезд, – беспомощно пожала она плечами. – Не забывай, что мы – местные феодалы и обязаны блюсти.
Тут музыка замолкла, – оркестр делал перерыв каждые четверть часа, чтобы музыканты могли выпить пива, – и воздух наполнился громким ревом множества автомобилей, подъезжающих со стороны шоссе, взбирающихся в гору или маневрирующих, чтобы припарковаться. С холма, на котором стояла печь, была видна почти вся витая обрывистая дорога, ведущая к Нойбаху из большого мира, – она выглядела, как гирлянда сдвоенных автомобильных фар, медленно наползающих на деревню из бесконечного лесного простора.
– Господи! – невольно вырвалось у Ури – Весь мир сюда съезжается, что ли?
– Может, не весь, но половина, – усмехнулась Инге – Погляди вниз: это начало очереди за луковым пирогом.
Ури обернулся и ахнул: вниз по холму, обвивая его серпантином, выстраивалась длинная вереница нарядных пар, хвост которой обегал всю площадь по краю и терялся где-то в темноте дальних улиц.
– И ты уступила фамильную честь создания начинки для этого великого пирога каким-то захудалым профессоршам из Верхнего Нойбаха? – шутливо ужаснулся Ури, но Инге не отозвалась на его шутку. Лицо ее омрачилось:
– Т-с-с! Вот они, везут начинку, – прошептала она ему на ухо.
От этого легкого касания ее губ у него за ухом кровь его, прерывая дыхание, привычно взметнулась от низа живота к горлу, но он все-таки успел с сожалением подумать, что ему не избежать вовлеченности в ее проблемы и тайны. Что у нее есть тайны, он не сомневался, – бывали минуты, когда концентрация напряженности силовых полей в замке накаляла там атмосферу до полной невыносимости.
Громкий крик «Посторонись!» прервал его сожаления, – по узкой, мощенной красным камнем дорожке, взбегающей вверх по холму параллельно ступенькам, дюжий молодец средних лет в джинсах и кедах катил сетчатую тележку, заполненную высокими кастрюлями, прикрытыми блестящими крышками. Следом за ним к печи направлялась стайка молодых женщин – тоже в джинсах и кедах. Все они на ходу повязывали белые крахмальные фартуки поверх своих застиранных спортивных маек. К запаху дыма примешался острый аромат свеженарезанного лука.
– Это и есть твои профессорши? – спросил Ури. – Какие-то несолидные вертихвостки. Впрочем, домики у них очень даже неплохие. Я их хорошо рассмотрел, пока Клаус таскал дракона по Верхнему Нойбаху.
Профессорши со своими кастрюлями быстро растасовались по столам, и каждая начала круглым черпаком выкладывать горки начинки на разделанные круги теста. В начинке был не только лук, но и мелко наструганные ломтики ветчины, густо посыпанные приправами. Каждая горка тут же равномерно разминалась специальной плоской ложкой по всему кругу лепешки. К тому времени, как полсотни лепешек были готовы, высокое яркое пламя в печи сменилось ровным алым мерцанием раскаленных древесных углей, затянутых поверху тонкой черной паутиной угольной пыли. Гейнц со своими подручными пододвинул к печи длинный, крытый жестью стол, и еще две матроны в белых чепцах вступили в освещенный круг. Каждая взяла в руки небольшую металлическую лопатку – это, собственно, были не настоящие лопаты, а плоские противни, насаженные на длинные ручки. На каждый противень положили по лепешке с начинкой и отправили в печь на раскаленные угли. Из печи потянуло вкусным запахом печеного теста и жареного лука, очередь на миг взволнованно загудела и затаила дыхание.
Три минуты проползли в благоговейной тишине. Затем обе печные матроны одновременно слаженно наклонились, вынули из печи лопаты с первыми испеченными пирогами, которые они единым умелым движением смахнули на заготовленные заранее белые картонные тарелки, и с поклоном протянули одну тарелку Инге, а вторую – Отто. Отто застучал лапой по рельсу, и фрау Штрайх проворно схватила его тарелку и поднесла к его носу – понюхать. Инге подняла свою тарелку высоко над головой, чтобы все видели, и бросила в поднесенную ей с поклоном корзинку два блестящих пятимарковых кругляша. Только сейчас Ури обратил внимание на ее платье, освещенное алым заревом печи, – с туго стянутым в талии зеленым бархатным корсажем и длинной, падающей тяжелыми складками юбкой из золотой парчи. Инге откинула от запястий широкие, шитые золотом рукава, осторожно, чтобы не обжечь пальцы, свернула пирог в трубочку и надкусила. На площади отчаянно грянул оркестр, и все тот же высокий тенор завел песню о драконе. Очередь дружно запела вместе с ним.
И тут началась настоящая фантасмагория. Потеряв всякую связь с реальностью, Ури следил за разворачивающимся перед его глазами зрелищем. Раз – качнулись белые крахмальные чепцы, два – взлетели в воздух круглые черпаки с благоуханной начинкой, три – шлепнулись на противни лепешки и поехали в печь, взметая над углями мириады синих искр. И все ползла и ползла вверх по склону холма драконообразная вереница пожирателей пирога, и все летели и летели в плетеную корзинку сверкающие диски монет – пять марок за каждую лепешку. А над всей этой языческой вакханалией молчаливо взлетал за деревьями к небу готический шпиль церкви, отчужденной от собственных распоясавшихся прихожан холодным презрением к земной суете.
Инге подошла к Ури и протянула ему картонку с пирогом:
– Не хочешь попробовать?
Пирог таял во рту, вкусно похрустывая на зубах душистым печеным луком и ломкими лепестками подсушенной на углях ветчины. Он хотел было сообщить Инге, что начинка в порядке и не стоило из-за нее начинать войну Нибелунгов, но тут за его спиной прозвенел ехидный стеклянный голосок:
– Не правда ли, не такая уж плохая начинка?
Инге тут же оставила поле боя, – она сделала вид, что не слышала вопроса, и направилась к заднему поддувалу печи проверять, хватает ли там дровишек, наколотых изрядно вспотевшим подручным Гейнца. А Ури, оставшись один на один с недоеденным пирогом и с ехидным голосом, поспешно сунул весь пирог в рот, чтобы выиграть время для ответа. Пока он обрабатывал зубами непосильную порцию тугого теста, он успел внимательно рассмотреть владелицу стеклянного голоса. Можно было подумать, что какой-то шутник-стеклодув сперва выдул ее целиком из прозрачного стекла, а потом, разочаровавшись в своем творении, расколотил его на части, которые упаковал в соответствующие джинсовые оболочки и собрал в одно хрупкое тельце с помощью хитроумной системы поясов с пряжками и без. Наглядевшись, Ури проглотил, наконец, пирог и сказал, не придумав ничего более остроумного:
– Вообще-то неплохо, но, по-моему, слишком много ветчины.
Стеклянная барышня зазвенела, как хрустальная люстра на ветру:
– О-о, вам не по вкусу ветчина? Вы, наверно, тот самый залетный парашютист из Израиля? Но в таком случае вам любое количество ветчины должно казаться лишним!
– Вы преподаете логику? – вежливо осведомился Ури.
– Как вы догадались? – стеклянные пальчики кокетливо взметнулись вверх поправить стеклянные кудряшки.
– Я не догадался, я просто сделал логический вывод из известного силлогизма, что сапожник ходит без сапог.
Проводимость мыслей в стекле, вероятно, была невысока. Во всяком случае, стеклянная барышня не сразу усекла, что ее хотели обидеть. Она несколько секунд простояла в молчаливом недоумении, пока до нее, наконец, ни дошел смысл того, что сказал ей Ури. Когда лицо ее осветилось пониманием, Ури подумал, что она сейчас рассерженно отвернется и оставит его в покое. Но не тут-то было! Легкий румянец собеседования сменился на щеках барышни более темными пятнами злости, которые быстро поползли вниз по шее за жесткую кромку джинсового декольте. Ури по неопытности принял их за знаки смущения.
– У вас такой отличный немецкий, просто чудо! – почти ласково прозвенел стеклянный голос. – Любопытно, столь же прекрасен ли ваш арабский?
Речь у нее была высокоинтеллигентской литературной тональности, ничем не напоминающей простонародный местный распев, и Ури поначалу не понял, что вопрос задан неспроста. И потому простосердечно ответил, что – увы! – арабский его крайне примитивен и вообще близок к нулю. Именно этого ей и было надо, и она тут же яростно ринулась на Ури, разворачивая на ходу свои боевые знамена:
– Это весьма показательно, с какой готовностью вы изучаете язык своих палачей, пренебрегая при этом языком своих жертв! Она неожиданно задребезжала, словно даже тембром голоса хотела показать Ури, что хрупкое стекло ее доброжелательства разбито и есть серьезная угроза ранения осколками. Атака ее застала Ури врасплох, и он не знал, что лучше – отбиваться или каяться. Внутренне он был готов и на то, и на другое, потому что еще не пришел к согласию с самим собой в вопросе о жертвах и палачах. Но, похоже, от него ничего и не требовалось, – его воинственная собеседница явно предпочитала монолог диалогу, тем более, что обращалась она не столько к нему, сколько ко всему прогрессивному человечеству. По мере произнесения своей речи она все больше и больше заходилась в кликушеском восторге, в который приводил ее звук собственного голоса.
– Не правда ли, странно, что у таких людей, как вы, которые сами были жертвами преследований, нет ни на йоту сочувствия к другим жертвам. Я бы спросила вас, откуда это равнодушие, эта жестокость, если бы заранее не знала ответ: вы, как и все другие в этом самодовольном потребительском мире, привыкли жить за счет обездоленных и униженных! Вы отравлены изобилием, и голодная смерть миллионов не лишает вас аппетита! Вы избалованы благополучием – и мысль об ужасах гражданских войн в нищих странах третьего мира не лишает вас сна! Вы даже не хотите знать о трагедиях, которые разыгрываются рядом с вами. Вот скажите, бывали ли вы когда-нибудь в лагере палестинских беженцев?
Тут она, наконец, обратила к Ури свой плохо сфокусированный взгляд:
– Видели ли вы там оборванных отважных детей, бросающих камни в солдат, вооруженных до зубов современной военной техникой?
Если бы она была способна слушать, Ури мог бы рассказать ей про лагерь беженцев такие подробности, от которых ее стеклянные волосики встали бы дыбом на макушке. Но слушать она не умела и подробностями не интересовалась. Она звонко вдохнула воздух, чтобы продолжить свою проповедь, но тут вернулась Инге и решительно положила конец их односторонней беседе:
– Хватит пророчествовать, Доротея. А то, пока ты здесь напрасно пытаешься заманить Ури в лоно христианского милосердия, твой дорогой супруг опять успел заманить прелестную Вильму в кусты.
Услышав новость про дорогого супруга и прелестную Вильму, Доротея немедленно спустилась с небес на землю, и взгляд ее остро сфокусировался на текущей мимо очереди. Очевидно, не найдя искомых лиц на месте, она коротко спросила:
– Где они?
И, не дослушав до конца брошенное Инге: «В саду за церковью», почти побежала в указанную сторону, дребезжа на бегу стеклянными сочленениями суставов.
– Никак не могу решить, – недобро усмехнулась Инге, – революционный пыл нашей Доротеи еще не поднялся до уровня идей сексуальной революции или уже перерос их? – Инге взяла Ури под руку и стронула с места. – Пошли, нам пора.
– Куда? – спросил Ури, почти готовый к тому, что им пора на Лысую гору, где состоится ежегодный шабаш ведьм в честь Вальпургиевой ночи. Вся обстановка сегодняшнего праздника предрасполагала к вере в потусторонние силы – в леших, русалок, водяных и прочую чертовщину, так что даже ревнивая Доротея могла сойти за модернизованную ведьму с интеллектуальным уклоном. Но реальность оказалась более прозаичной, – они просто должны были захватить с собой Отто и идти смотреть ежегодный деревенский спектакль, для которого на баскетбольной площадке за школой возвели легкую деревянную сцену и расставили полукруглыми рядами стулья и садовые скамейки.
Осторожно катя кресло Отто по неровным камням дорожки, Ури не столько спросил, сколько констатировал факт:
– Скажи, ты ведь поссорилась с ними не просто из-за пирога, правда?
– Я уже пыталась тебе это объяснить, но ты тогда не хотел слушать.
– Считай, что я передумал. Можешь объяснять.
– Ты ведь слышал речи Доротеи? Ей ты можешь не придавать значения, – она просто глупый попугай, но это – идеология целого круга, которую я не переношу.
– Ты хочешь сказать, что ваша распря носит политический характер?
– Трудно определить, политический или личный. Тут так все сплелось...
– Что значит – личный? Ты пыталась отбить ее мужа?
– Глупости, при чем тут ее муж? Тут замешан совсем другой человек.
– В чем замешан? В тесте?
– Ну хорошо, считай, что я неудачно выразилась: не замешан, а... – Инге запнулась и прикусила губу, – Это совсем из другой жизни, к Доротее это не имеет никакого отношения. Понимаешь, у меня когда-то был друг, он не просто проповедовал эти идеи, он их создавал.
– Он тоже был профессор?
– Ну да, профессор.
– Он был твой друг, но взгляды его тебе не нравились, да?
– Да нет, тогда эти взгляды казались мне откровением.
– Когда это – тогда?
– Давно, когда я еще училась в университете.
– В каком университете? Ты же была стюардессой!
– Ну и что? Разве стюардессам нельзя учиться в университете?
– Можно, конечно, но ты мне об этом не рассказывала.
– Я тебе еще обо многом не рассказывала.
– Может, сейчас расскажешь? Например, когда ты училась – до того, как стала летать, или после?
– Ни то, ни другое, – сказала Инге неопределенно.
– А все-таки, до или после? – Ури начинал сердиться.
Тут Отто вдруг ни с того ни с сего заколотил лапой в рельс, и Инге осеклась на полуслове:
– Это долгая история... – замялась она и наклонилась, чтобы освободить колесо кресла, застрявшее в расселине между камнями, хотя колесо можно было без труда вытащить из расселины, не наклоняясь. Ури так и не понял, чем был вызван взрыв эмоций Отто, – застрявшим колесом или желанием заткнуть Инге рот, потому что, как только Инге замолчала, старик тут же угомонился и стал вертеть головой, выискивая кого-то в бурлящем вокруг людском водовороте. Глядя на его быстро снующие по сторонам глаза, Ури подумал, что мозг Отто работает гораздо лучше, чем его немощное тело, и почувствовал вдруг неожиданный укол жалости к несчастному старику.
Тем временем чье-то лицо привлекло внимание Отто, и он снова заколотил в рельс – на этот раз членораздельно, – он требовал, чтобы Инге привела к нему какого-то Дитера. «Это племянника фрау Штрайх, что ли?» – спросила Инге, передала ручку кресла Ури и побежала вниз по склону холма, чуть покачиваясь на высоких каблуках. На площади она на миг затерялась толпе перед павильоном охотничьего ферайна и вынырнув уже с другой стороны в сопровождении бритоголового парня в черном кожаном костюме со стальными кнопками, которого Ури пару раз видел в «Губертусе».
Парень подошел к Отто, неожиданно стал по стойке «Смирно!» и щелкнул каблуками.
– «Как живешь, Дитер?» – отстучал Отто. К удивлению Ури, Дитер его понял и ответил кратко, по-военному:
– Отлично, господин Губертус!
– «Как поживает твой дед?»
– Дед в прошлом году умер, господин Губертус!
– «Жаль! Он был хороший солдат. Мы с ним когда-то пол-Европы прошагали плечом к плечу.»
– Так точно, господин Губертус!
– «А другой твой дед?»
– Отлично, господин Губертус! Он разводит форель.
– «Я рад. А ты продолжаешь играть в футбол?»
– Так точно, продолжаю, господин Губертус!
– «Ну, желаю тебе удачи. Можешь идти к своим друзьям. Ты ведь тут с друзьями?»
– Так точно, с друзьями, господин Губертус!
Дитер прощально щелкнул каблуками, круто развернулся и зашагал вниз к павильону охотничьего ферайна.
– Надеюсь, ты исполнил свой долг барона, папа? – спросила Инге и покатила кресло к баскетбольной площадке, где уже собралось много народа.
Когда они пошли к сцене по узкому проходу между скамейками, кишащая вокруг толпа смолкла и расступилась, пропуская их вперед. Ури поежился, всей кожей ощущая направленные на него взгляды – иногда просто любопытные, иногда открыто недоброжелательные.
– Чего они на меня уставились? – шепнул он Инге.
– У тебя мания величия: они смотрят не на тебя, а на нас с Отто. Я же тебе сказала, мы – местные феодалы, Шен-герр и Шен-фрау. Мои бабки и прапрабабки освящали луковый пирог каждый год с тех пор, как мой черт-те какой прадед, барон Густав фон Губертус, построил для своих крестьян эту печь.
Инге обернула ноги и плечи Отто шерстяным клетчатым пледом, а сама села рядом с ним в приготовленное для нее в первом ряду резное, обитое алым бархатом кресло. Ури, стараясь привлекать к себе как можно меньше внимания, пристроился на скамье за ее спиной. На сцену начали выходить актеры с куклами, среди них Ури заметил Марту, – она была без куклы, но держала в руке большую пластиковую сумку с длинными ручками. Два молодых парня вынесли надувного резинового крокодила, довольно удачно подгримированного под дракона, следом за ними появилась Эльза, катя перед собой складной детский стульчик на колесиках. На просцениум вышел плотный, коротко остриженный мужчина средних лет, в котором Ури узнал главного сегодняшнего певца. «Это наш булочник Петер», – шепнула ему Инге.
Булочник Петер поднес ко рту микрофон и объявил, что сейчас будет исполнена кровавая драма «Наша ведьма из замка». Услышав название драмы, Ури почувствовал под ложечкой внезапный холодок опасения и покосился на Инге, но она застыла в своем феодальном кресле, гордо распрямив плечи и откинув золотую голову на алую бархатную спинку. Ури не видел ее лица – он видел только крутой взлет ее длинной шеи, маленькое, похожее на раковину, ухо и тень ресниц над бледной щекой. Он отвел глаза вниз и, заметив, как судорожно ее пальцы стискивают резной подлокотник кресла, понял, что и она замерла в предчувствии неприятностей.
Неприятности не заставили себя ждать: едва только Петер запел изрядно поднадоевшую уже Ури песню о драконе, как Марта извлекла из сумки ту самую ведьму работы Гейнца, которая карикатурно напоминала Инге, и с коварной улыбкой подняла ее над головой. Зрители радостно загудели и захлопали в ладоши.
Уже после двух первых пропетых Петером строк стало ясно, что поет он не саму оригинальную песню, а самодельный ее вариант, написанный каким-то местным, явно не слишком искушенным любителем поэзии. Актеры не очень уверенно, но с большим энтузиазмом начали разыгрывать излагаемый в песне сюжет. В складной детский стульчик к Эльзе посадили бородатого садового гнома с металлической пятерней, и Марта, перехватив у Эльзы стульчик, покатила его одной рукой, другой прикрывая лицо деревянной пародией на лицо Инге. Кажется, эта дуреха с тяжелым задом, сидящим почти на коленях ее коротких ножек, всерьез вообразила, что она может выдавать себя за Инге!
Вспыхнувшие над сценой разноцветные прожектора осветили нарисованный на заднике полуразрушенный красный замок, и Хозяйка – неважно, Инге она была или не Инге – покатила стульчик с одноруким гномом навстречу выползающему из развалин резиновому дракону. Дракон подполз совсем близко, обвился вокруг ног Хозяйки и прижался головой к ее коленям, в ответ на что она оттолкнула подальше стульчик с Гномом, наклонилась и начала нежно гладить зубастую драконью морду. Покинутый Гном сердито застучал металлической пятерней по стульчику, но Хозяйка и Дракон, все более страстно сплетаясь в изрядно похабной версии эротического экстаза, не обратили на него никакого внимания. Разъяренный Гном стукнул по ручке стульчика так, что над сценой загрохотал гром, погасли прожектора и умолк Петер. В наступившей тьме со сцены донесся шорох, топот, приглушенный смех, а потом восторженно взвизгнул женский голос, и Ури заподозрил, что кто-то из участников спектакля, возбужденный сладострастным сплетением тел Хозяйки и Дракона, под шумок ущипнул Марту за пышный зад.
Наконец снова вспыхнули прожектора и выхватили из темноты певца Петера, поспешно допивающего последние глотки из высокой пивной кружки, и любвеобильную Хозяйку в объятиях молодого парня – одного из той пары, что таскала раньше по сцене Дракона. На голове у парня красовался рыцарский шлем, а Дракон исчез бесследно. Петер тут же пояснил публике, что Дракон превратился в прекрасного Рыцаря и женился на Хозяйке. Все были счастливы, кроме бородатого Гнома, в бурное негодование которого перехватившая его опять Эльза вложила неподдельную страсть. Да и остальные актеры участвовали в спектакле наравне с куклами, то и дело подменяя и поддерживая их, благодаря чему даже общая неумелость труппы не снижала выразительности ее игры.
Счастливая семейная жизнь Хозяйки с Рыцарем продолжалась недолго, потому что коварный Гном заманил Рыцаря на вершину скалы якобы для дружеской беседы, а там при пособничестве Эльзы, разогнался до большой скорости и столкнул его в пропасть. Рыцарь рухнул вниз и опять превратился в Дракона. Хозяйка зарыдала, Петер запел траурный марш, а публика захлопала в ладоши. Но зловредный Гном и не думал раскаиваться, – притворившись, что он пытается утешить дочь, он все норовил исподтишка погладить ее круглые коленки. Пока дочь отталкивала его настойчивую металлическую пятерню, из развалин замка снова выполз Дракон. Не утруждая себя вариациями, он обвился вокруг ног Хозяйки и прижался головой к ее коленям. Тогда она отпихнула ногой стульчик с Гномом, наклонилась к Дракону и начала нежно гладить его зубастую морду. Покинутый Гном сердито застучал по подлокотнику, но Хозяйка и Дракон, не обращая на него никакого внимания, сладострастно слились в эротическом экстазе. Разъяренный Гном опять стукнул пятерней изо всех Эльзиных сил, от чего загрохотал гром, погасли прожектора и умолк Петер. На темной сцене зашуршали и захихикали, и Петер пробежал по проходу к пивному киоску.
Когда Петер, утирая губы, нетвердым шагом вернулся на место, над сценой вспыхнул свет – и все повторилось снова, только теперь Хозяйка вышла замуж за второго носильщика Дракона и опять была вполне довольна жизнью. Но семейное счастье дочери вовсе не устраивало ревнивого старика. Полыхая яростью, он заманил ее нового супруга на ту же роковую скалу и столь же успешным пинком сбросил его в пропасть. Только на этот раз коварство Гнома не осталось безнаказанным: услышав надсадный крик летящего в пропасть возлюбленного, Хозяйка, подрагивая пышными мясами, взбежала на скалу и вне себя от ярости покатила кресло с Гномом к самому краю. После короткой, но выразительной борьбы между Эльзой и Мартой правосудие восторжествовало, и Гном сверзился в пропасть, на лету превращаясь в Дракона. Последний трюк, проделанный весьма искусно при помощи слепяще несинхронного мигания прожекторов, привел публику в неописуемый восторг. К бурной овации толпы присоединился колокольный звон, производимый лапой Отто, – похоже было, что он аплодирует спектаклю вместе со всеми. Когда овации, наконец, смолкли и разгоряченные успехом артисты стали под водительством Петера спускаться со сцены в зал, высокий резкий голос вдруг перекрыл нестройный гул расходящейся публики: