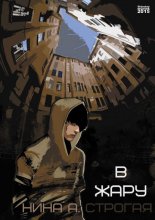Конфуций Поломошнов Борис

– Положим, есть человек, который облагодетельствовал народ и щедро помогает всем людям. Можно ли назвать его человечным? – спросил Цзы-Гун.
– Почему только человечным? – отозвался Конфуций. – Его следовало бы назвать великим мудрецом! Даже Яо и Шуню такое далось бы не без труда. А человечный муж помогает другим обрести опору там, где он обрел опору сам, и ведет людей туда, куда и сам стремится. Способность судить о других по себе – это и есть человечность.
Зная общие посылки Конфуциева учения, мы можем сказать теперь, что человечность у Конфуция – это не столько сумма, сколько мера всех добродетелей, мера социальности человека, которая дает смысл нравственным ценностям, но не позволяет абсолютизировать их. Человечен сановник, сберегший себя в водовороте дворцовых интриг. Но человечны и древние отшельники, которые уморили себя голодом, протестуя против неправедной власти. Интуиция человечности заставляет человека искать свой путь. Но в каждом случае – путь «золотой середины».
– Должен ли человечный человек прыгать в колодец, если ему скажут, что туда упал человек? – спросили однажды Конфуция.
– Зачем же прыгать в колодец? – удивленно переспросил учитель. – Благородный муж может подойти к колодцу, но не станет сломя голову прыгать в него. Его можно обмануть, но его нельзя одурачить!
А в другой раз Конфуций заметил, что, хотя благородного мужа, человека доверчивого и прямодушного, нетрудно ввести в заблуждение, все же именно благородный муж «первым распознает обман», ведь он не ослеплен теми иллюзиями, которыми пользуются к своей выгоде разные ловкачи.
Одно из лучших разъяснений Конфуциевой идеи «человечности» содержится в трактате известного конфуцианского ученого древности Сюнь-цзы. Здесь помещен рассказ о том, как Учитель Кун в свойственной ему манере испытывал своих учеников, задавая им один и тот же вопрос: «Что такое человечность?» Цзы-Лу сказал, что человечен тот, кто «побуждает других любить его». Цзы-Гун сказал, что человечен тот, кто «любит других». А Янь Юань сказал, что человечен тот, кто «сам себе любовь». И Конфуций больше всех похвалил своего любимца.
Ответы учеников как бы обозначают последовательные стадии нравственного совершенства. Человек, побуждающий других любить себя, не лишен добродетели, но слишком эгоистичен. Тот, кто умеет любить других, продвинулся дальше по стезе добродетели, но еще не достиг совершенства, поскольку чрезмерно увлекается заботой о других. Истинно же совершенный муж умеет вознести свое нравственное чувство выше любви к себе или к другим и сделать его подлинно безусловным и всеобъемлющим. Слова Янь Юаня «сам себе любовь» (цзы ай) правильно понимать как «любовь сама по себе». Такова и есть настоящая добродетель: охватывающая все жизненные ценности, самодостаточная и всепроницающая полнота существования; жизнь, ставшая непреложной судьбой.
Человечность – это путь каждого человека к себе. И она делает человека мостом между тем, что он есть, и тем, чем должен быть. Кажется, человечность виделась Учителю Куну каким-то заоблачным, почти недостижимым идеалом. Человечность, говорит он, «приходит лишь по завершении тяжкого труда». Учитель не находит истинно человечных людей вокруг себя и даже не уверен, были ли таковыми мудрые цари древности. Разумеется, он не считает образцом человечности и себя. Среди его учеников только Янь Хой способен «в течение трех месяцев не изменять человечности», а прочие лишь от случая к случаю пытаются обрести это качество, но очень скоро прекращают свои попытки. И все же если человечность – путь, то каждый может пройти его сам. Даже этот возвышенный идеал достижим для каждого, ведь в конце концов он знаменует наиболее полное раскрытие всего человеческого в человеке: «Быть или не быть человечным – это зависит от нас самих». Но главное, даже маленький шаг в нравственном подвижничестве есть приобщение к идеалу. «Разве человечность далеко от нас? – риторически вопрошает Учитель. – Стоит мне возжелать ее, и она тут же оказывается рядом». И еще одно откровенное признание:
«Есть на свете люди, которые отдали хотя бы один день служению человечности? Я еще не встречал человека, у которого не хватало бы на это сил. Может быть, такие люди и вправду есть, только мне не доводилось с ними встречаться».
Итак, человечность – это нечто всегда доступное и вовек недостижимое. Это, поистине, путь морального усилия, который заканчивается там, где начинается. Путь преодоления себя ради возвращения к себе. Надо помнить, что Конфуций еще не имел понятия о каком-то замкнутом, всегда тождественном себе субъекте, способном конструировать свое индивидуальное «мировоззрение». В письменных источниках он даже нигде не говорит о себе от первого лица. А когда призывает «преодолевать себя», подразумевает, в сущности, преодоление чувства обладания чем-либо и всяческих корыстных желаний. Другими словами, он призывает разумно ограничивать свои претензии и потребности и, следовательно, как раз не отождествлять себя со своим субъективным я. В таком случае «самопреодоление» надо признать совершенно естественным свойством человеческого духа, равнозначным, по сути, качественной трансформации, прояснению сознания, которые даже не требуют особой аскезы. Речь идет просто об уразумении своего места в мире. Недаром тот же термин цзи (свое, себя) употребляется в приписываемом внуку Конфуция трактате «Середина и Постоянство» в положительном смысле: здесь целью конфуцианского подвижничества объявляется «приведение к совершенству себя и других». Мы должны добавить, что речь идет о сокровенном превращении духа, которое неизбежно преломляется во внешние обстоятельства творческого мгновения. В терминах древнего конфуцианца Мэн-цзы речь идет о переходе от «малого тела» – индивидуальной жизни, воплощенной в физическом теле, – к «великому телу» ритуального всеединства. Однако великая самость человечности и не существует помимо физической данности жизни. Подобная двуплановость сознания прямо соотносится, как можно заметить, с отмеченным выше мерцанием смысла в литературном предании об Учителе Куне, придающем ему характер иносказания, не лишенного иронической окраски.
Конфуциева человечность – это действительно путь человека от себя к себе. Неприметный со стороны путь погружения в глубь своего опыта (всегда, напомним, имеющий моральное содержание). Как гласит старинная китайская поговорка, «рыба, превратившись в дракона, не сбрасывает своей чешуи, а человек, претворивший Путь, не меняет своего облика». Человек, действительно, не волен изменить свой облик, но он может возводить свой путь до бездонной глубины Неба и низводить его до каждого мгновения эмпирического существования. Собственно, его усилие совершенствования в каждый миг времени удостоверяет соприсутствие этих двух полюсов «оси Пути». Уже сам Конфуций говорил, что в пятьдесят лет «познал волю Неба». А его древний последователь Мэн-цзы прямо заявлял: «Сердце исчерпывает себя в Небе». Впоследствии выявление «небесного истока» человеческого сознания стало общепризнанной целью конфуцианского совершенствования. Принадлежит ли этот исток области морали? Некоторые конфуцианцы позднейших времен утверждали, что «небесная правда» выше всяких условных представлений о добре и зле и воплощает некое абсолютное и непроизвольно осуществляемое Добро. Еще в XX веке китайский философ Фэн Юлань назвал Небо «сверхморальным принципом». Наследие Конфуция в самом деле оставляет возможность такой оценки, но прилагать ее к Учителю Куну означало бы проецировать на древнюю китайскую мысль понятия позднейших эпох. Конфуций еще не искал определений морали. Ему хватало интуиции нравственного совершенства.
Общественная деятельность Конфуция призвана подтвердить безусловный приоритет добродетели, именно: доброго деяния. Оба полюса конфуцианского совершенствования – вечность Неба и мгновение земной жизни – пребывают вне каких-либо определений и формул. Но открытие себя открытости Неба само рождает осмысленное слово, то есть слово, свидетельствующее о творческой силе жизни. Вот почему для Учителя Куна «слова должны следовать за делами», а сам он таил в своем сердце желание «не говорить». Конфуциева человечность – это путь опрозрачнивания человека, благодаря которому выявляется Великий Кристалл бытия. Вот почему Конфуций говорит, что нет ничего труднее, чем «держаться за человечность», что человечность приходит «после того, как сделано самое трудное». Нетрудно иметь какие-то добрые чувства и полезные знания. Но трудно иметь достаточно ясный ум и твердую волю для того, чтобы превозмогать себя. И вечно приходить к Неизбывному.
Поскольку человечность сопряжена с устремлением человеческого духа к глубочайшему согласию, она не может не обладать неотразимой силой воздействия. Такую всепокоряющую благотворную силу одухотворенной жизни Конфуций называл дэ. Этот термин обычно переводят словом «добродетель», а с недавнего времени еще и «благодать». Последний выбор никак нельзя признать удачным. Графически знак дэ выражает идею произрастания духа, и у Конфуция он означает действующую изнутри силу нравственного совершенства, которая способна гармонизировать социум и все мироздание. Кстати, в древних китайских словарях это понятие объясняется посредством слов «обладать» и «возноситься».
Сила добра, по убеждению Конфуция, бездейственна без досконального знания ритуала и тонкого чувства ситуации. Ей неизбежно сопутствует способность убедительно говорить, безупречно вести себя и без усилий вызывать к себе симпатии.
Учитель сказал: «Добродетельный человек обязательно изрекает слова, которые остаются в памяти, но тот, кто изрекает памятные всем слова, не обязательно добродетельный человек. Человечный человек обязательно отважен, но отважный человек не обязательно человечен».
Человеческая общность, взращиваемая «силой добра», поверяется лишь внутренним опытом людей и не имеет формальных границ. Она существует лишь там, где есть взаимное доверие и сердца людей открыты друг другу. Но она и не может быть насаждена искусственно, в стороне от действительного общества. Любовь к людям, воспитываемая человечностью, начинается с узкого круга близких и доверенных лиц – с собственной семьи и друзей – и лишь в перспективе распространяется на весь человеческий род. Едва ли Конфуций имел сколько-нибудь четкое представление о необходимости равно любить всех людей. В конце концов ему была неведома идея спасения души, и он ничего не слышал о принципах демократии.
Здесь самое время задаться вопросом о природе «небесной ориентации» Учителя Куна. С легкой руки его учеников за Конфуцием утвердилась слава мудреца, «равного Небу»:
«Учитель был недосягаем, подобно Небу, которое невозможно ни разделить, ни измерить…»
Отсюда проистекают многие характерные черты образа Учителя: его ненарочитые довольство и покой, его неподдельно музыкальный строй жизни, выражающийся в учтиво-грациозных манерах и любви к пению и музицированию, его телесное здоровье и бодрость. Как воплощение Неба, Конфуций не мог иметь себе равных в этом мире, поэтому, согласно преданию, у него не было друзей, а настоящим его учителем, по утверждению красноречивого Цзы-Гуна, был «путь древних царей», который «присутствует всюду». По той же причине Конфуций мог всех учить и у всех учиться (как мы уже знаем, для него одно неотделимо от другого), ибо он мастер не ремесел и даже не искусств, а – «духовных встреч». Вот почему «небесная перспектива» жизни у Конфуция не превосходит самое жизнь, и Небо в конфуцианстве не есть некая божественная субстанция, отделенная от мира людей. Оно есть только «встреча сердец» – неизменно конкретная, всегда новая и потому подлинная. Речь идет, скорее, об открытости сознания не просто тем или иным впечатлениям, а самому зиянию бытия, каковым, собственно, и является пустое, бездонное, сиятельное небо. Великий Путь утверждает как бы высшую форму симпатической магии: в нем пустота сходится только с пустотой. Но это путь существенно человеческий: в нем самореализация отдельной личности есть и условие и следствие самореализации всех. Это путь последовательного одухотворения и самовозрастания жизненной гармонии. Сфера Конфуциевой человечности, вовлекающей в свою орбиту сначала мудрейших мужей, потом весь народ, а затем животный и даже физический мир, неуклонно расширяется. Такая сила духовной сообщительности способна связывать людей несравненно крепче идеологических лозунгов и даже практических интересов, ведь она основывается непосредственно на символических качествах культур, без которых не может быть и человечества. Именно эта сила стала жизненным нервом китайской цивилизации и причиной ее необыкновенной жизненности. Не отсюда ли проистекают свойственные китайцам по-детски искреннее доверие к жизни и какое-то величественно-беспечное отношение к собственной традиции, даже и к лучшим ее достижениям: многие замечательные книги, произведения искусства, непонятным образом утраченные, много позднее обнаруживались в Корее или Японии, незаметно исчезали великие школы живописи и каллиграфии, боевых искусств, ремесел. Китайцы, конечно, знали, что нить вечнопреемственности бодрствующего сердца может скрыться из виду, быть преданной забвению. Но глубочайшей интуицией сердца они понимали, что та же традиция не может не нарождаться снова и снова всюду, где человек сознает себя человеком среди людей. В конце концов, что может быть проще?..
Какие еще истины духовного опыта таятся за стремлением Учителя Куна рассматривать человеческую культуру и саму жизнь через призму ритуала? Укажем на самую очевидную среди них: ритуал – это не только символическое, но и воспроизводящееся действие. Ритуал есть воплощенная память общества. Между тем память не обязательно должна иметь отчетливое предметное содержание. Возможна ли, к примеру, память о смерти? А ведь ритуалы жертвоприношения, составлявшие ядро чжоуской традиции, были призваны именно воскресить память живых об их усопших предках. По существу, в них праздновалось как раз то, что пребывает за пределами памяти, нечто запамятованное. И участник церемонии, ищущий единения с покойными, решается на самоотречение, стремится именно «превозмочь себя». Он ищет встречи с отсутствующим, пытается помыслить немыслимое. Не покажется странным, что он в своих поисках «забывает вкус пищи». Существовавший в древнем Китае строжайший запрет называть предков по их личным именам лишний раз удостоверяет нежелание – да и невозможность – определить эту область навеки неведомого и таинственного, очерчиваемую смертью.
Итак, ритуал несет в себе память о беспамятном, и это обстоятельство как раз и обеспечивает внутреннюю преемственность духовной жизни. Важно понять, что забвение, данное в ритуале, не есть нечто недостижимое и неизведанное. Оно принадлежит интимным переживаниям человека, сливается с бессознательно рутинным в его жизни, с неосознаваемым настоящим. Не будем забывать, что Конфуция интересует первым делом вечнопреемственное, извечно возобновляемое в делах людей. Вот и благородный муж, в его представлении, должен произносить лишь такие слова, которые «достойны того, чтобы их повторяли».
Мы знаем уже, что сердцевиной чжоуской культуры была идея продолжения жизни предков в их потомках, или, что то же самое, самоуподобления потомков предкам. На торжественных обрядах жертвоприношений в чжоуском Китае усопшего предка представлял в своем лице один из его здравствующих потомков, которому полагалось на время церемонии как бы перевоплощаться в изображаемого им человека, как бы непроизвольно имитировать его привычки, мимику и т. д. И когда молодой Кун, изучая старинные обряды и музыку, добивался того, что во сне или в воображении лицезрел воочию основоположников чжоуского царства, создавших эти обряды и мелодии, он поступал в полном соответствии с духом и даже буквой традиции, которая его воспитала. Уже Цзы-Гун, как мы знаем, утверждал, что Учитель Кун в своей жизни не нуждался в наставнике потому, что «постиг Путь» основоположников Чжоу, хотя и оговаривался, что частица его Пути есть в каждом человеке и, следовательно, каждый человек может быть учителем для кого-то другого. А вот Мэн-цзы заявил, что в Конфуции возродились добродетели куда более древних и авторитетных царей – Яо и Шуня. Вспомним и о бытовавшем в Китае мнении о том, что «правду, утерянную еще в древние времена, можно сердцем постичь из книг», и о многих ученых мужах позднейших времен, которые утверждали, что напрямую переняли «Путь» Учителя Куна. На то она и традиция, чтобы обладать способностью снова и снова возобновляться в опыте «бодрствования сердца»…
Но что же это за реальность, которая подспудно всегда пребывает в нас, хотя извечно отсутствует в нашей мысли, памяти и воображении? Пожалуй, ближайшим ее прообразом оказывается опять-таки наше собственное тело, мир телесной интуиции. Уместно напомнить, что личность в китайской мысли представала прежде всего как «плоть и кровь» – по-китайски, «кости и плоть» (гу жоу) – предков; родители и дети, по представлениям древних китайцев, составляли «одно тело», и первейший шаг почтительного сына состоял в том, чтобы сохранить целым и невредимым свое тело, в котором продлевалась жизнь его предков. А в традиционных школах успехи в учении определялись степенью близости ученика к учителю. Известно, что один из любимых учеников Конфуция, Цзэн-цзы, перед смертью созвал своих близких и сказал им: «Взгляните на мои ладони, взгляните на мои ступни. В Песнях говорится:
- Страхом объят, я трепещу,
- Словно стою на краю пропасти.
- Словно шагаю по тонкому льду.
Только теперь я могу быть уверен, что сберег себя…»
Считается, что Цзэн-цзы демонстрировал свои руки и ноги для того, чтобы напомнить своим домашним и ученикам: мудрый человек неизменно осмотрителен в своих речах и делах и потому избегает наказаний, которые в древнем Китае обычно выражались в нанесении физических увечий. Но в предсмертном жесте Цзэн-цзы угадывается еще и некий невысказанный и, может быть, неизъяснимый смысл, выходящий за рамки обычной назидательности. Кажется, что этот жест заставляет нас обратить внимание на самое присутствие тела как необходимого условия мудрости, как вместилища духа. В качестве главного наставления своей жизни Цзэн-цзы явил взору нечто как нельзя более внешнее, очевидное, безличное – абсурдный жест! Но его абсурдность побуждает нас заново осознать то, что всегда отсутствует в сознании, но чего никто не может избежать: телесное происхождение нашего опыта. В жесте Цзэн-цзы нечто от нас отстраненное обнаруживает свою интимную принадлежность нам.
Почему же телесное бытие выступает в наследии Конфуция прообразом высшего прозрения? На то есть несколько причин. Во-первых, тело пребывает в потоке времени и непрерывных жизненных метаморфоз; не удивительно, что мудрец, по китайским представлениям, не столько знает истину, сколько «воплощает» ее собой, «вкушает» от нее. Во-вторых, телесный опыт предстает прообразом изобилия бытия, бесконечного богатства разнообразия жизни, коим оправдывается сокровенная гармония мира. В-третьих, именно тело придает нашему опыту глубину и тем самым вводит в нашу жизнь тайну. Тело оберегает и скрывает: кожа, одежда, покров – необходимые его атрибуты. Наконец, тело выступает как среда нашей сообщительности с миром и действенности, достигаемой без усилий; оно есть нечто внешнее, относящееся к области декорума. Правда, телесность восприятия под этим углом зрения теряет свое значение физического тела и становится тенью, отблеском внутренней реальности.
Если теперь говорить в целом, в Конфуциевой идее культуры различимы как бы два измерения, два разных взгляда на человеческую деятельность. Учитель Кун «верит в древность» и требует не выдумывать свое, а следовать «тому, что предшествует» нашему опыту, и так делать свою жизнь безупречной. Под скорлупой обычая мы обнаруживаем в наследии Учителя Куна призыв к самообновлению, к творческому воссозданию культуры. Этот импульс творчества, однако, мгновенно преображается в «среду» человеческой деятельности, в нечто внешнее и декоративное и потому вновь и вновь возвращает человека к рутине обычая, и выводит глубину сознания на поверхность человеческого быта, делает речь мудрого неотличимой от говора улицы. Так, в языке Конфуциевой традиции буквальное и переносное значение слов, сказанное и невысказанное, сливаются воедино.
Человеческое творчество, по Конфуцию, не создает новых миров, а возвращает человеку все тот же от века существующий «мир, как он есть». Но оно возвращает ему мир, наполненный человеческим присутствием. Об этом присутствии мы можем догадываться лишь по той особой возвышенности тона слов Учителя, которая выявляется безмолвием, – безмерно глубоким и долгим! – обтекающим эти слова. И еще мы можем различить его по непреходящему ощущению игры, в которую обращается жизнь, ставшая ритуалом. Конфуциевы предания – это игрушечное в своей условности царство, где с фантастической достоверностью свершаются великие события духовной жизни. В этом мире уже угадывается весь быт последующих поколений китайцев с его сонмом легких теней и узором изысканных жестов, просторами вселенной, сжавшимися до размеров карликового сада, и речью, ожившей из вороха цитат. Быт доподлинно фантастичный и фантастически реальный. Душа мудрого, гласит древний китайский афоризм, – это чистое зеркало, в котором все люди опознают себя, не замечая, что смотрятся в свое отражение. Кто, как не мудрец, даст каждому свободу быть самим собой и не поставит это себе в заслугу?
Текст о Пути и Путь в тексте. Истолкование начальной фразы «Бесед и суждений»
Рассмотрев основные понятия и особенности мировоззрения Конфуция, попытаемся теперь ответить на главный вопрос конфуцианской мысли: почему возможна традиция или, говоря другими словами, какова природа реальности, которая не просто существует, а извечно возобновляется, передается в потоке времени? Случайно или нет, но лучший ответ на этот вопрос дает уже начальная фраза «Бесед и суждений»:
«Учиться и во всякое время претворять это – разве не радостно?..»
Эта знаменитая сентенция Конфуция связывает воедино познание, действие и подлинную награду всякого усилия и свершения – душевную радость и удовлетворение. Конечно, читатель волен видеть в словах Конфуция только житейскую мудрость, констатацию обыденного факта: приобрел знания – приложил их к делу – получил удовольствие. Бесхитростное высказывание Конфуция, столь характерное для его «речи, стремящейся к молчанию», не исключает, конечно, и такого наивного прочтения. Но подобный взгляд все же не был бы вполне рационален: он не помог бы понять причину приносимой учением сокровенной и непреходящей радости, которая составляет подлинную тайну Учителя. Тем более не помогает он понять, когда и как следует на практике применять познанное.
Не все так просто обстоит уже с понятием «учения» – первым словом в тексте «Бесед…», которое китайские толкователи единодушно считают ключом к пониманию всей книги. Дело в том, что для Учителя Куна, как уже говорилось, приобретение знаний и навыков было только первым и, по сути дела, лишь подготовительным этапом учения. Действительная же цель последнего заключалась в проявлении и правильной артикуляции нравственного сознания в человеке. Недаром Конфуций говорил, что все его наставления «пронизывает одна нить», которую нельзя обрести посредством чтения книг. Правда, нравственное совершенствование невозможно без образцов, каковыми для Учителя Куна, как мы уже знаем, служили деяния мудрецов былых времен. Согласно древним комментаторам, учение и означает «познание образцов былых времен», которое позволяет «осознать и понять себя». Более того, самое слово «учение» в китайском языке изначально родственно понятию «учиться у кого-то», «брать пример с кого-то». В одном из древних толкований говорится о том, что учащийся должен «овладеть своими чувствами и помыслами посредством Пути прежних царей с тем, чтобы он сам пришел к пониманию и отверг заблуждения, принял истину и привел к завершению свою добродетель». Самый авторитетный в эпоху позднего Средневековья комментатор Чжу Си (XII в.) тоже подчеркивает, что учение – это прежде всего «наследование древним правителям». Наследование – чему? Понимание – чего? Явно ошибаются те современные толкователи и переводчики, которые видят здесь только призыв к «подражанию». Последнее просто несовместимо с пониманием, которое всегда дается нам как органическая целостность существования. И сам Конфуций с его проповедью нравственной самостоятельности мудрого и умения «соответствовать обстоятельствам времени», с его готовностью к разумному изменению обычая менее всего похож на робкого подражателя.
Мы должны говорить именно о на-следовании, воспроизведении реальности, которая предваряет, предвосхищает все внешние формы; реальности, которая должна быть воспроизведена по ее видимым «следам», подобным отблескам внутреннего света. Как говорится в китайском толковании, цель учения – «возобновить изначальное». Вот почему первая фраза древнего канона (это касается, конечно, не только «Бесед и суждений») имела для китайских книжников особое значение: именно в ней говорилось о том главном, что предшествует всякому предметному знанию и всякому опыту. Поскольку эта истина не есть нечто неподвижно-данное, она никому не принадлежит, а может только пере-даваться «от сердца к сердцу» прежде всяких слов и всякого понимания. Сама жизнь просветленного сознания есть не что иное, как это вечное и все же невидное движение от себя к себе.
В подлинно осмысленной речи каждое слово – лишнее. И все же слова необходимы, ибо они выявляют присутствие неизъяснимой правды одухотворенной жизни. На-следование истины становится возможным благодаря записям о деяниях мудрых царей древности. Особенности китайской иероглифической письменности предопределили то обстоятельство, что древние китайцы возводили письменные знаки и заключенный в них смысл не к умозрительным идеям, а к неким первозданным образам вещей – зыбким и летучим, почти неопознаваемым или, говоря языком китайской традиции, «утонченным до неразличимости». То были, по сути, образы неисчерпаемых метаморфоз бытия, вестники чистой качественности или, что то же самое, беспредельной предельности существования. Как воплощение этой силы непрестанного превращения, ускользания вещей от самих себя, они составляли «узор мироздания», вездесущий декорум жизни. Так в китайской картине мира воображаемое и действительное, украшение и естество вещей не противостоят друг другу. И человеческие письмена – тоже носители этой неопределимой границы между телом и тенью. По преданию, их очертания вторят «следам драконов и змей, звериных когтей и птичьих лап на земле». Так понятие «образа» связывает воедино письменность и, следовательно, культуру с природной данностью жизни. Наследуя древним мудрецам, человек может получить доскональное знание всеобщего порядка мироздания.
Но почему деяния мудрых царей сохранились в истории? Причина в том, что они носили характер события в его исконном смысле: речь идет о со-бытии, об обоюдном преображении индивида и его вещественной среды, благодаря которому одно сходится с другим в определенном типе ситуации. Эта вечносущая, вознесшаяся над потоком времени ситуация несет на себе печать известного характера, в который возводит себя нравственно возвышенный муж. Обоюдная метаморфоза личности и среды – одновременно среда и средство морального усилия человека – приводит ее составные части к согласию не по их подобию, а по их внутреннему пределу. Иными словами, в этом согласии утверждается одно-единственное отличительное качество каждой вещи, которое составляет внутренний предел ее существования. По этой причине и становится возможной встреча несоизмеримых величин: внутренней глубины духа и внешних обстоятельств события. Помыслы мудрого и окружающая действительность, Небо и Земля смыкаются здесь благодаря тому, что их разделяет. Учение как на-следование древней (именно: всему предшествующей) мудрости есть выявление высшей, потенциально бесконечной гармонии мира.
Конфуцианский мудрец отнюдь не принадлежит к числу «убежденных» ретроградов и тем более к тем псевдообразованным людям, которые, по русской поговорке, «задним умом крепки». Напротив, его призвание – это «каждодневное обновление» (жи синь), способность открывать себя безмерности «зияния Небес». Сам Конфуций охотно менял букву обряда, если новшество не противоречило духу ритуального поведения. Скажем больше: сами обряды древних мудрецов, над восстановлением которых из века в век трудились придворные церемониймейстеры Китая, были в действительности лишь плодом импровизации этих книжников. Беда, впрочем, невелика, если учесть, что, как мы только что выяснили, в китайском миросозерцании воображение и действительность не только не исключают друг друга, но и вовсе не различаются. «Понимание», которое добывается учением, вообще не есть сумма знаний. Конфуцианцы не уставали подчеркивать, что истины учения должны быть усвоены учеником так, как воздух и пища усваиваются организмом: они должны стать почти безотчетным побуждением души, своего рода моральным инстинктом. Добродетель – «вторая природа» мудрого. Вот почему знание для Конфуция принципиально неотделимо от деятельности, а по-настоящему образованный человек прямо-таки органично неспособен щеголять своей образованностью. Но понимание дает опыт полноты бытия. Это значит, что учится в действительности тот, кто расширяет свое сознание, включая в сферу мировой гармонии все больше явлений жизни, и в конце концов, по слову Мэн-цзы, оказывается способным «вместить в себя весь мир». Таков предел покоя и умиротворенности в человеке.
Посмотрим теперь на проблему учения-претворения во временном плане. Претворение неизбежно свершается во времени. Но в каком времени? Тут мнения толкователей расходятся. Одни из них понимают слова Конфуция так, что претворять учение – значит с полным сознанием делать любое дело, припоминая высказанное по этому поводу наставление знакомого нам Чэн И: «Сиди как сидишь, стой как стоишь». Другие толкуют упомянутое здесь «время» как удобный или благоприятный момент для действия. Оба толкования заставляют задуматься над тем, каким образом сознание может полностью соответствовать «обстоятельствам момента». Отметим для начала, что в китайском языке иероглиф «время» являет собой сочетание знаков «солнце», «земля» и «вершок», то есть имеется в виду длина тени от солнечного гномона и, следовательно, движение солнца со всем многообразием его воздействия, которое оно оказывает на жизнь земледельческого народа. Древние китайские комментаторы поясняют, что в данном случае понятие времени имеет три значения: возраст человека, время года и время суток. В зависимости от возраста ученика, времени года и суток изменяется и содержание его обучения. Таким образом, «обстоятельства времени» определяют и способ «осуществления учения».
Суждения китайских толкователей могут показаться наивными, но они по крайней мере показывают, что время в китайском восприятии всегда обладает определенным качеством и неотделимо от конкретного жизненного опыта. Время в таком случае – это сама сущность становления. Она не сводится ни к умозрительной длительности, ни к конкретному моменту, имеющему чисто практическое и преходящее значение.
Если предмет учения, по Конфуцию, есть единовременное преображение субъективного и объективного измерений действительности, а цель его состоит в утверждении определенных типов вещей (типов характеров, с одной стороны, и типов ситуаций – с другой), то в конфуцианской картине мира вообще не остается места для каких-либо неизменных субстанций и сущностей. В ней есть только извечная текучесть, чаяния и воспоминания, нечто «уже бывшее» и «еще не бывшее», причем то и другое тяготеет к своему пределу: память погружается в незапамятные глубины прошлого, предвосхищение соскальзывает в невообразимую будущность. В древнейшем конфуцианском трактате «Середина и Постоянство» мудростью названо именно умение различать «то, что идет впереди, и то, что идет следом». И в комментарии Чжу Си к рассматриваемой фразе первым делом сообщается, что в «осознании есть предшествующее и есть последующее». Китайские толкователи соотносят эту последовательность с человеческой историей, но ничто не мешает рассматривать ее и как условие самопознания. Иными словами, акт осознания всегда предполагает опознание со-присутствия «другого» и вместе с тем дистанции между двумя моментами собственного становления. Даже традиционная китайская наука не знала природных «явлений вообще», а соотносила всякое явление с двумя измерениями бытия: одно из них «предшествует небесному», а другое – «наследует небесному». Заметим, что после Ницше, учившего о вечном возвращении без повторения, современная философия хорошо уяснила себе тот факт, что именно воспроизведение, соотнесение себя с неким образцом является условием новизны. Современная же история со всей наглядностью удостоверяет, что революционные перемены в жизни обществ облекаются в оболочку древних мифов.
Что касается понятия «претворения», то древние толкователи просто отождествляют его с «совершенствованием». Между тем этот иероглиф содержит в себе элемент «крылья», и уже древнейший толковый словарь китайского языка, а вслед за ним Чжу Си уподобляют претворение «неустанным перелетам птицы с места на место» – неожиданный, но по-своему очень точный образ! От «уже бывшего» к «еще не бывшему» нужно, действительно, «перелетать», но речь идет и о преемственности в изменениях, ведь птица, перелетев на новое место, остается той же самой птицей. Более того, самое различие между двумя отсутствующими предметами – «уже бывшим» и «еще не бывшим» – не имеет объективных характеристик и остается чисто символическим. Оттого же незапамятная древность неотличима от невообразимого будущего, хотя одно несоизмеримо с другим! Время в таком контексте предстает вечно отсутствующим водоразделом между несопоставимыми перспективами жизни. По существу, оно оказывается условием абсолютной конкретности существования и в этом смысле – силой типизации всех типов, предельностью всех пределов, вездесущей паузой, именно по-срединностью, ускользающей щелью бытия (традиционный для китайской мысли образ), которая хранит в себе виртуальную завершенность времени, взятого в качестве Эона, и притом являет собою чистую силу становления. Здесь каждое мгновение оказывается дверью в вечность, началом предвечного Пути. Знаменательный штрих: по мнению некоторых китайских комментаторов, учащийся должен вкладывать все постигнутое им в одну точку «претворения», как птица отдает весь свой вес ветке, на которую садится… Как видим, завет Конфуция всякий час претворять учение не обязательно сводить к плоской назидательности. В нем просматривается апология бесконечной действенности, присутствующей в конечном действии. В позднейшей конфуцианской традиции такое всевременное мгновение стали толковать как «круговорот неуловимой точки духовной просветленности», который пребывает вне пространства и времени и воплощает движение «от себя к себе», некое чистое воздействие или, лучше сказать, чистую действенность, в которой друг друга проницают и замещают присутствующее и отсутствующее, актуальное и потенциальное, воображаемое и реальное. Речь шла, согласно традиционной формуле, о «спонтанном круговороте единого тела всего сущего». Ученый XVI века Ван Цзи уподобляет этот круговорот просветленного духа – одновременно исчезающе малый и необъятно большой – «светящемуся изнутри хрустальному дворцу», в котором становится возможен «сокровенный резонанс» всего сущего. Этот акт мгновенной встречи несходного не имеет формы и не оставляет следов, «подобно полету птицы», и в нем «несуществующее кажется существующим, а существующее – несуществующим». Мы снова встречаемся с образом полета птицы, служащим здесь метафорой абсолютного возобновления, то есть возобновления неповторяемого. Что заставляет вращаться этот круговорот «сокровенного резонанса», предвосхищающий движение всей вселенной? То, как бытие есть, сила бытийственности бытия, вечное уклонение бытийственной метаморфозы, само по себе неуклонное. Современный конфуцианский философ Сюн Шили вывел отсюда понятие «малого единства» бытия, которое воплощает чистую качественность момента, но охватывает собою весь мир, не имеет формы, но являет собой лишь «побуждение к обладанию формой», совмещает в себе полную открытость и полную закрытость. Как чистая действенность вне субъекта и объекта, «малое единство» не может быть предметом умозрения, но доступно «аффективному знанию», которое проистекает из импульса первозданного круговорота Пути, а в повседневной жизни соотносится с динамическим единством нашего жизненного опыта.
Претворение учения – это не факт и не сущность. Свершение, как подсказывает сама семантика этого слова, предполагает со-вершинность вещей, соотнесенность несоизмеримого. Претворение учения, по Конфуцию, бесконечно превосходит человеческую субъективность, поскольку оно равнозначно непреходящей действенности или действию, охватывающему всевременность Эона. Неподвижность времени-Эона кристаллизуется в типовых качествах ситуации, в запечатленных преданием «обстоятельствах момента». Следовательно, Конфуциево понятие «времени претворения» – это не просто мгновение, одно из многих, а именно должный момент, который внутри себя содержит условия для своего возобновления, несет в себе время предшествующее и последующее. Можно сказать, что такой момент вмещает в себя всю жизнь человека, в нем человек делает себя покойным и необъятным, как Небо. Учитель Кун прав: поистине, нет ничего труднее, чем претворить учение, как нет ничего труднее быть достойным вечности…
Связь двух временных моментов во «времени претворения» превращает последнее в привычку. Уже у Конфуция это понятие может обозначать тот или иной уклад человеческой жизни, принятый в культуре. Интересно, что в позднем конфуцианстве (начиная с XVI в.) идея «претворения» (си) сближается с понятием индивидуальной привычки и приобретает негативный смысл: став признаком умственной косности, оно воспринимается уже как препятствие для духовного просветления. Подобная метаморфоза свидетельствует об углубившемся разделении между субъективностью и миром и, следовательно, о разложении конфуцианской традиции.
Что же можно сказать о последнем понятии начальной фразы «Бесед и суждений» – понятии радости того, кто наследует Пути и одновременно приуготовляет его? Эта радость явно относится и к учению, и к его претворению, что кажется вполне закономерным, ведь для Конфуция одно неотделимо от другого. Но теперь можно уточнить: радость в собственном смысле слова сопутствует учению как акту «преодоления себя», расширения сознания (в круговом или, точнее сказать, спиралевидном движении Пути), открытия новых и неизведанных горизонтов жизни. По Конфуцию, мудрый «радуется Небу», то есть необозримой открытости бытия. А вот претворение, выявляя внутреннюю полноту, самоценность каждого мгновения существования, приносит высшее удовлетворение, делает радость мудрой. Вновь и вновь Учитель Кун напоминал ученикам, что высший мудрец прежде всего безмятежно-покоен и умеет наслаждаться жизнью.
По мнению китайских комментаторов, радость учения-претворения обусловлена тем, что «сердце совпадает с внешним миром» и при этом, разумеется, «все, постигнутое учением, заключено в нас самих». Что ж, сущность Конфуциева учения как раз и состоит в претворении себя и обстоятельств в тот самый тип ситуации, перед которым бессильно всепожирающее время.
Величайшая тайна Неба заключена в его безукоризненной и непреложной справедливости: Небо каждому дает именно то, что он заслуживает. И мудрому оно дает бессмертие. Как ни скромен Учитель Кун, он предлагает своим последователям великую награду уже в этой жизни: он учит, что человек может сделать себя бессмертным в своей мудрой радости.
Глава третья
Чины и богатства…
«Познав волю Небес…»
С тех пор как Учитель Кун возвратился на родину из поездки в Ци, жизнь его текла размеренно, неторопливо и безмятежно. Ничто не нарушало как бы стихийно сложившийся, но четкий и прочный уклад Конфуциева дома: беседы с учениками и встречи гостей, ученые занятия, семейные обряды, музицирование, хозяйственные заботы… Месяцы и годы проплывали мимо, словно бесконечная вереница холодно-бесстрастных облаков. В тогдашней жизни Учителя Куна как будто бы не было ничего особенного, и все-таки она была исполнена неизъяснимого, завораживающего смысла. Она была проста и непритязательна, но в ней не было ничего небрежного. А Конфуцию уже вот-вот исполнится пятьдесят – возраст мудрости и великих свершений. Кун Цю по-прежнему находился на положении частного лица – может быть, и уважаемого, но более чем когда-либо далекого от своей заветной цели: возрождения праведного Пути древних. С каждым годом у его недоброжелателей прибавлялось оснований называть его неудачником. Но с каждым годом росло число его преданных поклонников.
Кун Цю – неудачник? Это как посмотреть… И то верно, что неудача – самый надежный путь к успеху. За фасадом тихого, ничем не примечательного быта Учителя ни на день не прекращались упорная внутренняя работа, кропотливое духовное подвижничество, открывавшее Конфуцию все новые, ему одному ведомые горизонты. Близилось время, о котором он позднее скажет: «В пятьдесят лет я познал Волю Небес…»
Что это значит: «знать волю небес»? Много это или мало? Конфуций никак не пояснил свою самооценку. Ученики его даже сочли необходимым отметить особо: «Учитель не говорил о воле небес». Можно почти не сомневаться в том, что и признание-то свое Конфуций сделал только потому, что «к слову пришлось», да к тому же говорил он о деле прошлом и лишь его одного касавшемся. Только сам себя Учитель и мог судить. И суд его – загадка для нас. Но есть в предании еще слова, которые приписываются Конфуцию, и они гласят: «Кто радуется Небу, познает судьбу». И мы сразу же понимаем, что скромный образ жизни Учителя Куна и его незатейливые слова служат той самой неказистой с виду стеной быта, которая ограждает внутренние «дворцы души».
Конфуцию и в самом деле не пришлось долго подыскивать слова, чтобы определить свои достижения в пятьдесят лет. И понятие «неба» (тянь), и понятие «веления», «воли» (мин) принадлежали к числу самых важных и распространенных в лексиконе чжоуской традиции. Термин тянь — чисто чжоуского происхождения, и на первых порах он обозначал, по-видимому, божественных предков чжоусцев. Древнейшие образчики этого знака являют собой картину просто необычайно большого – и, следовательно, очень важного, всемогущего – человека. Термин мин тоже часто встречается в надписях на чжоуских бронзовых сосудах для жертвоприношений и в древнейших канонах, где он обозначает «повеления», «приказы» предков, обращенные к потомкам. Несомненно, такие «повеления» наделялись чжоусцами как бы магическими свойствами: это был как раз тот самый случай, когда слово есть дело. Создав свою династию, чжоусцы придали понятию «воли Небес», как нам уже известно, новый смысл: теперь Небо решительнее осмыслялось как безличная моральная сила, которая награждает за добрые дела и дарует власть над миром достойнейшим из мужей. Оттого и правитель в чжоуском государстве именовался Сыном Неба. Если же государь дает волю своим корыстным желаниям, Небо вручает «повеление на царство» другой династии. Со временем Небо утратило черты личностного божества-предка и приобрело значение беспристрастного этического закона. А его прообразом в физическом мире остался небесный свод и все по той причине, что он, как любили напоминать древнекитайские моралисты, «беспристрастно укрывает собой всю тьму вещей». Конфуций употребляет слово мин и как отдельный термин, и тогда оно имеет смысл, близкий к значению русских слов «судьба», «доля», «участь». «Жизнь и смерть – это судьба», – говорит один из учеников Конфуция. Иначе говоря, судьба для Конфуция – это человеческая доля, которую невозможно познать или изменить по своей воле. Ее можно только принимать, храня возвышенное безмолвие.
Не будем недооценивать новизны представлений Конфуция о «воле Небес». Издревле чжоусцы, да и другие племена древнего Китая молили предков и богов о ниспослании им «счастья и удачи». Другими словами, отношения людей с божественными силами строились по принципу «взаимовыгодного обмена»: в качестве благодарности за поднесенные духам дары жертвователь ожидал вполне реальных земных выгод для себя. Еще каких-нибудь полвека спустя после Конфуция философ Мо-цзы высмеивал наивное желание иных своих современников «получить сразу сто милостей за одного жертвенного барана». Мо-цзы вовсе не думал, что духи неспособны принимать участие в людских заботах, он полагал только, что боги воздают по справедливости и не пошлют людям больше того, что те заслуживают. Но в то же время в обществе быстро усиливалось скептическое отношение к самой идее «небесного воздаяния». Жизнь предоставляла подданным чжоуского государства все новые доказательства того, что божества-предки не хотели или не могли покарать отцеубийц, клятвопреступников, узурпаторов и прочих злодеев и притом не торопились помогать подлинно добродетельным мужам. Сам Конфуций, конечно, не разделял скептических настроений своего времени. Он ничуть не сомневался в том, что «небесное веление» действительно существует и что в нем воплощена высшая справедливость. Но он был столь же твердо убежден в том, что нравственный подвиг оправдывает сам себя и не нуждается ни в милостях, ни в наградах, что единственная награда добру – это само добро.
Учитель сказал: «Благородный муж думает о праведном Пути и не думает о пропитании. Он может трудиться в поле—и быть голодным. Он может посвятить себя учению – и принимать щедрые награды. Но благородный муж беспокоится о праведном Пути и не беспокоится о бедности».
Тайная свобода Конфуция: она дает ему право голодать, выращивая хлеб, и не отрекаться от богатства, посвятив себя учению – самому бескорыстному из всех человеческих занятий. Она дарит затаенную радость среди всех житейских волнений и невзгод…
Было бы, однако, не менее ошибочным и переоценивать оригинальность представлений Конфуция о «небесном велении». Нравственная проповедь Учителя Куна придала новый размах давно уже проявившейся тенденции к обмирщению религии чжоусцев, замене религиозного идеала этическим. По Конфуцию, «Небесная воля» созвучна извечным устремлениям человека, поскольку и «Небесный путь», и человеческое сердце повинуются моральному закону. Жить согласно требованиям этики – значит осознавать свою принадлежность к миру в той же мере, в какой сознаешь свое отличие от других людей. Первый принцип этики гласит: уважение к другим неотделимо от уважения к себе. В этом, как мы видели, и заключается смысл Конфуциевой человечности, не имеющей психологического содержания, не несущей в себе ничего субъективистского. Той же моральной аксиомой оправдывался у Конфуция и ритуал, который в китайской традиции возводился, как нам уже известно, к недействованию, к возвышенному покою «грозно торжественного» вида, и требовал от тех, кто свершал его, самоуглубления и сдержанности. Парадоксальный вывод из посылки об этической природе «Небесного веления» состоит в том, что размежевание между «путем людей» и «путем Небес» служит в действительности залогом их нерасторжимой связи. Для Конфуция истинное служение Небу выражается в служении людям, культура оказывается высшей формой религии. Когда его попросили объяснить, что такое мудрость, он сказал:
«Отдавать все силы служению людям, почитать духов и держаться от них в отдалении – вот это и есть мудрость».
По отзыву учеников, Конфуций «не говорил о чудесах и духах». Умолчание Учителя Куна о божественных силах, конечно, не означает, что он не верил в существование этих сил или не придавал им значения. Просто ритуал для него – внутреннее священнодействие, которое совершается лишь в сообществе людей. Приписывая религиозным культам этическое содержание, Конфуций порой на свой лад переиначивает старинные заповеди. Когда ему однажды напомнили древнее правило: «Поклоняйся духам, как если бы духи воистину присутствовали», он заметил, что обряд истинен лишь в том случае, если «мы сами приносим жертвы», иначе говоря – сами удостоверяем свое участие в церемонии и выполняем все необходимые для этого моральные предписания. В другой раз он говорит, что тому, кто пренебрег «Небесным велением», никакие молебны не помогут. Когда Цзы-Лу спросил его, как следует служить духам предков и божествам, он ответил:
– Ты еще не знаешь, как служить людям. Как же ты можешь знать, как нужно служить духам?
– А что такое смерть? – спросил вновь Цзы-Лу.
– Ты еще не знаешь, что такое жизнь. Как же ты можешь знать, что такое смерть? – все так же загадочно ответил Учитель.
Уклончивые высказывания Конфуция о Небе и загробном мире, а точнее нежелание Учителя говорить на эти темы, дают пищу для очень разных толкований и оценок. Некоторые ученые считают, что Конфуций был в лучшем случае равнодушен к чжоуской религии и стоял на позициях агностицизма, то есть непознаваемости божественного бытия. Другие, напротив, подчеркивают его приверженность к чжоуским культам и даже видят в нем основателя собственной религии. Обе эти точки зрения неубедительны. Западное прозвище «агностик» едва ли подходит китайскому мудрецу, который, по его собственным словам, «познал волю Небес». Но Конфуций, конечно же, не претендовал на лавры оракула и пророка хотя бы потому, что, по его убеждению, «Небо не говорит». И недаром он говорил ученикам, неумеренно его восхвалявшим, что он сам «не родился всезнающим, а всего добился благодаря любви к учению». Остается фактом, что он признавал существование духов, но делал акцент на нравственном и воспитательном значении обрядов: этика для него заслоняла собой религию. Но верно и обратное: религия могла выступать от имени этики. В позднейшем предании сохранился сюжет, в котором со всей откровенностью отобразилось деликатное отношение Учителя Куна к традиционным образам. Однажды Цзы-Лу спросил Конфуция: «Обладают ли умершие сознанием?» Учитель ответил: «Если я скажу, что мертвые обладают сознанием, то, боюсь, сыновья и внуки, истово почитающие предков, будут стараться поскорее отправить живых к мертвым. Если я скажу, что мертвые не обладают сознанием, то, боюсь, легкомысленные потомки не позаботятся даже о похоронах своих умерших родителей. Сейчас тебе не так уж важно знать, обладают мертвые сознанием или нет. Рано или поздно ты сам об этом узнаешь». Вот так неопределенно но и – нельзя не видеть – на редкость здравомысленно рассуждал Учитель Кун о смерти. И ответ сумел дать откровенный и неоспоримый: умрешь и сам узнаешь (или не узнаешь – но тогда и спрашивать некому будет). Рассказ этот очень похож на анекдот, сочиненный для вящего литературного эффекта, но тем он и ценен. Последователи Конфуция словно нарочно подчеркивают нежелательность и даже невозможность ответить на вопрос о том, нуждаются ли усопшие предки в заботе их здравствующих потомков. Важно, что эта забота нужна самим потомкам.
Откуда все же такое нежелание определяться в вопросах веры? Причину, вероятно, надо искать в том, что конфуцианство – это своего рода псевдорелигия: оно трактует на религиозный лад жизненные принципы человека, но утверждает их моральную и культурную самоценность. Духовное подвижничество конфуцианского человека затвердевает в формах культуры – этой мозаике нетленных и общедоступных кристаллических сгустков жизни. Конфуцианцы во все времена с готовностью признавали, что бытующие в народе культы основываются на иллюзии, но иллюзии не только полезной для самих людей, но и неизбежной, и в этом смысле совершенно правдивой. Как ни странно, они смогли бы со всей серьезностью отнестись к известному афоризму Вольтера, который для многих европейцев звучит кощунственно: «Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать». Быть может, они не сочли бы возмутительным и еще более дерзкое, сочащееся ядовитым сарказмом высказывание Стендаля: «Единственное оправдание Бога состоит в том, что его нет». Все же сами китайцы ничего подобного никогда не говорили, и это обстоятельство выдает фундаментальное различие между европейской и китайской традициями: первая отталкивалась от прометеевского самоутверждения мыслящего субъекта, вторая находила опору в спонтанности народной жизни. Но спонтанности осмысленной и пресуществленной в неуничтожимые, стильные формы вещей.
Духовным наследникам Конфуция поэтому не было нужды ни доказывать существование духов, ни опровергать его. Они могли признать обе точки зрения условно истинными просто в силу того, что они уже приняты в обществе и от них зависит поведение людей. В сущности, уже сама ориентация Конфуция на ритуал – действие непременно образцовое и символическое – с неизбежностью превращала человеческое общение в некую игру, обмен условными знаками, где от партнеров требуются прежде всего знание и правильное выполнение своей роли. Для конфуцианского мудреца, идущего «срединным путем», всякое преходящее чувство и всякий зримый образ лишь условно реальны, ведь они скрывают в себе «подлинность» жизни – сверхличную Волю, безмятежность необозримо широкой души. Примечательно, что в отзывах об Учителе Куне, оставленных его учениками, постоянно подчеркиваются условность, наигранность его жестов. В кругу соседей Учитель «казался косноязычным», в разговоре с вышестоящими держался «как бы уверенно», а в обращении с подчиненными «был как бы мягок», в обществе государей «имел почтительный вид», а покинув дворец, «как бы успокаивался» и т. д. Конфуций, несомненно, осознает себя играющим, он что-то представляет. Что же именно? В конечном счете – самое присутствие воли, делающее человека вовек «одиноким», создающее дистанцию между человеком и миром, дистанцию самоотстранения в самом человеке. Акцент на зрелищности, демонстративности действия есть не что иное, как единственный способ поведать о внутренней глубине сознания. Конфуций, конечно, ничего не разыгрывает, ничего не представляет. Его сокровенная правда и есть его предельно очевидный, самоочевидный облик.
Учитель сказал: «Ученики мои! Думаете ли вы, что я что-то скрываю от вас? Нет, я ничего от вас не прячу. Я говорю вам лишь то, что вам самим ведомо».
И в самом деле: что может быть откровеннее и внятнее первичной интуиции жизни, изначальной непосредственности вашего опыта? Мудрость древних не загадочнее светлого неба, просторной земли или протянутой руки: она, по слову Учителя, всегда находится «совсем рядом», и тому, кто постигнет ее в своем сердце, восстановить порядок в мире будет так же легко, как «взглянуть на собственную ладонь». Это мудрость открытого и доверительного отношения к жизни, способность и умение жить в согласии с другими, быть самим собой как раз в той мере, в какой ты един с другими людьми.
Надо думать, совсем не случайно Конфуций был большим любителем пошутить, устроить состязание в стрельбе из лука, а при случае и сыграть партию в шашки, к тому времени уже вошедшие в быт ученых людей древнего Китая. В «Беседах и суждениях» записаны такие его слова:
«Поистине нелегко приставить к делу того, кто с утра до вечера только набивает себе брюхо. Уж лучше играть в шашки – куда полезнее безделья!»
Можно добавить, что с легкой руки Конфуция шашечная игра стала в Китае традиционным атрибутом «возвышенного» образа жизни. Перипетии шашечной партии слыли своеобразным прообразом противоборства мировых стихий, а время, в течение которого продолжалась игра, символизировало «небесное», космическое время, охватывающее вечность. В этом времени протекает истинная жизнь отрешенного от земной суеты мудреца.
Если для Конфуция представление есть сама жизнь и все символическое возвращается – и возвращает нас – к действительности, то и глубина Небес не может не изливаться на плоскость Земли. «Небо» – это не просто метафора верховного начала мироздания, непостижимой «великой пустоты», объемлющей все сущее. Метафора в своем пределе с необходимостью метафорична по отношению к самой себе; она оборачивается непосредственным свидетельствованием об истине. Правда, такую истину невозможно высказать словами. Ее можно лишь безмолвно удостоверять сердцем, опытом сознания, которое не просто знает, но еще и сознает. Небо как Судьба мирового круговорота и физическое небо – небосвод, конечно, не одно и то же, но одно и неотделимо от другого. Да и само понятие неба наилучшим образом выражает идею вечного самопревращения, перехода в инобытие: небо бездонно, но и являет собой границу мира; оно совершенно прозрачно, но сокровенно в своей бесконечности; оно абсолютно пусто, но вмещает в себя весь мир и потому являет собой предельную полноту бытия.
Всеобъятно-пустотное Небо не есть отдельная сущность, не существует обособленно от мира и потому не может быть особым «предметом» созерцания или суждения, но оно целиком дается нам в явлении светлого купола, со всех сторон окружающего нас. «Разве Небо говорит? А ведь времена года исправно сменяют друг друга, и все живое растет…» Светила в небесах, по представлениям древних китайцев, образуют «небесный узор» (тянь вэнь), и этот зримый образ мирового согласия полностью подобен «узору» человеческой культуры (вэнь), как образу стилизованной и доставляющей эстетическое наслаждение жизни. Конфуций потому и стал отцом китайской традиции, что он каждой черточкой своего поведения, каждым своим словом давал понять, что в мире существует всеобщий порядок, проницающий в равной мере природу и человека, материальное и духовное, и этот порядок воплощен в незыблемых законах роста всего живого и в жизни самого сознания. Духовное свершение для Конфуция – это просто сполна прожитая жизнь.
Исследователи древней литературы и фольклора часто отмечают, что сюжеты мифов и сказаний имеют своим прототипом годовой цикл, знаменующий периодическое воскрешение и умирание природы. А вот в наследии Конфуция мы встречаемся с прямо противоположным ходом мысли. Конфуций не стремится преобразить реальность в миф, а скорее обнажает действительные предпосылки мифа, низводит священное до естественного течения жизни со всеми его биологическими, психическими, космическими закономерностями. Разговоры Учителя Куна о Небе – а точнее, как раз умолчание об этом – есть своего рода антимиф, где повествование предстает молчанием, а эпическое – обыденным. Мы видим здесь начала той магистральной линии китайской традиции, которая выразилась в конфуцианском идеале «пребывания в срединном и обыденном» или в известном изречении средневековой эпохи: «обыкновенное сознание – это и есть правда». Сокровенно небесный образ человека преломляется в его земном, очевидном для всех физическом облике: явить его миру – значит в самом деле показать «свои руки и ноги». Будем помнить: не только при Конфуции, но еще и много столетий спустя китайцы были уверены, что истинная мудрость обязательно имеет свои отметины-знаки на теле мудрецов.
Так повседневность оказывается для Конфуция не просто нагромождением случайных, утомительно бессмысленных эпизодов. В глубине потока жизни вьется нить «Небесной судьбы», и эта судьба доступна человеческому знанию, хотя мудрый не знает ее как некий отвлеченный «предмет», а постигает «чутьем сердца». Но чем менее способен мудрый поведать другим о тайне «Небесного веления», тем больше в нем уверенности в обладании этой глубочайшей правдой жизни. Как бы ни был жесток и лжив мир вокруг, какие бы невзгоды и тяготы ни выпадали на долю Конфуциева мудреца, он не ропщет и не отчаивается. Его жизнь кажется ему бесконечно осмысленной. В этой судьбийности своей жизни он находит великую опору и защиту. Даже в минуты смертельной опасности Конфуций не терял самообладания. Он говорил тогда, что Небо не допустит его гибели. Он «знал веление Небес…».
Знать, чего требует «Небесная судьба», – значит иметь в жизни свой Путь. Вот это понятие Пути (дао) стало ключевым для Конфуция, не отделявшего свое учение от своей судьбы. В текстах раннечжоуской эпохи слово дао чаще всего обозначает дорогу; реже оно имеет значение «вести», «говорить», «порядок действий». Конфуций первым заговорил о дао как о «праведном пути», жизненной правде, которая стоит выше людских мнений и всей «тьмы низких истин». Дао у Конфуция – это правда каждого отдельного человека и народной жизни в целом. Существует и «Небесный путь», в котором претворяется всеобщий порядок мироздания. Конфуций говорил о себе, что у него есть «свой Путь»; он часто давал ученикам совет, как им нужно поступать, если в государстве «есть Путь» или «нет Пути». Он заявлял, что «лучший советник – тот, кто в служении государю следует Пути», и т. д. Праведный Путь, по Конфуцию, невозможно претворить силой или угрозами; он проистекает из духовного подвижничества каждого человека и неотделим от глубочайшей интуиции человеческой сообщительности. Истинный Путь в жизни, утверждал Конфуций, берет начало в человеческой природе и проявляется благодаря правильно выстраиваемым связям человека с другими людьми. В понимании мудрости и праведной жизни как Пути есть и особый смысл: идея пути указывает на скрытую, «отсутствующую» дистанцию между символическим и действительным, «небесным» и «человеческим» в Конфуциевой картине мира, но также и на смыкание, даже взаимопроникновение того и другого. Такое понимание отчетливо выразилось в книге «Середина и Постоянство», где мы читаем, например:
«От праведного Пути невозможно отойти ни на миг, а то, от чего можно отойти, не может быть праведным Путем…
Даже невежественные мужчины и женщины могут претворить праведный Путь, но истоки его не под силу постичь даже величайшему мудрецу…»
Путь мудрого, по Конфуцию, – это способность «одним шагом», «в одно мгновение» пройти дистанцию между тем, что «лежит рядом», и беспредельностью, нанести знаки вечности на ширму зримого мира. Именно так, кстати сказать, понималась в Китае работа каллиграфа или художника, который, согласно классической сентенции, своей кистью наносил на бумагу «след, тянущийся на тысячи ли и уходящий в недостижимую даль…». Впрочем, на поверхности видно только «то, что лежит совсем рядом». Конфуций любил повторять, что в мире нет ничего более естественного, чем праведный Путь, и нет ничего более удобного, чем идти этим путем. Однажды он так и объявил – и шутливо, и печально – ученикам:
«Кто может выйти из дома, не пройдя через дверь? Так почему никто не идет этим путем?»
Намек Учителя Куна совершенно ясен: праведный Путь – это самый простой и естественный выход из мира смуты и обмана.
Но, как говаривал Мережковский, «пошло то, что пошло». Праведный Путь – всегда не тот, которым идет толпа.
Истина совершенно неопровержимая. Конфуций настолько свыкся с нею, что мог даже, хоть и не без горечи, шутить по поводу своей неудачи в мире:
«Мой путь не проходит… Сяду на плот и поплыву в океан…»
Конфуций верил, что показать пример праведного пути – единственный способ исправить нравы и что перед благотворным воздействием такого примера не устоят даже самые грубые и невежественные люди. Во всяком случае, он считал, что таким способом можно воспитать «варваров» на восточных окраинах чжоуского государства – людей, настолько мирных и восприимчивых к древнекитайской цивилизации, что многим современникам Учителя Куна они казались настоящими «добрыми дикарями», сохранившими первозданную чистоту и целомудрие души. В «Беседах и суждениях» записан и такой сюжет:
Учитель хотел поселиться среди девяти варварских племен на востоке. Некто спросил его: «Как же вы будете ладить с этими дикарями?» Учитель ответил: «Если там поселится благородный муж, то какая там будет дикость?»
Будем считать, что разговор этот был вызван минутной слабостью Учителя Куна. Все-таки Учитель мечтал возродить древние нравы в Срединной стране. Да и какой смысл бежать? Разве нужно ехать далеко, чтобы найти себя? Благородному мужу подобает воспитывать людей там, где он находится, – только так и может он доказать свою праведность. Хотел ли Конфуций власти, признания его заслуг владыками мира сего? Без сомнения, да. Это подтверждает его разговор с Цзы-Гуном, выдержанный в обычной для Учителя иносказательной манере.
– Если бы у вас была драгоценная яшма, то что бы вы сделали с ней? Сохранили бы в шкатулке или подыскали на нее покупателя? – спросил Цзы-Гун.
– Конечно, подыскал бы покупателя! – без раздумий откликнулся Учитель. – Видишь ли, я только жду, когда за нее назначат достойную цену…
А «покупателя» на Учителя Куна все не находилось… И он, во всеуслышание объявивший, что «добродетель никогда не будет в одиночестве», что благородный муж перевоспитает даже дикарей, был вынужден у себя на родине довольствоваться ролью стороннего наблюдателя. Славы он добился, а мир не переделал. Тут немудрено и отчаяться. Но Конфуций уже «знает веление Неба». И он знает, что только он сам может его исполнить.
Учитель сказал: «Человек возвеличивает Путь, а не Путь возвеличивает человека».
Конфуций знает, каким должен быть мир и каким должен быть он сам. Правда, в мире есть еще просто судьба – то, каков мир в действительности. С такой судьбой Учителю Куну нелегко примириться. Порой его охватывает здоровое чувство возмущения царящими вокруг ложью и произволом. Разве виноват он, что повсюду у власти узурпаторы и ничтожества? Чванливые царедворцы называют его неудачником и мечтателем. Но в целом царстве не найти человека столь же умиротворенного. Он знает, что нет большего счастья, чем быть самим собой.
Ничего не добившийся и ничуть не сомневающийся в себе, разочаровавшийся в «князьях мира» настолько, что впору к дикарям бежать, и ненаигранно безмятежный, всем известный и скрывшийся от мира – вот таким удивительным, ни на кого не похожим человеком был Учитель Кун в свои неполные пятьдесят лет…
Снова на службе
Пятнадцать лет пролетели как один день, ничего по видимости не изменив в жизни Учителя. Разве что прибавилось морщин на лице, проступила седина на висках да чуть тяжелее стали его шаги. Но все так же блестели его выпученные глаза и вытягивались в доброй улыбке толстые губы. По-прежнему он был со всеми приветлив и весел, хотя держался независимо и не позволял себе ни малейшей расслабленности. Он научился спокойно ждать и не терял надежды, что его час придет. В сущности, он уже давно мог занять какую-нибудь приличествующую его репутации должность при дворе, но сам недвусмысленно давал понять окружающим, что не пойдет на службу, пока в царстве не восстановится законная власть. А вообще-то он понимал, что при дворе найдется немало охотников воспользоваться его славой и недюжинными знаниями. Недаром он говорил ученику, что «ждет достойного покупателя» на свой товар.
Между тем владычество «трех семейств» оказывало все более губительное воздействие на политику и нравы в родном царстве Конфуция. Возведение на трон Дин-гуна в обход законного наследника на много лет превратило дворец луских царей в арену ожесточенных интриг и конфликтов, а взаимное недоверие и подозрительность участников одиозного триумвирата грозили превратить тлеющие угли дворцовых раздоров в пламя открытой войны. Впрочем, не было мира и внутри каждого из могущественных кланов, где не утихала столь же ожесточенная борьба за верховенство. Так продолжалось не год и не два, но долго так продолжаться не могло.
Летом в третий год правления Дин-гуна – то бишь в 505 году до н. э., – когда Конфуцию шел сорок седьмой год, глава клана Цзи и самый могущественный человек в царстве Цзи Пинцзы затеял в своих владениях большую охоту и в самый ее разгар неожиданно умер. Не успели предать земле тело вчерашнего диктатора, как столь же внезапно скончался предводитель клана Сунь – второго по величине и влиянию. В обоих случаях наследниками покойных оказались еще совсем молодые люди, не обладавшие ни опытом политических интриг, ни железной волей, ни административным талантом. Как водится, разгорелись споры о наследовании. Всеобщим замешательством воспользовался бывший приближенный и доверенное лицо Цзи Пинцзы по имени Ян Ху. Это был типичный выскочка, каких тогда было уже немало: человек низкого происхождения, профессиональный воин, грубоватый и не слишком умный, наделенный огромной физической силой, незаурядными способностями и непомерными амбициями. Не прошло и нескольких месяцев, как он прибрал к рукам командование войском клана Цзи, заключил в темницу или отправил в ссылку почти всех людей из окружения своего бывшего господина и даже взял под стражу его преемника – юного Цзи Хуаньцзы. Вскоре он навязал своему пленнику договор, предоставлявший ему почти неограниченную власть в царстве, а для вящей убедительности отобрал у Цзи Хуаньцзы царскую ритуальную табличку – главный символ державной власти в Срединной стране. Чтобы укрепить свои позиции, он постарался первым делом ослабить своих возможных противников. Способ он выбрал самый надежный: в нарушение обычая объявил вождями кланов Цзи и Сунь отпрысков их побочных ветвей, подлив масла в огонь внутриклановой вражды. Кроме того, он восстановил прежний порядок расположения поминальных табличек в родовом храме правителей Лу, так как в свое время Цзи Пинцзы незаконно переставил таблички своих предков на более почетные места. Так Ян Ху дал понять всем добрым подданным Лу, что его бывшие хозяева лишались привилегий, которые присвоили себе. А потом он велел устроить торжественное жертвоприношение в царском храме, дабы создать себе репутацию верного слуги трона.
Ян Ху добился власти с поразительной легкостью. Он даже сумел отразить нашествие извне и вернуть захваченный цисцами пограничный городок Янгуань. Но можно не сомневаться в том, что удержаться у власти ему было очень трудно. Этот баловень судьбы отчаянно нуждался в опытных и авторитетных советниках. Вот тут он и обратил взор к самому известному ученому царства. Некоторые китайские комментаторы считают, что этот Ян Ху был тем самым привратником семейства Цзи, который много лет тому назад не пустил совсем еще юного Кун Цю на званый пир в доме своего господина. Возможно, памятуя о той давней встрече и желая загладить свою вину, а скорее всего отлично зная, сколь взыскателен Учитель Кун в своих знакомствах, Ян Ху постарался вести себя как можно учтивее. Он послал Конфуцию приятный сюрприз – зажаренного целиком и вымоченного в тончайших соусах поросенка, позаботившись о том, чтобы подарок доставили в тот момент, когда Конфуция не было дома и, стало быть, он не мог отвергнуть подношение. Теперь Конфуцию, дабы не показаться невежливым, следовало нанести Ян Ху благодарственный визит. У Конфуция, конечно, не было никакого желания встречаться с новоявленным временщиком, и он тоже сделал так, чтобы, явившись в дом к Ян Ху, не застать хозяина на месте. Но Ян Ху не привык отступать. Спустя некоторое время его колесница «случайно» столкнулась на узкой улочке с экипажем Учителя Куна. Сойдя на землю и отвесив вежливый поклон, он тут же завел с почтенным Куном деликатный разговор о том, что пора бы знаменитому учителю найти своим талантам более достойное применение.
– Скажите, уважаемый Учитель Кун, – начал Ян Ху, – благородно ли обладать драгоценной яшмой и не назначать за нее высокую цену?
– Нет, – ответил Конфуций.
– А мудро ли желать оказать услугу государству и не воспользоваться благоприятной возможностью для этого?
– Нет, – все так же односложно отвечал несловоохотливый Конфуций.
– Ну так время не ждет, дни и месяцы уходят невозвратимо! – торжествующе заключил Ян Ху.
– Хорошо, я принимаю предложение служить, – все так же спокойно вымолвил Учитель Кун.
Многие поколения поклонников Конфуция смущенно гадали о том, что побудило их учителя, умевшего так мужественно постоять за себя в других обстоятельствах, без сопротивления уступить уговорам наглого узурпатора. Возможно, самый простой ответ будет и самым правильным: в разговоре с Ян Ху Конфуций действительно был до конца искренен, ибо говорил то, что требовалось говорить в подобных обстоятельствах, и притом не изменял своим убеждениям. Нет никаких оснований полагать, что, окажись Конфуций на службе у Ян Ху, он отказался бы от своих принципов и стал пособником произвола. Наверное, это хорошо понимал и сам Ян Ху, потому что обещанную Конфуцию должность он так и не предложил.
Не исключено, что уступчивость Конфуция подтолкнула Ян Ху к более решительным действиям. Во всяком случае, через некоторое время он решил вовсе избавиться от Цзи Хуаньцзы, задумав казнить его на осеннем празднике чествования предков. Казнить политических врагов в день большого праздника считалось тогда хорошим тоном: казнь в таких обстоятельствах приобретала какую-то особую торжественность. Уверенный в успехе своего дела, Ян Ху не отказал себе в удовольствии устроить очередной фарс: он распорядился доставить жертву на место казни в богато украшенной колеснице и в сопровождении безоружных слуг. Днем раньше он уже отдал приказ собрать на главной площади Цюйфу все боевые колесницы царства, чтобы сразу после убийства Цзи Хуаньцзы дать большой военный парад в собственную честь. Но случилось непредвиденное: по дороге на площадь Цзи Хуаньцзы, прознавший об уготованной ему участи, сумел ускользнуть от своего почетного эскорта и укрыться в доме семейства Мэн. Дружина клана Мэн без труда рассеяла преследователей Цзи Хуаньцзы, а в столице тут же составилось внушительное войско, готовое отомстить Ян Ху за все обиды, нанесенные им «трем семействам». Теперь «сильному человеку» царства пришлось спасаться бегством самому. В бессильной ярости Ян Ху учинил разгром в царском храме предков и, питая, как все выскочки, слабость к регалиям, забрал с собой главные реликвии луского двора – царскую яшму и лук Чжоу-гуна. Засим он покинул Цюйфу, не отказав себе в удовольствии заночевать прямо в предместье столицы, почти на виду у своих врагов. На следующее утро он переоделся в гражданское платье и умчался на север – туда, где принимали всех смутьянов и свергнутых диктаторов Лу. Этим местом был, конечно, двор циского правителя Цзин-гуна. Там беглый узурпатор пытался сколотить войско для похода в луские земли, но успеха не имел. В конце концов Цзин-гун отправил его в ссылку, а реликвии Лу вернул законному владельцу. До места ссылки Ян Ху не доехал: по дороге он сломал своими могучими кулаками оси колесницы, в которых ехала его охрана, и благополучно сбежал в царство Цзинь. С тех пор он промышлял разбоем.
Бегство Ян Ху не положило конца смуте в луских владениях. Слишком уж низко пал авторитет «трех семейств», а сам государь не имел сил справиться с беспорядками. Не успели вожди «трех семейств» отпраздновать свою победу, как один из воевод клана Цзи по имени Гуншань Фуцзяо снова поднял мятеж и завладел главной крепостью во владениях своих патронов. Прежде Гуншань Фуцзяо числился сподвижником Ян Ху, хотя, по-видимому, не одобрял разбойничьих повадок своего командира. Однажды он даже потребовал от Ян Ху относиться с должным почтением к законному государю. Очень может быть, что и на сей раз он выступил под знаменем реставрации власти потомков Чжоу-гуна. Человек военный и почти неизвестный в столице, он не мог и мечтать об успехе своего предприятия, не заручившись поддержкой влиятельных людей царства. Подобно Ян Ху он задумал привлечь на свою сторону Конфуция, но в отличие от своего бывшего патрона не стал вступать с Учителем Куном в двусмысленные переговоры, а без обиняков прислал к нему гонца с предложением стать первым советником в возрожденном царстве Лу, которое он, Гуншань Фуцзяо, завоюет для Дин-гуна своим мечом.
А что же Учитель Кун? Если верить одному из сюжетов в «Беседах и суждениях», он не устоял перед искушением применить наконец свои способности в деле и решился поехать к Гуншаню Фуцзяо. Ученики были в полном замешательстве: всю свою жизнь Учитель был так щепетилен в выборе друзей и покровителей, а тут вдруг по первому зову готов бежать к командиру захолустной крепости, которого ждет неминуемое поражение. Особенно негодовал прямодушный и вспыльчивый Цзы-Лу. «Очень может быть, что нам некуда идти, но почему мы должны идти к такому ничтожному человеку, как Гуншань Фуцзяо?» – горячился он. Цзы-Лу, как всегда, рассуждал просто, не отягощая себя излишними сомнениями: восставать против своего господина нехорошо, а Гуншань Фуцзяо именно так и поступил. Следовательно, он вовсе не борец за «праведный Путь», а обыкновенный изменник. Учитель Кун мог бы возразить в ответ, что ведь Чжоуская династия началась с восстания вождя чжоусцев против династии Шан. К тому же патроны Гуншань Фуцзяо сами не отличались благочестием: кто, как не они, ввергли Лу в пучину смуты, изменив заветам древних царей? Разве не они отняли власть у законного государя и обрекли на изгнание многих достойнейших мужей царства? Чжоуская держава началась с небольшого удела. Кто знает, размышлял Конфуций, а вдруг и на этот раз из крошечного владения вырастет могучее царство и добродетели древних восторжествуют вновь? «Тот, кто меня призвал, сделал это неспроста, – рассуждал Конфуций вслух. – Если он сообразит, как лучше меня использовать, я сумею возродить здесь, на востоке, власть Чжоу!» Признание, что и говорить, примечательное, с редкостной откровенностью показывающее, как высоко оценивал Учитель Кун свои способности, как верил он в свое высокое назначение стать новым Чжоу-гуном.
Впрочем, Конфуций, быть может, просто советовался с учениками или даже соблазнительными речами испытывал их добродетель. К Гуншань Фуцзяо он так и не поехал, да и замыслы мятежников были явно неосуществимы. Но обращение взбунтовавшегося воеводы к знаменитому учителю не осталось незамеченным при луском дворе. Однажды утром у ворот дома Конфуция раздались торопливые удары гонга, а следом во двор вошел гонец, державший в руках верительную бирку государя и шкатулку с царским посланием. Дин-гун приглашал Учителя Куна на аудиенцию. Это Цзи Хуаньцзы от имени правителя спешил привлечь к себе Конфуция, опасаясь, как бы тот и в самом деле не ушел в стан мятежников. Возможно, для этого приглашения имелись и другие причины: некоторые из учеников Конфуция уже служили под началом того же Цзи Хуаньцзы, и в таких условиях не призвать на службу их учителя было уже почти позором и для них, и для их начальников.
После многих лет «отдохновения на досуге» судьба давала Учителю Куну шанс «помочь народу, исправить мир». Ослушаться государя было бы большой глупостью да и непростительной дерзостью. На следующий же день Конфуций пошел знакомым путем к царскому дворцу. Вот массивные ворота, укрытые высокой двухъярусной крышей с резными карнизами. Стражники в блестящих латах, с длинными пиками в руках. Обсаженная кипарисами аллея среди просторного двора. Еще ворота с высоким порогом и еще один двор. Дорожка к крыльцу большого здания с красными колоннами по всему периметру. Ступеньки в полумрак тронного зала. Выстроившиеся рядами знатные люди царства в шуршащих шелковых одеждах. Где-то высоко сидит на троне государь, лицо его скрыто за блестящими нитями, спадающими с его шапки. Перед троном Конфуций опускается на колени и склоняет голову, касаясь лбом пола. В гулкой тишине зала звучат приветственные слова государя, а потом следует неизбежный на подобных церемониях вопрос:
– Единственный хочет знать, существует ли на свете такое изречение, которое приведет государство к благоденствию?
– Одним изречением благоденствия в государстве не добиться, – неспешно отвечает Конфуций. – Но вот, осмелюсь доложить, есть такие слова: «Быть правителем тяжело, быть советником отнюдь не легко».
В зале воцарилась неловкая тишина. Сановники недовольны: ответ этого заносчивого Кун Цю граничит с оскорблением царской особы. Желая сгладить неприятное впечатление от слов Конфуция, Дин-гун задает еще один вопрос:
– Ну а есть ли такое изречение, которое приведет царство к гибели?
– Одним изречением царство не погубить, – отвечает Конфуций. Но вот, осмелюсь доложить, есть такие слова: «Счастье правителя в том, что ему никто не смеет перечить!»
Что и говорить, дипломатического такта Конфуцию явно недостает. Но Дин-гун, конечно, даже намеком не выказал своего недовольства. У таких аудиенций свои правила, и их нужно соблюдать. Похвалив Конфуция за мудрые советы и пообещав глубоко вникнуть в них, Дин-гун выразил пожелание иметь у себя на службе столь выдающегося ученого мужа. Разумеется, семейство Цзи впредь не будет вспоминать о былых обидах и даже возьмет Учителя Куна под свое покровительство. Тут же Конфуцию предложили пост правителя города Чжунду. Это назначение оставляло Конфуция за чертой большой политики, но давало ему почти неограниченную власть на вверенной ему территории. Кажется, оно было вызвано желанием достичь определенного компромисса: с одной стороны, у Конфуция появлялась возможность показать себя в деле, с другой стороны – он не будет досаждать приближенным Дин-гуна, да и служить ему придется под началом Цзи Хуаньцзы.
Так в жизни Конфуция начался новый этап: карьера государственного мужа. Это случилось, вероятно, в начале 501 года до н. э., в то самое время, когда Учитель Кун, по его собственным словам, познал в себе Небесный промысел.
В те далекие времена – как, впрочем, и позднее – местные правители в Китае совмещали в своем лице все виды власти и в административных делах были мастерами на все руки: ведали сбором налогов и строительством оросительных сооружений, казенным делопроизводством и торговлей, заботились о процветании земледелия, вершили суд, командовали войсками, надзирали за учебными заведениями и вообще входили во все вопросы местной жизни. В «Беседах и суждениях» нет никаких сведений о том, как Учитель Кун исполнял свои административные обязанности, что и неудивительно, поскольку из этой книги почти ничего нельзя узнать о тех сторонах жизни Конфуция, которые не имели прямого отношения к его учительской практике. Но позднейшее предание с избытком восполнило этот досадный пробел. В нем сохранилось множество колоритных, подчас курьезных известий о делах Учителя в его бытность правителем Чжунду. Конечно, не бывает предания без вымысла и легенд, и далеко не все из того, что приписывается в нем великому учителю, имеет под собой реальную почву. Но у традиции своя правда – правда наиболее типичных, родовых и потому непреходящих черт народного быта. И Конфуций предстает в ней как идеальный, образцовый чиновник – мудрый, строгий, справедливый и участливый. Он делает то, что должно быть сделано. И для хранителя традиции, в конце концов, не так уж важно, было ли это сделано в действительности.
Но что же именно сделал Учитель Кун, заступив на должность правителя Чжунду? Рассказывают, что по приезде на место назначения он первым делом навел порядок в налогообложении, так что доходы местной управы многократно увеличились, а тяготы народа, напротив, уменьшились. Для людей разных возрастов он установил различные рационы питания, предписав юношам есть больше зерновой пищи, а стариков вдоволь снабдив свининой и бараниной, ибо мясо, как верили в старом Китае, дает пожилым людям силы и продлевает их жизнь. Он разделил все земли в зависимости от их плодородия на пять категорий, а отбирая работников для несения трудовых повинностей, каждому давал посильное задание, слабых же вообще освобождал от работ. Ради экономии средств он запретил изготавливать орудия, украшенные орнаментом или фигурками зверей. Он следил за тем, чтобы торговцы на рынках пользовались правильными мерами и устанавливали справедливые цены, а пастухи по дороге на торг не поили стадо, чтобы увеличить вес своих баранов. Как истинный любитель древности, Учитель Кун даже запретил подделывать старинные жертвенные сосуды. Разумеется, новый управляющий уделял пристальное внимание заботе детей о своих родителях и усопших предках. Он повелел хоронить покойников в двух гробах, чтобы по возможности предотвратить разложение тела, и сам установил толщину стенок внутреннего и внешнего гробов. Молва приписывала ему введение обычая хоронить покойников на склонах холмов и запрет сажать на могилах деревья. Еще Конфуций прослыл противником чересчур пышных похорон и в особенности человеческих жертвоприношений, все еще нередких в те времена.
Очень скоро весть об успешной деятельности Конфуция на посту правителя Чжунду облетела все царство, а наместники соседних областей, если верить преданию, принялись усердно подражать его методам управления. Узнал об успехах Конфуция-администратора и царский двор. Дин-гун вызвал Конфуция к себе и спросил его: «Годятся ли порядки, заведенные вами, для всего царства?» – «Они годятся для всего мира! Зачем ограничиваться только лускими владениями?» – ответил Конфуций. И тогда Дин-гун назначил удачливого администратора главой ведомства общественных работ в своем царстве. На новой должности Конфуций установил, где и как нужно сеять хлебные злаки, а заодно переселил множество крестьян на пустующие земли. Еще он соединил канавой могилу Чжао-гуна с родовым кладбищем правителей Лу, якобы заявив Цзи Хуаньцзы: «Обвинять в прегрешениях своего государя и тем самым обнажать собственную вину – значит, нарушать ритуал. Ныне я соединил могилы наших правителей, чтобы предать забвению самоуправство вашего отца». Речи слишком дерзкие для подчиненного и к тому же мало похожие на осторожные, щадящие самолюбие собеседника высказывания настоящего Конфуция. Но из уст праведника, снискавшего славу Учителя всех времен, услышать их вовсе неудивительно.
По некоторым рассказам, Конфуций настолько преуспел в руководстве хозяйственным ведомством, что уже через несколько месяцев Дин-гун назначил его на должность придворного судьи. В «Беседах и суждениях» опять-таки нет никаких упоминаний о деятельности Учителя Куна на этом видном посту, который обычно занимали люди куда более родовитые, чем Конфуций. Достоверно известно, однако, что в то время Конфуций действительно занимал какой-то высокий пост при дворе и был довольно близок к государю. В «Беседах и суждениях» помещен портрет Учителя в его бытность придворным чиновником. Портрет этот, как водится, составлен из разрозненных, экспрессивных штрихов, но мы без труда различим в нем живого, обаятельного человека, чья необыкновенная скромность и педантичное выполнение служебного долга выдают обостренное чувство собственного достоинства.
Когда Учитель разговаривал с подчиненными, он держался как бы непринужденно-дружески. Когда же он обращался к вышестоящим, то был как бы вдохновенно-почтителен. В присутствии же государя он был преисполнен как бы возвышенного смирения…
Когда государь приказывал Учителю принять гостей, его лицо как бы преображалось, и он словно неуверенно ступал по земле. Когда он отвешивал приветственные поклоны и поводил рукой то вправо, то влево, одежды его так изящно развевались в воздухе. Навстречу шел, словно летел на крыльях, а проводив гостей, обязательно докладывал: «Гости больше не оглядываются!»
Входя в ворота государя, Учитель как бы весь сжимался, словно с трудом мог пройти.
В воротах он никогда не стоял посередине и не ставил ногу на порог.
Когда ему случалось проходить мимо трона, он принимал вид строгий и торжественный, ступал как будто в нерешительности и говорил, как бы с трудом подыскивая слова.
Когда он, подняв полы платья, поднимался к подножию трона, то с почтением подавался весь вперед и стоял затаив дыхание. Когда же он шел обратно, то, спустившись на одну ступеньку, как будто приходил в себя, успокаивался. Спустившись с лестницы, он ускорял шаг, точно летел на крыльях. Вернувшись на место, стоял, исполненный достоинства.
Когда он принимал из рук государя яшмовый скипетр, то наклонялся вперед, словно едва мог удерживать его. Сверху держал он скипетр так, словно отвешивал поклон, снизу поддерживал его так, словно подносил подарок. Тогда имел он облик возвышенный и грозный, словно его переполняли благоговение и страх, шел осторожно, как будто не решаясь оторвать ноги от земли.
Когда он подносил подарок, то всем видом являл радушие.
Встречаясь с друзьями, он был неизменно весел.
И снова эта загадка не то феерического, не то вполне обыденного образа Учителя Куна. Поведение Конфуция развертывается перед нами чередой стилизованных, чрезвычайно выразительных жестов, обретающих значение материализованных форм чувства, настоящей пластики духа. Каждый штрих, каждый нюанс в этом искрящемся портрете не случайны, но исполнены глубокого смысла. Учитель потому и учитель, что не просто живет, но еще и показывает, как нужно жить и как действовать безошибочно в любых обстоятельствах. Что же он показывает? По виду – почтение к государю, которое, впрочем, коренится в «уважении себя». Урок как нельзя более уместный в обществе чванливых аристократов и дерзких выскочек. Но все эти знаки почтения пронизаны еще и нитью бодрствующего духа, в них проглядывает бездонная глубина сознающего сознания. Здесь все жизненные события вовлекаются в один целокупный, по-музыкальному утонченный ритм бытия, одновременно растворяясь в нем и обретая полноту своего бытия. Жизненный идеал Конфуция – это не что иное, как неизбывный поток стильной жизни, именно: жизнь, преображенная в нескончаемую церемонию.
Мудрость Конфуция есть не знание каких-то всеобщих истин и законов, а точность «соответствия моменту», выверенность стильного жеста. Каждым своим поступком Учитель наставляет и воспитывает, одним словом, указывает Путь. Нашему взору предстают штрихи и нюансы поведения, оторванные от их естественного фона, непомерно увеличенные. Нам открывается мир, как бы увиденный сквозь увеличительное стекло, мир нереальный или, лучше сказать, сверхреальный, и нереальность его – свидетельство необыкновенной обостренности внимания, чуткого бодрствования духа. Стоит нам отвлечься от этой волшебной оптики внутреннего созерцания, как мы тут же осознаем, что действия Конфуция неизменно естественны и уместны; что эти действия всегда безукоризненно приличны и в этом смысле воплощают собой нечто общепринятое, почти незамечаемое в рутине повседневности. Они знаменуют самоустранение всего обособленного и частного. Вот почему всякое действие у Конфуция совершается под знаком «как бы», существует лишь условно. Реально же нечто другое – непроизвольное течение жизненных метаморфоз. Жизнь Конфуция подчиняется законам эстетики миниатюры, столь тонко чувствуемой китайцами; эстетики, устанавливающей присутствие великого в малом, всеобщего в частном и потому делающей зыбкими и призрачными границы между фантазией и действительностью, погружающей в мир всеобщей имитации, подражания, уподобления. Нет, неспроста еще во времена Конфуция в китайцах пробудилась страсть к созданию искусных имитаций старинных предметов… Впрочем, как уже говорилось, истинный смысл и учености Конфуция, и его манер проявляется лишь в далекой исторической перспективе. А для правителей Лу и их придворной знати Учитель Кун был, как нетрудно догадаться, только чудаковатым эрудитом – немного опасным, больше забавным. В позднейших источниках упоминаются два любопытных эпизода из жизни Конфуция в начальную пору его службы при луском дворе. Темы этих рассказов, да и сам образ Конфуция, в них запечатленный, заметно отличаются от тематики и атмосферы «Бесед и суждений», что и понятно: перед нами не свидетельства близких учеников, преданных делу нравственного совершенствования, а народная молва, интересующаяся курьезами и чудесами. В обоих случаях Конфуций выступает в роли толкователя фантастических явлений, хотя, по признанию его учеников, сам он очень не любил распространяться о подобных предметах. В первом рассказе говорится о том, что люди Цзи Хуаньцзы, копая колодец, наткнулись на «комок земли, похожий на глиняный кувшин, а в том кувшине был баран». В ответ на просьбу Цзи Хуаньцзы объяснить находку Конфуций сказал, что его люди, вероятно, нашли экземпляр некоего «овцеподобного чудища», которые, согласно древним книгам, обитают в земле.
Во втором рассказе посланник из далекого южного царства У на пиру во дворце Дин-гуна расспрашивает Конфуция о найденной в его родных краях огромной кости размером с телегу. Конфуций сказал тогда:
– Я слышал, что в древности, когда царь Юй собирал всех духов на горе Куайцзи, правитель одного из уделов по имени Фанфэн явился позже других, и тогда Юй убил его, а тело выставил на всеобщее обозрение. Каждая кость Фанфэна занимала целую телегу».
– А кто из духов Юя отвечал за охрану его владений? – продолжил свои расспросы гость из У.
– Таковы духи гор и рек, – отвечал Конфуций. – А вот алтари для жертвоприношений духам земли и злаков охраняют знатные люди, которые служат царю.
– А что охранял Фанфэн? – спросил посланник.
– Фанфэн был правителем владения Ванмин и носил фамилию Ци. Нынче в тех землях живут высокорослые люди.
– А каков самый высокий рост у человека?
– Люди во владении Цяояо вырастают в три локтя, и это самый низкий рост. А высокие народы выше их в десять раз.
Вот такая получилась на приеме у Дин-гуна ученая беседа, в которой Конфуций в очередной раз подивил собравшихся своей несравненной эрудицией. Не столь важно, состоялась ли эта беседа в действительности. Важнее то, что Учитель Кун, помимо прочего, санкционировал своим авторитетом страсть к собиранию всевозможных курьезов и небывальщины, которая всегда была свойственна ученым людям старого Китая и так счастливо рассеивала скуку канцелярской рутины…
Но вернемся к служебной карьере Конфуция. О деятельности его в судебном ведомстве традиция почти не сохранила сведений, а то, что известно, не содержит в себе ничего примечательного. Для чего внешняя броскость тому, кто питается родниками внутренней жизни? Сообщается лишь, что Конфуций «упорядочил законы, но не имел нужды применять их, ибо в царстве не осталось преступников». Еще рассказывают, что, став судьей, Конфуций принял участие в традиционной охоте на жертвенных животных, чтобы «показать народу, как следует помещать в сосуды для жертвоприношений пищу, добытую во всех четырех сторонах света». Но наибольшую известность спустя два-три столетия после смерти Конфуция получил рассказ о том, как уже на седьмой день своей службы в должности судьи Конфуций приказал казнить некоего чиновника по имени Шаочжэн Мао, который обладал немалым влиянием в царстве и выделялся дерзким поведением. Чтобы придать больший вес своему решению, гласит предание, Конфуций лично присутствовал при казни и приказал выставить тело казненного у ворот царского дворца. Засим он огласил перед народом судебные заповеди: «Не считая грабежа и разбоя, на свете есть пять преступлений, заслуживающих смерти, – объявил Учитель Кун. – Это, во-первых, злые и подлые умыслы. Во-вторых, коварные и дерзкие поступки. В-третьих, лживые и обманные речи. В-четвертых, обширная память на злые дела. В-пятых, сеяние всяческих соблазнов».
Таковы главные прегрешения человечества, какими они запечатлелись в сознании китайского народа. Авторство же этого перечня было для вящей убедительности приписано «Учителю всех времен». В чем, согласно тому же рассказу, заключалась вина казненного чиновника? Оказывается, он «собирал вокруг себя приверженцев и сколачивал клику; своими речами он причинял вред и обманывал людей; он был настолько могуществен и упрям, что мог идти против истины и превозносить самого себя».
История о том, как Конфуций предал казни Шаочжэн Мао, явно вымышлена. Но она дает и некоторую пищу для размышлений. Не примечательно ли, что основанием для смертного приговора служит здесь не уголовное преступление, вообще не поступок, а образ мыслей, качества характера; еще точнее – своеволие, непокорность власти или обычаю? Как ни отличается Конфуций этой легенды от реального Конфуция, учившего «любить людей», его поведение продиктовано все тем же, уже знакомым нам нежеланием отрывать слово и даже мысль от дела, человека – от его окружения. Для Конфуция – и в этом он действительно является первым учителем Китая – человек всем обязан своим родным и близким и обязан жить «одной жизнью» с миром; его мысли и чувства не менее значимы, чем его поступки, ведь они должны постоянно удостоверять в человеке присутствие возвышенно бескорыстной воли к мировой гармонии. Оттого же мудрость, по Конфуцию, – это прежде всего правильное воспитание.
Надо сказать, что легенда о расправе Конфуция над велеречивым и непокорным вельможей – не единственная в своем роде в литературе древнего Китая. К примеру, есть сообщение о том, как в 501 году до н. э. – чуть ли не одновременно с казнью Шаочжэн Мао – первый советник царства Чжэн казнил ученого Дэн Си, который прославился как искусный спорщик и составитель «свода законов на бамбуковых дощечках». Известны и еще несколько подобных рассказов, родившихся, по всей видимости, в головах благочестивых ревнителей имперских законов.
Что же касается истинного отношения Конфуция к смертной казни, то о нем можно узнать из помещенного в «Беседах и суждениях» разговора учителя Куна с высокопоставленным сановником луского двора.
– Что бы вы сказали, – спросил этот сановник у Конфуция, – если бы я ради осуществления праведного Пути казнил всех неправедных людей?
– Какая нужда казнить людей, коли управляешь государством? – отвечал Конфуций. – Стремитесь к добру сами, и простые люди будут желать того же. Добродетель благородного мужа подобна ветру, низкие же люди по природе подобны траве. А трава всегда клонится под ветром.
Ясно, что Конфуций не верит в попытку насильственного исправления общества. Он знает: счастье одних людей нельзя построить на крови других. Он мечтает о том, чтобы добро наполняло человеческое сердце неприметно, ненасильственно и неостановимо, как ветер наполняет небесный простор; чтобы человек жил добром так же свободно и естественно, как он дышит воздухом. И не его вина, что эту утопию непроизвольно нравственного общества позднее могла подменить антиутопия деспотического государства, где машина управления тоже работает без перебоев, царит полное единомыслие, много говорится о доброте и справедливости, но нет главного – искреннего добросердечия в отношениях между людьми. Со своими учениками Конфуций был более откровенен. Когда Цзай Во заявил, что при династии Чжоу у алтаря Земли «стали сажать каштаны, чтобы заставить народ трепетать от страха» (слово каштаны по-китайски звучало одинаково со словом «бояться»), Конфуций строго заметил: «О прошлом не следует зря рассуждать». Рассуждения о том, что народ должен бояться власти, были ему явно не по вкусу.
Как бы то ни было, настоящий Конфуций, конечно, не был бездушным бюрократом, признающим только букву закона. Он, как мы знаем, верил не в законы, а в человека и, даже став судьей, не утратил скромности, не перестал оптущать себя учеником, изучающим самое жизнь. «Найдутся люди, которые умеют разрешать споры не хуже меня, – говорил он. – Но я отличаюсь от них тем, что стараюсь как можно реже прибегать к наказаниям». Именно наследие Учителя Куна предопределило такие характерные черты традиционного судопроизводства в Китае, как равнодушие к судебному регламенту, стремление каждое судебное дело решать, исходя из его особых обстоятельств, ставить во главу угла не безличный закон, а конкретного человека. Подобное отношение к суду имело как недостатки, так и преимущества. Китайский судья (который всегда был просто чиновником, выполнявшим обязанности судьи по случаю) имел право выносить приговор по собственному усмотрению, но каково бы ни было его решение, он не мог найти себе оправдание в том, что поступил в соответствии с буквой закона. Вольно или невольно он руководствовался не столько отвлеченными правилами, сколько здравым смыслом, соображениями нравственности, чутьем законника. Говорят, что Конфуций не выносил своего решения, не выслушав прежде всех своих помощников.
Легко догадаться, что судебная практика в Китае предоставляла китайским чиновникам-судьям немалый простор для импровизации, и лучшие судьи всегда пользовались этой возможностью. Так же поступал и Конфуций. Существует рассказ о том, как Учитель Кун решал тяжбу между некими отцом и сыном. Он долго держал и того, и другого в тюрьме, не вынося приговора. В конце концов отец отказался от обвинений, выдвинутых им против сына, и Конфуций отпустил обоих домой. Некий вельможа выразил недовольство тем, что Конфуций прекратил эту тяжбу, никого не наказав.
«Наш верховный судья, – сказал он, – всегда говорил, что и в царстве, и в семье почтительность детей к родителям – всему основа, и казнить нарушившего эту заповедь ради того, чтобы преподать народу урок, – значит, поступить по справедливости. А теперь он отпустил непокорного сына с миром. Как же так?»
В ответ Конфуций объяснил свой поступок в следующих словах:
«Когда правитель не следует праведному Пути, а предает казни своих подданных за беспутное поведение, он сам поступает неправедно. Вершить суд, не побуждая людей быть почтительными к родителям, – значит карать невинных. Ибо сначала нужно научить людей, а потом судить их. Правитель должен сам идти праведным Путем и вести за собой народ. Если он не может этого добиться, то пусть окружит себя достойными мужами, а если и это не помогает, он должен прогнать со службы недостойных, дабы сердца их наполнились страхом. Не пройдет и трех лет, как в мире восторжествует добродетель. Если и после этого негодяи не переведутся, позволительно будет применить наказания. Но сейчас наставления государей запутанны, наказания многочисленны, а потому люди пребывают в замешательстве и с легкостью идут на преступления. И чем больше в мире законов, тем больше в нем преступников. Вот истинный порок нашего времени!»
Конфуций, как и подобает великому учителю, уверенно расставляет по местам ценности своего народа: первым делом – личный пример, нравственное воздействие, согласие, «правильные» мысли и поступки и уже потом – регламентация жизни, наказания и награды. Впрочем, и наказания, по китайским понятиям, должны применяться лишь по необходимости, как бы непроизвольно – бесстрастно и беспристрастно. Применение их вовсе не противоречит истинной «человечности». И все же настоящий Конфуций, известный нам по «Беседам и суждениям», видел свою миссию в том, чтобы покончить с наказаниями. Он так и заявлял ученикам: правитель тем мудрее, чем реже ему приходится карать своих подданных. Более того, поскольку власти предержащие должны сами подавать народу пример добродетели, они не могут не нести ответственность за преступления подданных. Когда сановник Цзи Канцзы, наследник Хуаньцзы в роли главы семейства Цзи и действительного правителя Лу, пожаловался Конфуцию на то, что в царстве развелось много воров, тот без обиняков ответил ему: «Если бы вы сами были свободны от вожделений, никто не стал бы воровать, даже если бы за это давали награду».
Мораль Конфуция ясна: если ты обладаешь властью, не кради сам, и тогда не будут красть подвластные тебе люди. Об ответственности правителя перед подданными говорил и ученик Конфуция Цзэн-цзы, давая наставления некоему свежеиспеченному судье: «Власть имущие у нас давно уже отошли от праведного Пути, и простые люди лишены опоры, – сказал Цзэн-цзы. – Если вы, разбирая тяжбу, дознаетесь до истины, то советую вам не слишком радоваться, а проявить сострадание к этим несчастным».
Нужно ли удивляться, что даже близкие ученики Конфуция ничего не сообщают о службе их учителя на влиятельном и видном посту придворного судьи? Если Конфуций и занимался в то время «упорядочиванием законов», то едва ли с целью издания их нового кодекса, ведь он, без сомнения, не хотел ни «смелых» законов, ни громких судебных процессов. Он хотел понять причины преступлений. А понять, как известно, – это значит почти простить. Простить не легким всепрощенчеством, а признанием общей нравственной вины людей. Каждое судебное дело для Конфуция – повод к самоочищению личности.
А что же правитель? Его долг, по Конфуцию, править так, чтобы его распоряжения, подобные действию истинного ритуала, воспринимались как нечто само собой разумеющееся, совершенно естественное, почти незамечаемое в потоке повседневных дел. Ведь говорил же он, что люди даже не знали, каким словом определить свершения мудрейшего царя древности Яо! Учитель Кун мечтал о той же способности незаметного и ненасильственного исправления нравов, которой будто бы обладали мудрые правители древности. Не будем забывать глубокую истину китайской традиции: недействие – основа действия… Став судьей, Конфуций, конечно, не изменил своему идеалу «сокровенного исправления нравов» и своей обычной взыскательности в поступках; он не торопился вершить суд, подобно тому, как истинно талантливый художник постоянно медлит в своей работе, желая добиться безупречной точности мазка. Пожалуй, он был бы вполне удовлетворен, если бы ему удалось внушить людям самое желание быть точными в своих действиях.
В китайской традиции идеальному суду полагается бездействовать за неимением истцов, и, надо сказать, отвращение к судебным разбирательствам в самом деле пустило глубокие корни в жизненном укладе китайцев. В лучшем случае власти должны разговаривать с народом языком запретов, ограждая подданных от разных «крайностей» и «излишеств», от всяких попыток расстроить правильные (и потому «естественные») отношения между людьми. Они могли указывать, например: «богачи не должны притеснять бедных», «торговцы не должны носить одежды из шелка», «женщины не должны вмешиваться в государственные дела» и даже «не препятствуйте течению вод» и т. д. В таких бесхитростных наказах тоже живет дух Учителя Куна.
Хотя вокруг Конфуция имелось немало охотников вводить все новые законы, все более жесткие наказания, сам он, без сомнения, был убежден, что начинать нужно не с законов, а с человека, и управлять страной нужно не страхом, а добросердечием. Секрет мудрого правления для Конфуция таился не в регламентах и распоряжениях, а в правильном воспитании. Конечно, запрещать легче, чем воспитывать, но Конфуций по собственному опыту знал, что в человеческой жизни самый легкий путь отнюдь не всегда самый правильный. Вопрос в том, откуда берется решимость идти этим путем.
Добродетель политики и политика добродетели
В пятьдесят лет Конфуций наконец получил в придачу к своему авторитету и славе учителя высокий пост при дворе и возможность хотя бы частично претворить в жизнь свою мечту о «праведном Пути». В служебных делах ему сопутствовал успех, хотя, надо признать, Конфуций был не совсем обычным судьей – судьей, который не желал судить. Какой же политический идеал пытался он осуществить, поступая таким образом?
Определить этот идеал в нескольких словах не так-то легко – слишком уж своеобразна и самобытна политическая традиция Китая. В отличие, скажем, от Европы китайцы не имели представления о различных формах государственного устройства или даже гражданском законодательстве. Мы не находим в Китае и идеи политики как отдельной науки в области общественной жизни. Во все времена китайцы представляли себе государство только в виде абсолютной монархии, но этот привычный наш термин, взятый из европейского лексикона, не раскрывает всего содержания китайской политической идеи. Власть правителя всегда считалась в Китае неограниченной и неделимой, но она никогда не была в полном смысле слова абсолютной. С одной стороны, даже высшие сановники были бесправны перед государем, с другой – признавалась равная ценность всякой жизни, в том числе и жизни рабов. Не допускалось какое бы то ни было неповиновение государю, но и сам государь должен был управлять так, чтобы «удовлетворить чаяния народа». Царя-тирана можно и должно было лишать престола. Это противоречие между деспотическим и, так сказать, «демократическим» уклонами в традиционных китайских представлениях о государственной власти снималось в понятии Неба, которое, как нам уже известно, обозначало всеобщий Путь мироздания в его биологическом, психологическом, общественном и космическом проявлениях. Воля правителя, полагали в Китае, должна сливаться с анонимной и даже неосознаваемой стихией народного быта. Власть государя не знает границ и преград, но она незаметно и, конечно, ненасильственно направляет течение жизни, ибо неизменно совпадает с простейшими и насущнейшими «требованиями времени». В идеале простые люди могли бы даже забыть о существовании государства.
Конфуций не был бы любителем древности, если бы не воспринял эту идею единства политики и жизни. Но он не стал бы и первым учителем Китая, если бы не сделал ее делом внутреннего убеждения, нравственного усилия. Мы должны помнить только, что образ древности у Конфуция сложился под влиянием не только и не столько письменных текстов, сколько устного предания – источника неопределенного, ускользающего, переменчивого. Древность Конфуция – это, конечно, не действительная история, и не идеи, записанные в книгах, а темный материк памяти, в котором хранятся семена воображения. И потому не будет преувеличением сказать, что не столько древность сформировала Конфуция, сколько сам Конфуций творил свою древность, свою мечту – возвышающую, часто даже фантастическую и все же неизменно практичную. Примечательно, что многие персонажи мира древности, послужившие Учителю Куну живыми образцами добродетели, даже не упоминаются в источниках более ранних времен, а получили известность в обществе чжоуской знати, где они были призваны иллюстрировать ценности нарождавшегося слоя служилых людей. Бывало и так, что герои древних мифов и божества первобытной эпохи обретали совсем новый облик и новую жизнь в чжоуской традиции, наследником которой считал себя и Учитель Кун. Позднейшее предание приписывает ему несколько отзывов об этих пришедших из глубины веков полубогах-полулюдях, и почти всегда его суждения оказываются явной импровизацией, а подчас и плодом курьезного перетолкования древних мифов. К примеру, в древнейших преданиях сохранилось упоминание о некоем «одноногом Куе» – существе с одной ногой, лицом человека и телом обезьяны. Согласно же разъяснению Конфуция, выражение «одноногий Куй» означает: «Людей, подобных Кую, и одного достаточно». В другом случае Конфуций толкует предание о четырех ликах родоначальника человечества – Желтого Владыки таким образом, что речь идет о посылке Желтым Владыкой своих чиновников в четыре предела земли. История о расправе Юя над своим подчиненным Фанфэном и его гигантских костях в изложении Учителя Куна уже приводилась выше. Во всех случаях, как видим, фантастика древнего мифа преображается в назидательное (и в не меньшей степени занимательное) повествование об исторических событиях.
Примечательно также, что Конфуций склонен выделять лишь отдельные, наиболее значимые в его собственных глазах деяния великих мужей древности. Он ищет в их жизни иллюстрации своим идеям. О мудрейшем из древних царей Яо он упоминает лишь, что люди «не могли определить его свершения»; Шунь, по его словам, был велик тем, что «сидел, почитая себя, лицом к югу, и только». В другом случае он замечает о том же Шуне и другом идеальном царе древности – Юе: «Сколь возвышенны Юй и Шунь были в том, что, владея Поднебесной, они пребывали вдали от нее!»
Но Конфуций не только склоняется в благоговейном трепете перед героями прошлого. Он в то же время ненаигранно, почти непроизвольно ощущает и свое сродство с ними. Он может судить о них как человек, знающий единую меру заслуг и неудач в этом мире. В конце концов, все люди, говорит Учитель Кун, должны добиваться того, что «дается труднее всего». Такая простая и такая нелегкая мудрость:
«Совершенствовать себя и таким путем сеять мир и благоденствие среди людей: даже Яо и Шунь не сочли бы это занятие легким».
Претворение человечности в своей жизни и даже, точнее сказать, всей своей жизнью: такова цель человеческого существования, перед которой все люди равны. Воля, всепобеждающая воля, которая волит самое себя и в одном мгновении бездонной ясности сознания наполняет собой всю жизнь и нескончаемую череду отдельных жизней, – вот недостижимое, недоступное обладанию, неимоверно трудное сверхусилие духа. Но тот, кто в глубинах своего сознания стяжает этот немеркнущий духовный свет, вместит в себя вечность и станет сопричастен семени всего живого. Истинный правитель мира, говорит Конфуций, «правит не управляя»: он правит посредством одного лишь усилия «самопочитания» – усилия прозрения в себе бесконечности.
Глубочайший секрет китайской традиции заключается в том, что величайший подвиг духа освобождает от необходимости что-либо совершать, безупречная воля в своей абсолютной свободе возвращается к полной непроизвольности. Для Конфуция истинный правитель – не тот, кто обременен административными хлопотами, а тот, кто услышал в собственном сердце «Небесное веление» и вместил в себя всеединство вселенского Пути; кто покоен среди вечности движения.
Учитель сказал: «Правление посредством добродетели подобно Полярной звезде, которая покоится на своем месте, а все звезды вращаются вокруг нее».
Коль скоро «добродетель», по Конфуцию, есть то, что вечнопреемственно в человеческой жизни и всегда постигается «изнутри», безличные законы и регламенты, договоры и клятвы ничего не прибавят к делу добродетельного правления. Они даже могут ему помешать, если их превращают в оправдание и цель политики. У Конфуция мудрый правитель не стремится ни запугать народ наказаниями, ни поощрить наградами, ни разбогатеть за его счет. Он знает, что государство богато богатством подданных и притом не допускает в народе чрезмерного имущественного неравенства, чреватого общественными потрясениями. Мудрый правитель, говорил Конфуций, «помогает нуждающимся, но не делает богатых еще богаче». Постоянством нравственного подвижничества он завоевывает доверие своих подданных.
Надо заметить, что в призыве Конфуция быть человечными с людьми и не относиться к ним как к «объектам» или «орудиям» политики много не только здравого смысла, но и мудрости педагога. Ведь всякое насилие над человеком неминуемо вызовет в нем столь же сильное противодействие. Такова азбука воспитания. Не пытайтесь обладать людьми как вещами, и люди сами обратятся к добру и пойдут за вами – вот совет Конфуция всем земным властелинам. Совет, выявляющий в обыкновенном здравом смысле, в азбучных истинах человеческого общежития восхитительный парадокс человеческой мудрости: не желай обладать, и тебе все будет дано.
Учитель сказал: «Если наставлять приказами и насаждать порядок наказаниями, люди будут стараться обойти запреты и потеряют чувство стыда. Если наставлять добродетелью и поддерживать порядок посредством ритуала, люди будут знать, что такое стыд, и вести себя пристойно».
Так трудно или легко осуществить праведный Путь Конфуция в этом мире? Конфуций не скрывает, что нет ничего труднее. Мнение о «непрактичности» политического идеала Конфуция, высказывавшееся идейными противниками конфуцианства в Китае и подхваченное некоторыми современными исследователями, восходит на самом деле к окружению самого Учителя. Не без тайной гордости составители «Бесед и суждений» приводят следующий эпизод из жизни Цзы-Лу: однажды Цзы-Лу остановился на ночлег в одном из постоялых дворов в предместье Цюйфу, и хозяин двора, узнав, что за человек заночевал у него, воскликнул: «Так значит, ты ученик того самого Кун Цю, который знает, что хочет невозможного, и все-таки хочет этого!» Полезно помнить, что этот, казалось бы, критический отзыв об Учителе Куне на самом деле почти слово в слово повторяет оценку благородного мужа, данную самим Конфуцием. Однако что может быть легче и естественнее, чем предоставить жизни идти так, как она идет? Увлеченность возвышенной целью ничуть не мешает Конфуцию требовать от правителя аккуратного выполнения своих текущих обязанностей. Мудрость Конфуция – это поистине понимание значительности всего преходящего, мелкого, внешнего. Многие политические суждения Конфуция поражают непринужденным соседством «высокой» морали и приземленных, чисто практических рекомендаций. Трудно отделаться от впечатления, что идеал духовного подвижничества и рутина повседневности были для Учителя Куна неразделимы:
Учитель сказал: «В управлении царством, имеющим тысячу боевых колесниц, правитель должен быть осмотрителен в делах и внушать доверие. Он должен ограничивать свои расходы и любить людей, а народ отбирать на работы по временам года».
Конфуций и в мыслях не допускал столкновения интересов государя и народа. Более того, счел бы ненужными и даже вредными любые общественные институты, призванные согласовывать эти интересы. Последние, на его взгляд, попросту невозможно отделить друг от друга, ибо правитель и его подданные изначально пребывают в безмолвном единении: добродетели (а равно и пороки) верхов сполна отражаются на нравах низов.
«Когда верхи чтят ритуал, никто из простолюдинов не посмеет быть непочтительным. Когда верхи чтят долг, никто из простолюдинов не посмеет быть непокорным. Когда верхи любят доверие, никто из простолюдинов не посмеет быть нечестным. Если в нашем царстве будут такие порядки, люди со всех краев земли придут сюда, неся на спине своих детей».
Что же, по Конфуцию, служит мерой заслуг правителя? Процветание его государства, но в конечном счете – благодарность самого народа. В истории Китая не было недостатка в деспотах, которые строили свои империи на страданиях и крови простых людей, но при этом считали – быть может, вполне искренне, что облагодетельствовали своих подданных. Сильная власть может многое: она может заставить людей до изнеможения трудиться и прославлять свое рабство, совершать тяжкие преступления и даже великие подвиги. Но даже самый могущественный деспот не может заставить людей быть счастливыми. Народ может быть счастлив только при нравственно безупречном правлении.
Теперь не будет удивительным узнать, что «почтение к себе», отличающее правителя, пестование им чувства собственного достоинства означало для Конфуция жизнь ради счастья других, бескорыстное служение людям. Великим образцом такой благородной самоотверженности для современников той эпохи стал легендарный царь Юй. В доисторические времена этот персонаж древних мифов был, по-видимому, водным божеством, покровителем одного из племен, обитавших у берегов Хуанхэ. Для наследников же чжоуской традиции он превратился в основателя династии Ся и великого благодетеля человечества, который спас мир от потопа. В «Беседах и суждениях» записан хвалебный отзыв Учителя об этом культурном герое, ставшем в Китае образцом благородства, трудолюбия, скромности и беззаветного служения людям. «Я не нахожу в Юе никаких недостатков, – говорил Конфуций. – Он был так скромен в еде и питье, а жертвы предкам и богам приносил по всем правилам и со всей почтительностью. Он никогда не думал об одежде, а для жертвоприношений надевал нарядное платье и шапку. Он жил в маленьком домике, но трудился не покладая рук на каналах и реках. Нет, я не нахожу в Юе никаких недостатков!» Нелишне напомнить, что предшественники Юя, цари Яо и Шунь, по преданию, добровольно отреклись от престола в пользу своих преемников, которых они сами и отбирали. Подобный альтруизм Учитель Кун считал верхом человеческого совершенства.
Заботу о народе, уважение к его нуждам Конфуций относил к числу важнейших обязанностей правителя – не менее важной, чем почитание предков и божеств. Более того, Конфуций и не отделял одно от другого, будучи убежденным в том, что глас народа есть глас самого Неба. Мудрый правитель, согласно Конфуцию, первым делом заботится о благосостоянии своего народа, ибо безнравственно требовать от своих подданных возвышенности духа, обрекая их на нищету и лишения. Едва ли в древнем мире можно найти другой пример столь же ясного понимания того, что материальные интересы людей способны определить ход истории.
Конечно, нельзя думать, что первый учитель Китая был готов предоставить простолюдинам какие-то политические права. Ничего подобного ни один древний китаец и не мог предложить. Народу Конфуций отводил роль пассивного, даже неосознающего свое предназначение свидетеля государевой политики. Общество, по Конфуцию, не может существовать без правителя; более того, народ «можно заставить идти правильным путем, но ему нельзя объяснить, зачем это нужно». Было бы странно, если бы Конфуций, живший во времена строгого сословного разделения и полного бесправия простонародья, думал иначе. Тем не менее он провозгласил нечто совершенно новое для своей эпохи: право каждого человека на обучение. Не раз доводилось ему утверждать, что долг правителя состоит в том, чтобы сначала накормить своих подданных, а потом обучить их.
Идея равенства людей в обучении, их равного права на образование была, наверное, самым важным новшеством, привнесенным Конфуцием в современное ему общество. Понимал ли Учитель Кун, принимая в ученики каждого, кто приносил ему «связку сушеного мяса», и воздавая хвалу тем, кто предпочел жизнь бедного ученого славе царедворца, что его учительское наследие рано или поздно должно было прийти в противоречие с аристократическими порядками того самого чжоуского государства, возрождению которого он посвятил свою жизнь? Ведь на смену родовой аристократии, обладавшей властью по праву рождения, должна была бы прийти иная элита – люди, добившиеся всего благодаря своим талантам и заслугам. Во времена Конфуция это противоречие было еще почти неощутимым. Позднее же, когда чжоуская государственность окончательно распалась, конфуцианство пережило смерть старой знати и стало служить интересам имперской бюрократии.
В представлении Конфуция, роли правителя и его чиновников в управлении государством существенно разнились: мудрому государю, как уже было сказано, следовало «править, не управляя», «пребывать вдали от мира». Иногда в этих тезисах Конфуция усматривают просто-напросто неверие учителя в способность современных ему правителей совершить задуманное им переустройство мира. Действительно, больших надежд на правителей царств и тем более их советников-аристократов Конфуцию возлагать не приходилось. Жизнь все дальше уводила чжоуское общество от добрых старых ритуалов к практической эффективности законотворчества, циничной дипломатии и открытой войне. Нет серьезных оснований полагать, что Конфуций уповал на авторитет чжоуского вана. Иначе он не надеялся бы собственными силами «возродить Восточное Чжоу». Он даже допускал, что в Срединной стране может и не быть «настоящего правителя». Управление государством, по мысли Конфуция, должно находиться в руках «достойных мужей» – этой новой аристократии духа. Мудрость правителя заключается в том, чтобы «возвышать добрых мужей». Одним словом, Конфуциева политическая программа предписывала правителю хранить возвышенный покой, а его чиновникам, напротив, быть деятельными: весьма удобное требование во времена, когда мало кто из номинальных правителей царств обладал свободой действий. Едва ли, однако, такой вывод Конфуция был вызван только теми или иными практическими соображениями. Он был задан еще и внутренней логикой Конфуциевой идеи ритуала, согласно которой бездеятельность правителя представляла собой символически-завершенное воплощение, «семя» всех действий, что и возвышало правителя, покоящегося, «подобно Полярной звезде», над его слугами. Так в политической программе Конфуция действительность и здравый смысл оказывались неотделимыми от, казалось бы, чисто умозрительных посылок символического миропонимания.
С легкой руки Конфуция отношения между правителем и его помощниками из числа «достойных мужей» стали главной темой политики в старом Китае. Отношения эти не были лишены особой, в известном смысле даже драматической, деликатности. Государь и его советник не могли обойтись друг без друга, но и сойтись им было не так-то легко, ведь ритуальные отношения, призванные «устанавливать различия между людьми», обязывали обе стороны строго блюсти свое достоинство и ни в коем случае не поддаваться соблазну заключить сделку, войти в сговор. Благородный советник – зеркало государевой чести. Он ставит верность долгу выше всех личных интересов. Он больше жизни предан государю, но, как замечает Конфуций, «может ли быть преданность государю там, где не решаются говорить правду»? Когда Цзы-Лу спросил Учителя, как нужно служить государю, тот ответил: «Не нужно обманывать его, но, если понадобится, будь непреклонен». Идеальный человек у Конфуция предан все же не лично правителю, а праведному Пути.
Чем же должен руководствоваться благородный муж в служении своему идеалу? По Конфуцию, его поведение зависит от того, осуществляется ли в стране праведный Путь.
Учитель сказал: «С чистым сердцем любите учение и, не страшась смерти, идите добрым путем. В страну, где жить опасно, не входите. В стране, где царит смута, не живите. Если мир живет по правде, будьте на виду, а если правды в нем нет – скройтесь».
В другой раз Конфуций советует ученикам все также действовать по обстоятельствам, а в сердце хранить постоянство Пути:
«Когда в стране следуют праведному Пути, говорите и действуйте с мужественной прямотой. Когда же в стране исчез праведный Путь, действуйте столь же мужественно, а вот говорите осмотрительно».
Порядок и смута, путь и беспутство: два извечных состояния мира, общества и человеческого сознания. Они всегда рядом, в опасном и волнующем соседстве. Невозможно истребить в человеческом сердце семена человечности, мечту о свободном и радостном единении человечества. Мечта эта в любой момент способна захватить всех людей, даже самых дурных и испорченных. Но ведь и малейшее ослабление нравственных усилий, забвение правды сердца губит людское согласие, ввергает мир в хаос. Жизнь течет между этими двумя полюсами: всеобщий хаос в любое время может смениться миром. И наоборот: на смену благополучию и довольству внезапно могут прийти ожесточенность и смута. Эта идея чередования «порядка» и «смуты» в мире определила традиционные взгляды китайцев на человеческую историю.
Свет праведного Пути мерцает даже во мраке всеобщего одичания. Одно слово правды перевесит горы лжи, и одна чистая мысль может перевернуть мир. Тому, кто способен воистину претворить ритуал, управлять миром будет не труднее, чем созерцать собственную ладонь. Таковы убеждения Конфуция, полные оптимизма и веры в человека. Что же, Учитель Кун – утопист, мечтающий разом преобразить жизнь? Конечно. Но он утопист, отлично знающий, что «хочет невозможного». Он уже не ищет правителя на свой вкус и не страшится собрать вокруг себя неудачников и отверженных. Он достаточно узнал и мир, и людей и не питает иллюзий. «Как это верно сказано, – замечает он, – что только после того, как миром сто лет будут править добрые люди, можно будет смягчить нравы и отказаться от казней». И ни один из государей не в силах одним махом избавить общество от его застарелых пороков:
«Даже при истинно добром государе должно смениться поколение, прежде чем в мире восторжествует человечность».
В конце концов, политика для Конфуция – это не повод удовлетворить честолюбие и даже не область применения своих знаний и способностей. Она дается человеку как великое испытание его духа. Ибо сказано: человечность приходит к людям после того, как «совершено самое трудное».
Политический идеал Конфуция может быть утопией. Но человек, идущий к нему, в высшей степени реален.
Новая отставка
Между тем жизнь придворного судьи Куна шла своим чередом. Каждый день с восходом солнца – доклад у правителя, потом разборы судебных дел, приемы иностранных послов, участие в жертвоприношениях и прочих церемониях, чуть ли не ежедневно устраивавшихся во дворце. А на досуге все те же беседы с учениками и еще более частыми, чем прежде, гостями, музицирование, прогулки и чтение, чтение… Даже развлечения выбирались такие, которые приносили духовную пользу: шашки, стрельба из лука, созерцание старинных предметов. Ученость Конфуция, его изысканные манеры и твердый характер вкупе с неиссякаемым жизнелюбием снискали ему всеобщие симпатии приближенных Дингуна. С тех пор как в залах царского дворца стала ежедневно появляться грузная фигура почтенного Куна, казалось, вся жизнь двора наполнилась каким-то новым, возвышенным смыслом. Одно только присутствие этого молчаливого великана с такой странной и даже, пожалуй, уродливой внешностью производило на окружающих неизгладимое впечатление. Глядя на безупречно-выверенные и все же очень естественные и одухотворенные жесты нового судьи, на его лицо, светившееся неподдельным вдохновением даже в томительные часы однообразных аудиенций, одним словом – созерцая всю эту отточенную пластику чувства, которую являли и жесты и мимика Кун Цю, даже самые именитые советники невольно внутренне подтягивались и не позволяли себе ни малейшей небрежности в поведении и речах. На дружеских пирах Конфуций, и без того всегда изысканно вежливый, был особенно почтителен к слепым музыкантам. Каждый раз при появлении музыканта он вставал, шел к нему навстречу и провожал на отведенное ему место, приговаривая по пути: «осторожно, здесь ступеньки», «сейчас нам направо» и т. д., а потом представлял ему всех присутствовавших в зале. Музыканты в те времена, как, наверное, всегда и везде, слыли в знатном обществе людьми второго сорта, и подобное отношение к ним солидного ученого и государственного мужа удивляло многих. «Неужели так нужно вести себя с музыкантами?» – спросил его как-то ученик. «Да, именно так и нужно держаться, принимая в своем доме знатока музыки», – ответил Учитель.
В обществе Конфуция как бы сами собой рассеивались низкие мысли и чувства. Во дворце вдруг заговорили о древних нравах, о ритуале и человечности, о пагубности легкомысленных развлечений… Иностранные гости дивились переменам при луском дворе и дружно называли Дин-гуна наследником славных деяний отцов Чжоу. От них только и слышно было: какие у лусцев строгие и приятные манеры! Какие изысканные, но скромные церемонии! Какая возвышенная, целомудренная музыка!.. Чужеземные послы с любопытством оглядывали чуть сутулого гиганта, подобно могучей скале возвышавшегося на аудиенциях в пестрой толпе придворных. Так это и есть тот самый Учитель Кун, надежда царства, который вознамерился возродить порядки, завещанные самим Чжоу-гуном? Молва о мудреце из Лу уже облетела все Срединные земли…
Но не только эрудицией и возвышенным обликом покорил Учитель Кун своих коллег при дворе. При своем не столь уж высоком чине – он был одним из низших дафу, или, другими словами, кем-то вроде «последнего среди первых» – Конфуций успел завоевать совершенно исключительный авторитет и в столице, и во всем царстве. Кто еще мог похвастать таким количеством талантливых и образованных учеников, да к тому же и беззаветно преданных учителю? В большинстве своем они были, несомненно, родом из влиятельных семейств, и их искреннее преклонение перед учителем не могло не влиять и на положение Конфуция при дворе. Похоже, что властители царства даже побаивались его и предпочитали держаться от него подальше. Во всяком случае, предание не сохранило ни одного разговора Конфуция ни с Дин-гуном, ни с Цзи Хуаньцзы – истинным владыкой луских земель. Зато в «Беседах и суждениях» записано несколько бесед Конфуция с Цзи Канцзы, сыном и наследником Цзи Хуаньцзы, которому предстояло через несколько лет сменить своего отца в роли «главной опоры» луского трона. Как легко догадаться, Цзи Канцзы расспрашивал Учителя Куна об искусстве мудрого правления, а тот отвечал, как сам учил других, – вежливо, но откровенно, даже если его откровенность могла задеть самолюбие спрашивающего. Впрочем, назидательный тон Конфуция в данном случае не покажется неуместным, ведь собеседник годился ему в сыновья. На традиционный вопрос Цзи Канцзы: «В чем секрет доброго правления?» – Учитель Кун ответил, опираясь на смысловое подобие двух слов, близость которых очевидна как в китайском, так и в русском языках: «Управлять – значит исправлять. Если вы сами явите образец исправления, кто посмеет не быть прямым?»
Цзи Канцзы почтительно внимал словам Учителя, не осмеливаясь вступать в спор. Ему хотелось поскорее понять секреты древних мудрецов. А еще он хотел взять себе в помощники кого-нибудь из Конфуциевых учеников и остановил свой выбор на Цзы-Лу – самом старшем и авторитетном в окружении Учителя, а главное, прославившемся своей кристальной честностью.
– Осмелюсь спросить вас, Учитель Кун, – однажды обратился Цзи Канцзы к Конфуцию. – Годится ли для несения службы ваш ученик Цзы-Лу?
– Он человек решительный, справиться со служебными обязанностями ему будет нетрудно, – ответил Конфуций.