Томминокеры Кинг Стивен
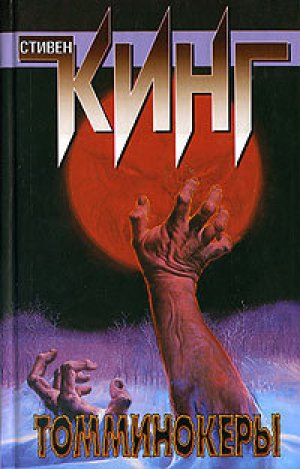
— Сюда понаедут ученые из ФБР или ЦРУ, и они с готовностью поверят в это. Они будут ходить вокруг да около с видом, как будто им врезали по яйцам, и спрашивать друг друга, какого черта они могли так долго упускать из виду такую элементарную концепцию. А знаешь, что будет потом?
Гарденер мучительно долго думал о том же, одной рукой сжимая банку пива, которую ему дала Бобби, а другой подперев голову. И неожиданно для себя очутился на том ужасном вечере, слушая Теда, произносящего речь в поддержку «Ирокеза», в котором и сейчас тлеют стержни. Но если мы дадим им то, чего они хотят, они вернутся через месяц или чуть позже и начнут скулить, что не могут пользоваться своими фенами, что их кухонные машины не работают, когда они хотят перемешать пучок вегетарианской пищи. Гарденер увидел, как он сам ведет Теда к буфету Трепла — и увидел до того ясно, как будто все происходило… о черт, происходит сейчас. На столе, между жареным картофелем и миской с сырым овощами лежало одно из новых хитроумных изобретений Бобби. Батарейки, соединенные вкруговую, присоединенные в свою очередь к обычному электрическому выключателю типа тех, что за доллар можно купить в любом магазинчике. Гарденер увидел себя поворачивающим выключатель, и вдруг все на столе — картофель, овощи, выпуск «Ленивой Сюзанны» с пятью способами очистки, остатки холодной вырезки, кости цыпленка, пепельницы, стаканы с выпивкой — поднялось на 6 дюймов над столом и зависло в воздухе; их тени чинно виднелись на холсте под ними. Тед минуту смотрел на это в диком удивлении. Затем он смахнул изобретение со стола. Провода порвались. Батарейки раскатились туда и сюда. Вся конструкция упала на стол с грохотом, стаканы расплескались, пепельницы перевернулись, и все посыпалось на стол. Тед снял спортивный пиджак и прикрыл остатки прибора, как будто то была тушка животного, раздавленного на дороге. Сделав это, он повернулся к своей небольшой внимающей аудитории и продолжил речь. Эти люди надеются, что им и дальше будут давать кусок хлеба с маслом и они будут кушать его все время. Эти люди допускают, что всегда будут существовать запасные позиции. Они ошибаются. Запасных путей нет. Очень просто: или АЭС или ничего. Гарденер почувствовал, как кричит вполне реально: А как насчет тех предметов, которые ты только что уронил? Как насчет этого? Тед наклонился и с грацией мага, выступающего перед ослепленной его блеском аудиторией, поднял пиджак. Пол под ним был чист за исключением двух маленьких ломтиков картофеля. Ни следа таинственного изобретения. Никакого следа вообще. Как насчет чего? — переспросил Тед, глядя прямо на Гарденера со смешанным выражением расположения и презрения. Он повернулся к присутствующим:
Кто-нибудь видел что-либо?… Нет — хором, как дети проговорили те: Трепл, Патриция Маккардл и прочие; даже молодой бармен и Рон Каммингс вторили им. Нет, мы ничего не видели, ничего вообще не видели, Тед, ни одной вещи, ты прав, Тед, АЭС или ничего. Тед улыбался. Теперь он будет нести отсебятину о маленькой таблеточке, которую можно положить в бензобак и ехать на машине целый день. Тед рассмеялся. И все присоединились к нему. Все смеялись над Джимом.
Гарденер поднял голову и посмотрел печальными глазами на Бобби Андерсон.
— Ты думаешь, они будут… что? Классифицировать все?
— А как ты сам думаешь? — после небольшой паузы мягко сказала Бобби:
— Гард?
— Да, — через довольно долгое время согласился Гарденер и вдруг почувствовал, что вот-вот разрыдается. — Да, верно. Они наверняка будут.
10
И теперь он сидел на заднем дворе на пне, не имея ни малейшего представления, что заряженный дробовик направлен ему прямо в затылок.
Он сидел и все думал о той вечеринке. Все привиделось настолько ужасно и очевидно, что, думалось ему, стоит простить то время, за которое он увидел и схватил суть. К этому кораблю в земле нельзя было относиться только с позиций обеспечения благополучия Бобби или даже Хэвена в целом. Невзирая на то, что он представлял собой и что он творил с Бобби или еще кем-либо, вступившим в определенный окружающий его район, окончательную судьбу корабля на земле нужно было определять исходя из приоритета благополучия земли. Гарденер присутствовал при работе дюжины комитетов, чьи цели ранжировались от вполне приемлемых до безумно-невероятных. Он выходил с протестом; прикладывал сил больше, чем мог, помогая оплачивать рекламу в газете по проведению неудачных кампаний о закрытии путем проведения референдума Мэн Янки; во времена студенчества он участвовал в маршах протеста против вовлечения США в войну во Вьетнаме; он был членом «Гринписа». И в полудюжине моментов, когда он как личность беспорядочно пытался думать о благополучии земли, его усилия, хоть и возникшие из индивидуальных размышлений, воплощались все же посредством коллектива.
Все зависит от тебя, старина Гард. Он вздохнул. Как будто всхлипнул. Звони во все колокола о необходимости перемен, белый мальчик… обязательно звони. Но сперва спроси себя: кто хочет изменить этот мир? Голодающие, неимущие, бездомные, ведь так? Родители детей из Африки с раздутыми животами и мертвым взглядом. Чернокожие Южной Африки. ООП. Окажет ли Тед реальную помощь этим переменам? Прикуси язык! Ни Тед, ни русское Политбюро, ни Кнессет, ни Президент США, ни Семь Сестер, ни Ксерокс, ни Барри Малиноу.
Нет-нет, только не те, кто стоит у руля, не те, кто имеет реальную силу и стоит у руля мировых событий. Их девиз «Не пугайте меня».
Было время, совсем недавно, когда он не колебался бы ни минуты. Бобби не стала бы искать никаких аргументов; Гард сам был бы тем всадником, пришпоривающим коня до изнеможения и смерти… только теперь он был также в упряжи, бок о бок. Здесь, в конце концов, был источник чистой энергии, огромной и легко доступной. Через полгода все реакторы США могли бы быть остановлены. А через год — все ядерные станции мира. Дешевая энергия. Дешевая транспортировка. Вполне возможными окажутся полеты на другие планеты и даже солнечные системы — ведь этот корабль Бобби прибыл сюда, в Хэвен, штат Мэн, не на старом добром Лоллипопе. Ведь в принципе это — МАЭСТРО. ИГРАЙТЕ ТУШ — было ответом на все вопросы.
А есть ли оружие на корабле, как ты думаешь?
Он намеревался спросить у Бобби об этом, но что-то заставило его прикрыть рот. Оружие? Быть может. Если Бобби получала достаточно от той остаточной «силы» и была способна телепатически печатать на машинке, могла ли она создать что-либо похожее на пушку Флэша Гордон, но который при этом будет действующим? Трактор-убийцу? Кое-что, что вместо совершения работы под привычное Брммммммммм или Вака-еака-вака превращало бы людей в кучку тлеющего пепла? Вполне вероятно. А если и нет, не приспособит ли один из гипотетических Боббиных ученых кое-что из ее изобретений (типа водонагревателя или переоборудованного «Томкэта») в то, что действительно принесет вред людям? Наверняка. В конце концов задолго до того, как мысль о тостерах, фенах и плинтусных обогревателях пришла кому-то в голову, штат Нью-Йорк с помощью электричества отправлял убийц в загробное царство.
Что настораживало Гарденера, так это то, что мысли об оружии обладали определенной привлекательностью. Частично, как предполагал он, это эгоизм. И если сверху спустят постановление надевать спортивный костюм перед обедом, он и Бобби разделятся во мнении, какую часть его нужно надевать. Но были и другие возможности. Одна из них, дикая, но не совсем отталкивающая, заключалась в том, что Бобби и он могли бы давать пинка тем ослам, которые этого заслуживали. Идейка о послании поздравительных песенок как Аятолла в Зоне Фантомов была так приятна, что Гарденер чуть было не захихикал. Зачем ждать, пока Израиль и арабы решат свои проблемы? И террористы всевозможного пошиба… прощайте, ребятишки.
Отлично, Гард! Мы покажем это по всему ТВ! Это похлеще Пророка из Майами! Вместо двух бесстрашных убийц-наркоманов мы покажем Гарда и Бобби, облетающих планету на летающей тарелке! Эй, кто-нибудь, дайте же мне телефон! Я звоню в Си-Би-Эс!
Не смешно, подумал Гарденер.
А кто смеется? Разве не об этом вы говорите? Ты и Бобби как герои «Одинокого всадника и Тонто»?
Ну и что, если так? Как много пройдет времени до того, как правильность выбора будет доказана? Сколько потребуется карманных бомб? Женщин, застреленных в туалетных комнатах посольств? Мертвых детей? Как долго мы дадим этому продолжаться?
Люби это, Гард. «О'кей, эй, вы все на планете Земля, ну-ка все хором вслед за Бобби и Гардом: «Ответ, друзья мои, витает в воздухе…»
Ты отвратителен.
А ты становишься очевидно опасным. Помнишь, как ты перепугался, когда полиция обнаружила пистолет у тебя в кармане? Как ты перепугался, потому что не помнил, как тот оказался у тебя? Ну вот опять. С одной разницей, что теперь речь идет о большем калибре. Боже милостивый, если ты когда-либо действительно существовал.
Когда Джим был помоложе, подобные мысли никогда бы не пришли ему в голову… а если бы и пришли, он отбросил бы их в сторону. По-видимому, так уже поступила Бобби. В конце концов именно она упомянула всадника на лошади.
Что ты имеешь в виду под всадником на лошади?
Я говорю о нас, Гард. Но кажется… кажется это в большей степени относится к тебе.
Бобби, когда мне было 25, я весь горел все время. В 30 я горел иногда. Но, похоже, кислород вот здесь внутри на исходе, потому что теперь я вспыхиваю, лишь когда пьян. И я очень боюсь залезать на спину этой лошади. И если история чему меня и научила, то это тому, что лошади имеют склонность нести.
Он заерзал на пне, и дробовик переместился вслед за ним. Андерсон сидела на табурете на кухне, слегка поворачивая ствол оружия в соответствии с каждым его движением. Она поняла немногое из его мыслей; это срывало все планы и было ненормальным. Но она поняла достаточно, чтобы сделать вывод, что Гард вплотную приблизился к моменту принятия решения… а когда он примет его, женщина думала, что сумеет узнать, что же именно он решил.
Если он примет неверное решение, она прострелит ему голову и закопает тело в мягкой земле на задворках сада. Это будет тяжело, но если так будет нужно, она сделает.
Андерсон спокойно ждала этого момента, пытаясь уследить за жалкой путаницей его мыслей.
Ждать осталось уже недолго.
11
Что в действительности пугает, так это в первый раз в своей несчастной запутанной жизни рассматривать вопрос с позиции силы.
Он выпрямился с выражением страха на лице. Он притворялся, не так ли? Совершенно верно.
Но ты притворяешься. Гард. Ты даже болел за бейсбольные команды, которые были заведомыми аутсайдерами. Также как ты никогда не волновался, что окажешься в депрессии, если одна из них ворвется в Мировую Серию. То же самое происходило с кандидатами и партиями, которых ты поддерживал, не правда ли? Потому что если политик не испытает судьбу, тебе не придется пережить разочарование, что новые лица ничем не отличаются от старых.
Я не боюсь. Ни капли.
Еб твою мать, как бы не так. Всадник? Ты? Парнишка, что за шутки. Да у тебя случится сердечный приступ, если кто-то попросит тебя принять участие в троеборье. Твоя собственная персональная жизнь была ничем иным, как постоянным усилием уничтожить любую энергетическую базу, какая у тебя есть. К примеру, женитьба. Нора была упрямой, и тебе пришлось пристрелить ее, дабы избавиться, но когда деньги закончились, ты даже не цеплялся за это, ведь так? Ты человек, способный расправлять крылья при любой возможности, и я предоставлю ее тебе. Ты сжег себя на преподавательской работе, уничтожив таким образом иную энергетическую основу. Двенадцать лет ты заливал спиртным тот маленький огонек таланта, что Господь Бог дал тебе. Теперь так. Лучше беги. Гард.
Но так нечестно!
Ой ли? Разве здесь недостаточно правды, чтоб сделать выводы?
Может, да. Может, нет. Как бы там ни было, Джим понял, что решение уже принято. По крайней мере, ненадолго он останется с Бобби, делающей свое дело.
Счастливая уверенность Бобби, что все прекрасно, не соответствовала ее истощенности и потере веса. И то, что корабль из леса сотворил с Бобби, он может сделать и с ним. Что случилось — или не случилось — сегодня, ничего не доказывает; он не мог ожидать, что изменения в нем самом произойдут за один день. Хотя корабль и сила, исходящая от него, могут творить и добро. Это было главным и… пошли вы на хер, Томминокеры.
Гарденер поднялся и направился к дому. Солнце село, и сгущались сумерки. Спина закостенела. Он разогнулся, потянулся и непроизвольно скривился, когда в позвоночнике что-то хрустнуло. Джим посмотрел на темный «Томкэт» и на дверь сарайчика с новым замком. Он подумал, не подойти ли и не заглянуть в одно из темных запыленных окон… и решил, что не стоит. Быть может, он боялся, что бескровное лицо с ухмылкой, обнажающей остроконечные зубы каннибала, появится за окном. Привет, Джим, ты хотел поглядеть на настоящего Томминокера? Заходи! Нас здесь много!
Гарденер вздрогнул — он почти что слышал звук от скребущих по жестянке тонких злых пальцев. Вчера и сегодня случилось слишком многое. Его фантазия истощена. Он не знал, можно ли надеяться на сон или хотя бы на отключку сегодня ночью.
12
Как только Гард вошел в дом, его тревога стала ослабевать. С этим пришла жажда выпить. Он скинул рубашку и зашел в комнату Бобби. Женщина лежала в той же позе, сбитое одеяло зажато между ужасно худыми ногами, руки выброшена вперед; она похрапывала.
Даже не пошевелилась! Боже, она, должно быть, устала.
Он долго стоял под душем, доводя воду до как можно более горячей (с новым нагревателем Бобби это означало едва повернуть рукоятку влево от «холода»). Когда кожа его покраснела, он вышел из такого же туманного и влажного воздуха в ванной комнате, какой был в туманном Лондоне в поздневикторианскую эпоху. Он вытерся полотенцем, почистил зубы пальцем — следует привезти сюда личные принадлежности, пронеслось в голове — и отправился спать.
Двигаясь в сторону кровати, он поймал себя на размышлениях о последних словах Бобби. Она верила, что корабль стал оказывать действие и на горожан. Когда Джим спросил, в чем это выражается, она стала рассеянной, а потом сменила тему. Гарденер предполагал, что в этом чертовом деле всякое возможно. Несмотря на то, что местечко Фрэнка Гаррика располагалось в глубинке, она приходилось на географический центр городка. У них была деревенька Хэвен, но в пяти милях севернее.
— Ты так говоришь, как будто эта штука в земле источает ядовитый газ, проговорил он, надеясь, что со стороны выглядит не столь встревоженным, как было на самом деле. — Паракват из космоса. Они прибыли от агента Оранж.
— Ядовитый газ? — повторила Бобби. Она вновь ушла в себя. Ее лицо, такое исхудавшее, стало замкнутым и отдаленным. — Нет, не газ. Если хочешь это как-то назвать, называй испарениями. Но когда касаешься поверхности, это не только вибрация.
Гарденер промолчал, не желая портить ей настроение.
— Испарения? Даже не так. Но очень похоже. Если сюда приедут специалисты с приборами, они не обнаружат никаких вредных веществ. И если здесь и есть физически улавливаемый и реальный остаток, то это лишь слабейший след.
— Тебе кажется, что такое возможно, Бобби? — спокойно спросил Гарденер.
— Да. Я не говорю, что происходит именно это, потому что я не знаю точно. У меня нет информации изнутри. Но мне кажется, что очень тонкий слой поверхности корабля — тончайший, толщиной не более пары молекул — все интенсивнее окисляется с тех пор, как я стала откапывать корабль из-под земли и воздух стал разрушать его. Это значит, что я получила самую сильную дозу… а затем все стало разноситься с воздухом, как радиоактивные осадки. Над городом оседает большое их количество, но в данном случае это означает «чертовски мало».
Бобби пошевелилась в кресле и уронила правую руку. Тот же жест Гарденер видел сотни раз прежде, и сердце готово было вырваться у него из груди, когда он заметил выражение горького сожаления на лице женщины. Она положила руку обратно на колено.
— Но, знаешь ли, я не уверена, что на этом все закончится. Есть такой роман Питера Страуба «Парящий Дракон», ты читал его? Гарденер покачал головой.
Ну, в нем говорится о чем-то похожем на твоих Агента Оранж и Паракват.
Гарденер улыбнулся.
— В романе происходит утечка экспериментального химиката в атмосферу; потом он выпал над частью сверхурбанизированного Коннектикута. Осадок действительно был отравляющим — что-то вроде сводящего с ума газа. Люди без причины вступали в драки, некоторые решали разрисовать дома — включая и окна в ярко-розовый цвет, одна женщина прыгала, пока не умерла от коронарной недостаточности, и тому подобное.
Есть другой роман — этот называется «Мозговая волна» и написал его… Андерсон нахмурилась, пытаясь вспомнить. Ее рука незаметно упала с подлокотника кресла опять, затем вернулась на место. — Мой однофамилец. Андерсон. Пол Андерсон. В ней Земля проходит через хвост кометы, и какие-то содержащиеся в ней компоненты делают животных умнее. Книга начинается с воспоминаний кролика, описывающего как он освободился из западни.
— Уже приятнее, — вторил ей Джим.
— Верно. Если твой ИК до прохождения кометы был 120, то после он поднимется до 180. Понял?
— Умные во всех отношениях интеллигенты?
— Да.
— Но вначале ты обозвала их учеными идиотами. И это прямо противоположно тому, что ты сейчас говоришь, не так ли? Это как… способность.
Андерсон отмела его рассуждения.
— Неважно.
И сейчас, лежа в кровати и погружаясь в сон, Гарденер желал это знать.
13
Ночью ему приснился сон. Довольно простой. Он стоял в темноте у сарая между домом и садом. Слева вырисовывался «Томкэт». Он думал о том же, что и сегодня вечером, — что он подойдет и заглянет в окно. И что же там увидит? Конечно же, Томминокеров. Но он не испугался. Вместо страха он чувствовал приятную умиротворяющую радость. Потому что Томминокеры не были монстрами или людоедами; они были похожи на эльфов из старой сказки о добром башмачнике. Джим заглянет в грязное окошко, как восторженный малыш глядит из окна спальни на картинке из «Ночи перед рождеством» (а кем был старый добрый Санта-Клаус, как не большим добрым Томминокером в красной шубе?), и увидит их, сидящих за столом, смеющихся и болтающих, собирающих всем скопом силовой генератор и левитирующие скейтборды и телевизоры, показывающие вместо обычных программ кино для интеллектуалов.
Он направился к сарайчику, и неожиданно тот осветился тем же ослепительно ярким светом, что исходил от переделанной пишущей машинки Бобби — как будто сарайчик превратился в сверхъестественный хэллоуиновский фонарь, только свет этот был не теплым и желтым, а ужасным, пронзительно зеленым. Он изливался между досками; он проходил через щели и падал на землю лучами цвета злых кошачьих глаз, он переполнял и окна. И теперь Джим испугался, потому что ни одно дружественное маленькое создание из космоса не может сделать такой свет; если бы у смертельной болезни — рака — был цвет, он был бы похож именно на этот свет, изливающийся из каждой дырочки, щелочки и трещинки и бьющий из окна сарая Бобби Андерсон.
Но тем не менее он продвинулся еще ближе к сараю, потому что во сне вы не всегда можете помочь себе. Он подвинулся ближе, более не желая ничего видеть, как и ребенок не хочет выглядывать из окошка в канун Рождества и видеть Санта-Клауса, съезжающего по заледенелой крыше дома с несколькими отрезанными головами, из обрубков шей которых хлещет кровь, замерзая на морозе.
Пожалуйста, нет, пожалуйста, нет…
Но он подошел еще ближе, и с приближением к этой зеленой мгле оглушающая музыка заполнила его голову парализующим и подчиняющим волю потоком. Музыка Джорджа Торогуда и «Дестройерз», и Джим понял, что когда тот начнет свое соло на гитаре, его череп сначала задрожит, а затем просто лопнет подобно стакану с водой, как в тот раз, о чем он однажды рассказывал Бобби.
Ничего из ожидаемого не произошло. Страх испарился, все было кончено — он больше не боялся Томминокеров в сарайчике. Гард осязал их, мог чуть ли не почувствовать их дух, насыщенный и тяжелый, как у озона или крови.
И… зловещий звук чмокающий жидкости. Его Джим расслышал даже сквозь грохот музыки в ушах. Как старая посудомоечная машина, только это был не звук воды. Он был не правильным, не правильным, не правильным.
Когда Гарденер поднялся на цыпочки, чтобы заглянуть в окошко, с лицом таким же зеленым, как и тело, вынутое из зыбучих песков, Джордж Торогуд заиграл наконец соло, и Гарденер закричал от боли. В это время голова его разлетелась на кусочки, и он проснулся, сидя прямо на старенькой двуспальной кровати в комнате для гостей, весь в холодном поту и с трясущимися руками.
Он снова лег, повторяя: Боже! Если тебе хочется кошмаров, ознакомься с этим. Не стесняйся.
Джим ожидал, что вслед за первым последуют новые кошмары; он лег с твердой уверенностью в этом. Но снов ему больше не снилось.
В ту ночь.
На следующее утро он присоединился к раскопкам Бобби.
КНИГА ВТОРАЯ
ИСТОРИИ ХЕЙВЕНА
А террорист бомбит!
А президент убит!
Безопасность молчит!
Контрразведка горит!
А все пьяны в стельку,
Все измотаны,
Окаменели,
И не предвидится перемен,
Ведь все пьяны в стельку,
Все измотаны,
Все надрались на работе.
The Rainmakers — «Выпивая на работе»
Потом он бежал всю дорогу до города, крича.
«Это сошло с неба!»
Creedence Clearwater Revival — «Это сошло с неба»
Глава 1
Город
1
Прежде чем стать Хэвеном, город четырежды менял названия.
Первое свое имя. Имение Монтвилл, он получил в 1816 году от своего основателя и первоначального владельца Хью Крейга. Крейг выкупил права на эту землю у федерации Массачусетса, частью которого тогда был Мэн. В прошлом Крейг участвовал в войне за независимость в чине лейтенанта.
Название Имение Монтвилл было насмешкой. Отец Крейга ни разу в своей жизни не был восточное Дувра и остался истинным тори даже после развала Империи. Жизнь свою он закончил пэром Королевства, Двенадцатым графом Монтвилл. Тем самым Хью, на правах старшего сына, должен был унаследовать звание Тринадцатого графа Монтвилл. Однако взбешенный отец лишил его наследства. Ни мало не смущенный таким пренебрежением, Хью бодро присвоил себе звание Первого Графа Центрального Мэна, или же Герцога Абсолютной Пустоты.
Земля, которую Крейг называл Имение Монтвилл, занимала двадцать две тысячи акров. После удовлетворения просьбы Крейга о присоединении к Конференции, Имение Монтвилл стало сто девяносто третьим городом провинции Мэн, штат Массачусетс. Купить эту землю побудили Крейга две причины: дивный строительный лес и близость Дерри, откуда этот лес можно было сплавлять вниз по течению хоть до самого моря.
Дорога ли была земля, которая окончательно будет называться Хэвеном?
Хью Крейгу она обошлась в восемнадцать сотен фунтов. Хотя сам фунт тогда, конечно, стоил гораздо дороже.
2
Хью Крейг умер в 1826-м, и к этому времени уже сто три человека жили в Имении Монтвилл. Впрочем, на шесть или семь месяцев в году население удваивалось за счет лесорубов, но их никто не учитывал: всякую заработанную мелочь они забирали в Дерри, где обычно и обосновывались, когда чувствовали, что слишком стары для лесоповала. В то время возраст «слишком старый для лесоповала» составлял лет двадцать пять.
Как бы там ни было, начиная с 1826 года поселение города, который в конце концов стал называться Хэвен, начало разрастаться вдоль грязной дороги, ведущей на север к Дерри и Бангору. И как бы ее ни называли (в конце концов она стала девятым шоссе для всех, кроме самых древних старожилов вроде Дейва Ратледжа), эта дорога была единственной, по которой в конце месяца лесорубы направлялись в Дерри, чтобы попить и потратить на девиц свой заработок. Основные развлечения поджидали их в городе, но и по пути большинство было не прочь прочистить горло от дорожной пыли одной-двумя кружками пива в Кудерз или Лондин-Хаусе. Доход от этого был небольшой, но все же достаточный, чтобы сделать место привлекательным для малого бизнеса. Лавка на обочине дороги (ее управляющим стал племянник Хирама Кудера) была хоть и менее успешным, но довольно доходным предприятием. Вслед за лавкой в 1828 году открылись парикмахерская и аптека (под началом кузины Хирама Кудера). В то время никто бы не удивился, если бы, проходя мимо этого оживленного предприятия, увидел лесоруба, развалившегося на одном из трех стульев, с подстриженной головой, с зашитым порезом на руке, с парой больших пиявок над каждым из закрытых глаз; пиявок, изменяющих свой цвет от серого до красного по мере насыщения и, как тогда считалось, защищающих от инфекции, которая могла попасть в рану, а заодно излечивающих болезнь с кратким названием «больная голова». В 1830-м в южном конце деревни открылся продуктовый магазин и гостиница (под началом Джорджа, брата Хирама Кудера).
В 1831-м Имение Монтвилл превратилось в Кудерзвилл.
Никто этому особенно не удивился.
Название Кудерзвилл просуществовало до 1864 года, когда город стал называться Монтгомери, в честь Эллиаса Монтгомери, местного парня, погибшего в Геттисберге, и, как говорили, сыгравшего какую-то роль в сохранении Конфедерации. Идея переименования пришлась по душе. Ведь старый сумасшедший англичанин Кудер, давший предыдущее имя городку, обанкротился и покончил с собой еще два года назад.
Новая мания, необъяснимая как и большинство маний, охватила страну сразу после гражданской войны. Это не было всеобщее поклонение кринолину или отращивание бачков; это была мания переименования маленьких городов классическими названиями. Как следствие, появились Спарта, Мэн, Карфаген, Афины; и, конечно, на очереди была Троя. В 1878 году жители города проголосовали за новое название: на этот раз Монтгомери стал именоваться Илионом. Это заставило мать Эллиаса Монтгомери произнести полную слез тираду на городском митинге. Честно говоря, речь была сильно старческой, а не зазывной и звенящей, но что поделать, мать героя состарилась — ей исполнилось 75, если быть точным. Городская легенда говорит, что горожане слушали терпеливо, немного виновато и могли бы и отречься от своего решения (Миссис Монтгомери была, конечно, права, думали некоторые, когда говорила, что четырнадцать лет назад ее сыну было обещано ни много ни мало, а «вечная память», обещано на церемонии переименования 14 июля 1864 года), если бы мочевой пузырь дамы не заставил ее уйти в самый ответственный момент. Пока ее выводили из зала ратуши, старая женщина не переставая говорила пышные фразы о неблагодарных обывателях, которые еще пожалеют об этом дне.
Таким образом Монтгомери превратился в Илион.
Прошло двадцать два года.
3
Пришел проповедник возрождения, говоривший очень быстро, который по неясным причинам пропустил Дерри, а взамен выбрал Илион, и там и обосновался. Пришел он под именем Кольсон, но Метли Даплеси, считающий себя историком Хэвена, окончательно установил, что настоящее имя Кольсона Кудер и он не кто иной, как внебрачный сын англичанина Кудера.
Кто бы он ни был, он довольно быстро завоевал сердца христиан в городе в согласии с собственной жизненной гипотезой: вера нужна ко времени, когда зерно созрело и готово к сбору. Это повергло в отчаянье мистера Хартли, главу Методистов Илиона и Трои, и мистера Кровелла, который наблюдал за духовным благосостоянием Баптистов Илиона, Трои, Этны и Союза (в те дни шутили, что дом священника Кровелла принадлежит городу Трое, а его мусорные кучи принадлежат Богу). Тем не менее их увещевания были подобны зову в дремучем лесу. Община проповедника Кольсона продолжала расти, и рост этот достиг максимума летом тысяча девятисотого года. Сказать, что в этом году урожай был небывалый значит ничего не сказать. Истощенная земля севера Новой Англии, обычно скупая как Шейлок, принялась изливать свою силу с такой щедростью, что конца этому, казалось, не будет. Мистер Кровелл, баптист, чьи мусорные кучи принадлежали Богу, впал в такую депрессию, что уже не сумел из нее выйти и повесился в чулане собственного дома в Трое три года спустя.
Мистер Хартли, глава Методистов, испытывал нарастающую тревогу из-за того, что евангелистский пыл распространялся в Илионе подобно эпидемии холеры. Причиной этого, быть может, было то, что Методисты, если ничего необычного не происходило, были самая скромная паства Божья; слушают они не проповеди, а «мессы», молятся в тишине и собираются вместе лишь в нескольких случаях когда говорят «Аминь» по окончании молитвы Господней и когда слушают свои гимны, хотя хором их и не поют. Однако теперь эти тихие люди отошли от своих принципов: делали они все, что угодно, начиная с громких разговоров и заканчивая ритуальными обращениями. За этим, как иногда говорил мистер Хартли, последуют обряды со змеями. А тем временем сходы, которые проходили по вторникам, пятницам и воскресеньям в шатре проповедника на Дерри Роад, становились все шумней и разнузданней, едва не приводя к эмоциональному взрыву. «Если бы все это происходило под карнавальным шатром, все кричали бы об истерии, — как-то сказал мистер Хартли своему единственному другу Фреду Пэрри, местному пастору, когда они коротали вечер за рюмкой шерри. — Но ни у кого язык не повернется обозвать так сходы в шатре проповедника, поэтому вышли из положения и называют это святым огнем Прощенного Дня».
С течением времени подозрения мистера Хартли о Кольсоне сполна подтвердились, но прежде исчез сам проповедник, собрав неплохой урожай звонкой монеты и женского внимания. А еще чуть раньше он выкинул свою последнюю шутку с городом: переименовал его, на этот раз окончательно.
Той теплой августовской ночью проповедь свою Кольсон начал с того, что назвал такой урожай символом божьего покровительства, а затем отошел от абстракций и заговорил о городе. К этому моменту он уже снял свой сюртук. Его волосы, влажные от пота, ниспадали на глаза. Сестры начали подтягиваться поближе к алтарю, тем более что за проповедью обычно следовали громкие молитвы и святое обращение.
— Я считаю этот город посвященным, — говорил толпе Кольсон, стиснув большими руками края кафедры Посвященным проповедник мог считать его лишь за то, что город удостоился чести принять на своей земле шатер Кольсона. — Я считаю этот город Хэвеном. Да! Эти места напоминают мне мой дом — Небо; ведь этот город мало отличается от тех полян, на которых жили Адам и Ева, прежде чем вкусили запретный плод. Освящаю! — ревел проповедник Кольсон. И даже по прошествии нескольких лет находились люди из общины, которые с восхищением вспоминали о способностях этого человека, хоть и можно считать его негодяем, так зажигательно говорить о Христе.
— Аминь! — ответный крик общины. Ночь была теплой, но не это заставило покраснеть столь много женских лиц: такие проявления чувств стали уже обычными с тех пор, как проповедник Кольсон появился в городе.
— Этот город готов славить Господа!
— Аллилуйя! — все признаки ликования общины были налицо: тяжелое дыхание, сверкающие глаза, языки, нервно облизывающие губы.
— Город получил предзнаменование! — выкрикивал Кольсон, отступив чуть назад, усилив для лучшего впечатления голос и откидывая со лба прядь черных волос широким движением головы, открывающим взорам шнурок на шее. — Город получил предзнаменование — небывалый урожай, и это предзнаменование должно к чему-нибудь привести!
— Слава Иисусу!
Кольсон снова взошел на кафедру, стиснул ее руками и обвел всех строгим взглядом. «Так как же можно, чтобы освященный Божьим урожаем и Божьими небесами город назывался именем каких-то развалин, — вот что мне непонятно, собратья. По-моему, дьявол славно поработал с предыдущим поколением, вот что мне кажется».
И уже на следующий день начались разговоры о переименовании Илкена в Хэвен. Преподобный Кровелл протестовал против этого довольно равнодушно, преподобный же Хартли более решительно. Официальные лица заняли нейтральную позицию; их взволновало лишь то, что это будет стоить городу 20 долларов, которые пойдут на замену бумаг Конфедерации, и, быть может, еще 20 на замену знаков на городских дорогах. Не говоря еще о переделке всех городских документов.
Задолго до памятного мартовского собрания, на котором была обсуждена и принята статья 14: «Одобрить изменение названия города 193 штата Мэн с Илиона на Поднебесный», проповедник Кольсон потихонечку свернул свой шатер и растворился в ночи. Это произошло в ночь на 7 сентября, которую Кольсон заранее именовал Самой Урожайной для Паствы Возрождения в 1900 году. Он готовился к этой ночи по крайней мере месяц, называл ее самым важным сбором в году и, быть может, самым важным сбором из всех, которые он когда-либо устраивал, говорил, что, быть может, поселится здесь, к чему его все время призывает Бог — сердца многих женщин забились чаще при последнем известии. Это будет жертвой любви, любви к Богу, который ниспослал на город такое замечательное лето и богатейший урожай.
Впрочем, Кольсон не забыл и о сборе своего урожая. Начал он с предложения увеличить «пожертвования любви», раз уж он остается, а закончил тем, что «вспахал и удобрил» не две, не четыре, а целых шесть молодых девушек на поле позади шатра после окончания сбора.
— Уж мужчины-то любят похвалить свои достоинства, но большинство предпочитают не доставать свои орудия из штанов, а хвалить их, разглагольствовал как-то старый Дюк Баррел у парикмахерской. Если бы кому пришло устроить в городе конкурс на звание мистер Вонючка, то Дюк бы безоговорочно победил. От него несло, как от разбитого яйца, которое месяц провалялось в грязной луже. Все, конечно, общались с ним, но на расстоянии, и старались стать, по возможности, против ветра. — Я слыхал о людях с двустволкой в штанах, по-моему, это нормально; однажды слышал о парне гораздом сразу до трех; но уж развратник Кольсон, по моему разумению, единственный, чьи штаны скрывают аж шесть стволов.
Трое из покоренных проповедником Кольсоном были девственницами до того, как их настиг хищный клюв почитателя Троицы.
И если не возникало сомнений в том, что та летняя ночь была для проповедника щедрой, то местные сплетники расходились в оценке щедрости денежной части. Все соглашались, однако, что за время подготовки к празднику, то есть где-то до десяти часов, за евангелистские песнопения до полуночи и за время оргии в поле до половины второго паства излила на своего кумира немало материальных благ. Некоторые еще отмечали, что вряд ли проповеднику жизнь в городе стоила хоть сколько-нибудь. Ведь женщины боролись за привилегию кормить его, владелец гостиницы разрешил жить в своем клоповнике в кредит… и уж, конечно, ночные оргии не стоили ему ни цента.
Утром 8 сентября шатер и проповедник исчезли. Он собрал славный урожай… хотя, впрочем, кое-что и посеял. Между 1 января и городским митингом в марте 1901 года в округе родилось 9 внебрачных детей: три девочки и шесть мальчиков. Все девять обнаружили немалое сходство между собой: у шестерых глаза были небесно-голубыми, и все они родились с черными волосиками. Местные сплетники (а никто на свете не сумел бы так органично сочетать логику с похотью, как эти бездельники, развалившиеся в плетеных стульях, крутящие самокрутки либо посылающие коричневые плевки табачной жвачки точно в маленькую плевательницу) не преминули отметить, что трудно сказать, сколько молодых девиц отправились навестить родственников вниз по течению в Нью-Хэмпшир или еще ниже, в Массачусетс. Стоит заметить, что и замужние женщины рожали между январем и мартом. Конечно трудно было что-либо с уверенностью сказать об этом. Но местные сплетники-то помнили, что произошло 29 марта, когда Дэт Кларендон родила здорового малыша, весившего восемь фунтов. Непогода в тот день вовсю разыгралась, она шумела и стучала снегом с дождем по карнизам дома Кларендонов, и это был последний снег весны. Кора Симард, акушерка, принимавшая младенца, дремала у кухонной печи: она ждала своего мужа, который вот-вот должен был появиться из метели и отвезти ее домой. Кора видела, как Пол Кларендон подошел к кроватке ребенка — с другой стороны печи, в самом теплом углу — и, остановившись, рассматривал нового сына более часа. Она ошиблась, когда посчитала взгляд Пола Кларендона полным любви и нежности. Глаза ее закрылись сами собой. Проснувшись, она увидела Кларендона на прежнем месте, но с опасной бритвой в руке. Он приподнял малютку за черные волосы и, прежде чем крик сорвался с ее губ, перерезал ему горло. Вышел из комнаты Кларендон без единого звука. Через малое время из спальни раздались булькающие звуки. Когда испуганный Ирвин Симард нашел-таки мужество зайти в спальню Кларендонов, он увидел мужа и жену на кровати, держащихся за руки. Кларендон перерезал горло жене, лег рядом, взял своей левой рукой ее правую руку и рассек собственное горло. Это случилось через два дня после общего одобрения изменения названия города.
4
Преподобный мистер Хартли стоял насмерть против присвоения городу имени, которое было предложено вором, блудником, лжепророком, и, с какой стороны ни посмотри, просто змеей, пригретой на груди. Его речь с кафедры была встречена благожелательными кивками паствы, которые Хартли замечал с каким-то мстительным удовольствием, что вовсе не было прежде ему свойственно. Он пришел на митинг 27 марта, уверенный, что статья 14 будет безусловно провалена. Быть может, поэтому его не задела та краткость обсуждения между чтением городского клерка и лаконичным вопросом главы депутатов Лютера Рувелла: «Ваше мнение, люди?» Если бы у него было хоть немного догадливости, Хартли говорил бы неистово, пожалуй, даже ожесточенно как никогда в своей жизни. Но догадливостью он никогда не отличался.
— Кто за изменение названия навсегда, — спросил Лютер Рувелл, и это не громкое, но твердое «навсегда!» как обухом по голове оглушило Хартли. Так чувствует себя человек после удара под дых. Он дико осмотрелся вокруг, но было уже слишком поздно. Сила этого «навсегда!» настолько удивила, что он даже не смог сообразить, сколько человек из его общины последуют за ним и проголосуют против.
— Подождите, — просипел он, но его сдавленный голос никто не услышал.
— Кто против?
Разрозненные крики: «Никого!» Хартли попытался вскрикнуть, но из его горла вырвался лишь бессмысленный звук «Нак!»
— Продолжаем, — сказал Лютер Рувелл. — Теперь статья 15.
По телу мистера Хартли прошла теплая волна — чересчур теплая. Он почувствовал, что падает в обморок. Хартли стал проталкиваться сквозь плотные ряды мужчин в черно-красных рубахах и грязных штанах, сквозь тучи дыма от маисовых трубок и дешевых сигар. Он все еще находился на грани обморока, но теперь к этому прибавилась еще и невыносимая тошнота. Даже недели оказалось мало, чтобы Хартли осознал всю глубину своего шока, столь велик был его ужас. Даже через год он не вполне отдавал себе отчет в собственных эмоциях.
Он стоял на самой высокой городской точке, набрав полную грудь холодного воздуха, стиснутый объятиями смерти, и видел вокруг себя поля с тающим снегом. Местами его было уже слишком мало, чтобы скрыть проталины, и Хартли с непривычной для себя грубостью подумал, что это похоже на пятна дерьма на заду ночной рубашки. И тогда, в первый и единственный раз, он позавидовал Брэдли Кольсону — или Кудеру, коль это его настоящее имя. Кольсон сбежал из Илиона, о, простите, из Хэвена. Он сбежал, и сейчас Дональд Хартли обнаружил, что ему хочется того же. Ну почему они это сделали? Почему? Они же знали, кто он такой, знали! Так почему же они…
Сильная и теплая рука легла на его плечо. Рядом оказался его лучший друг Фред Пэрри. Лицо Фреда, такое домашнее и продолговатое, выглядело безнадежно огорченным, и Хартли неожиданно почувствовал невольную улыбку на своем лице.
— С тобой все в порядке? — спросил Фред Пэрри.
— Да. Был момент, когда я почувствовал себя легкомысленным: на голосовании. Я не ожидал, что все так обернется.
— Я тоже, — произнес Фред.
— И частью этого была моя паства, — сказал Хартли. — Или должна была стать. Все было так тихо, что они не могли не присоединиться, тебе не кажется?
— Ну…
Преподобный мистер Хартли слегка улыбнулся:
— К сожалению, я не такой знаток человеческой природы, каким себя считал.
— Пойдем обратно, Дон. Там сейчас решают, мостить или не мостить Ридж Роуд.
— Я еще постою здесь, — сказал Хартли, — и подумаю о человеческой природе.
Он перевел дыхание, и когда Пэрри уже повернулся, чтобы уйти, спросил, почти воззвал:
— Ты понимаешь, Фред? Ты понимаешь, почему они сделали это? Ты ведь на десять лет старше меня. Ты понимаешь?
И Фред Пэрри, который и сам вскрикнул «навсегда!» хоть и не среди первых, покачал головой как бы говоря нет, не понимает он всего этого. Он любил преподобного Хартли. Он уважал преподобного Хартли. Но, несмотря на это (а может быть, как раз из-за этого), он находил непонятное злое наслаждение, провозглашая название, предложенное Кольсоном: лжепророком, обманщиком, вором и подонком.
Нет, Фред Пэрри не понимал до конца человеческую природу.
Глава 2
Бекка Полсон
1
Ребекка Баучерд Полсон была замужем за Джо Полсоном, одним из двух хэвенских почтальонов, представлявшим собой третью часть почтового персонала Хэвена. Джо обманывал свою жену, о чем Бобби Андерсон уже знала. Теперь об этом знала и Бекка Полсон. Она узнала это в последние три дня. Ей сказал Иисус. В последние три дня или около того Иисус поведал ей самые ошеломляющие, ужасные, огорчительные вещи, какие только можно вообразить. Они вызвали у нее отвращение, они лишили ее сна, они разрушали ее психику… но не были ли они к тому же чем-то прекрасным? Упаси Боже! И почему бы ей не прекратить слушать, может быть, даже перевернуть Иисуса лицом вниз или крикнуть Ему, чтобы помолчал? Вовсе нет. С одной стороны, знать то, о чем ей сообщил Иисус, было страшным принуждением. С другой стороны, Он был Спаситель.
Иисус стоял на полсоновском телевизоре «Сони». Он стоял там уже шесть лет. До этого он отдыхал поверх двух «Зенитов». По подсчетам Бекки, Иисус стоял на этом месте лет шестнадцать. Это было довольно жизненное трехмерное изображение Иисуса. Эту картину старшая сестра Бекки, Коринка, жившая в Портсмуте, преподнесла им в качестве свадебного подарка. Когда Джо заметил, что сестра Бекки, пожалуй, слегка в стесненных обстоятельствах, Бекка посоветовала ему помолчать. Не то чтобы она была ужасно удивлена; нельзя ожидать от людей вроде Джо понимания, что этикетку с ценой не наклеивают на истинно Прекрасное.
На картине Иисус был одет в простую белую робу и держал пастуший посох. Христос на Беккином телевизоре был изображен с развевающимися волосами, как Элвис после возвращения из армии. Да, он выглядел вполне похожим на Элвиса. Его глаза были карими и мягкими. За ним в безупречной перспективе овечка, белая, как полотно в рекламе мыла по телевизору, держала путь за горизонт. Бекка и Коринна выросли на овечьей ферме в Новом Глостере, и Бекка по собственному опыту знала, что овцы никогда не бывают такими белыми и равномерно шерстистыми, как упавшее на землю облачко в ясный день. Но, рассуждала она, если Иисус мог обратить воду в вино и мертвое в живое, в общем-то нет причин, по которым Он не мог ликвидировать дерьмо, гроздьями засохшее вокруг ягнячьих хвостиков, если Он этого хотел.
Пару раз Джо пытался убрать картину с телевизора, и она подозревала, что теперь знает почему! Ничего себе! У Джо, конечно, было свои козыри.
— Пожалуй, не правильно, что Иисус стоит на телевизоре, когда мы смотрим «Магнум» или «Полиция Майами», — говорил он. — Почему бы и не поставить его на твое бюро, Бекка? Или… Вот что я скажу! Почему бы не поставить его на твое бюро до воскресенья, затем ты можешь принести его сюда и поставить назад, пока ты смотришь Джимми Сваггарта и Джека ван Аймпа? Бьюсь об заклад, Иисусу гораздо больше нравится Джим Свагтарт, чем «Полиция Майами».
Она отказалась. В другой раз он сказал:
— Когда моя очередь устраивать по четвергам ночной покер, парням это не нравится. Никто не хочет, чтобы Иисус смотрел на него, когда он пытается передернуть.
— Может быть, они чувствуют себя неудобно, потому что знают: азартные игры — это дьявольское наваждение, — сказала Бекка. Хороший покерный игрок, Джо сдержался.
— Тогда дьявольские штучки — и твой фен, и это гранатовое кольцо, которые ты так любишь, прости господи, — сказал он. — Лучше верни их назад в магазин и отдай деньги Армии Спасения.
Поэтому она позволила Джо отворачивать изображение Иисуса на одну ночь в месяц в четверг, когда к нему приходили играть в покер сквернословящие, залившиеся пивом друзья… но и только.
И теперь она знала действительную причину, почему он хотел избавиться от этой картины. Он все это время мог предполагать, что эта картина может быть магической. О, она считала, что — «святая» — слово получше, «магическая» — это для язычников, головорезов, каннибалов, католиков и тому подобных, но они почти пришли к тому же самому, разве нет? Как бы то ни было, Джо должен был чувствовать, что картина особая, что она могла бы быть средством, с помощью которого можно распознать его грех.
О, она предполагала, она знала: что-то происходило. Он больше не был с ней ночью, и хотя в этом было некоторое облегчение (секс был как раз таким, каким, по словам ее мамы, и должен быть, грязным, скотским, иногда болезненным, всегда унизительным), она время от времени ощущала запах духов на его воротничке. Она считала, что могла игнорировать эту связь — тот факт, что лапанья прекратились в то самое время, когда случайный запах духов начал появляться на его воротничках, — если бы изображение Иисуса на «Сони» не начало 7 июля говорить. Она могла бы даже игнорировать и третий фактор: в то же самое время, когда прекратились лапанья и появились запахи духов, старый Чарли Эстабрук из почтового офиса был отправлен в отставку, и из почтового офиса Огасты, чтобы занять его место, прибыла женщина по имени Нэнси Восс. Она предполагала, что Восс (которую Бекка теперь мысленно называла для простоты Нахалкой) была лет на пять старше, чем она и Джо, тогда ей было бы около пятидесяти, но она была щеголеватой, хорошо державшейся женщиной. Бекка допускала, что сама она набрала немного веса, со ста двадцати шести до двухсот и трех, в основном после того как Байрон, их единственный ребенок, покинул дом.
Она могла игнорировать это, она игнорировала бы это, возможно, даже пришла бы к тому, чтобы терпеть это с облегчением; если Нахалке нравится животность сексуального контакта с его вседозволенностью и толчками и этой заключительной струей липкого вещества, запахом слегка напоминающего треску и выглядящего как дешевое посудомоечное средство, то это только доказывает, что сама Нахалка немногим более чем животное. К тому же это освобождает Бекку от утомительных, чтобы не сказать — случайных, обязательств. Она могла бы это игнорировать, если бы изображение Иисуса не начало говорить.
В первый раз это случилось в четверг, как раз после трех часов дня. Бекка возвращалась в комнату из кухни с небольшой закуской (половина кофейного пирожного и кольцо, наполненное малиновым джемом) смотреть «Госпиталь». В действительности она уже не могла больше верить, что Люк и Лора когда-нибудь вернутся, но она была не в состоянии полностью перестать надеяться.
Она наклонялась к телевизору, когда Иисус сказал:
— Бекка, Джо вставляет это в Нахалкин низ почти всегда во время ленча, а иногда и после работы. Однажды он так обнаглел, что вставил ей, пока, как считалось, он помогает ей сортировать почту. И знаешь что? Она ни разу даже не сказала: «Хотя бы подожди, пока я разберусь с первым классом».
— И это еще не все, — сказал Иисус. Он прошел полкартины, Его роба развевалась вокруг ног, и сел на камень, выступавший из земли. Он держал свой посох между коленями и мрачно смотрел на Бекку. — В Хэвене многое происходит. Ты не поверишь и половине всего.
Бекка взвизгнула и упала на колени.
— О, мой Господь! — закричала она пронзительно. Одно из ее колен приземлилось прямо на кусок пирожного (размером и толщиной примерно с семейную Библию), прыснувшего малиновым наполнителем в морду Оззи, коту, который выполз из-под плиты посмотреть, что происходит. Оззи побежал, шипя, на кухню, и весь в красном и липком, капающем с усов, снова залез под плиту. Он провел там весь оставшийся день.
— Да, все Полсоны были недостаточно хороши, — сказал Иисус. Овечка побрела к Нему, и Он отогнал ее, с рассеянным нетерпением взмахивая посохом, что напомнило Бекке, даже в теперешнем ее застывшем положении, покойного отца. Овечка пошла, покрываясь рябью из-за трехмерного эффекта. Она исчезла, искривившись при переходе за край картины… но это был только оптический обман, Бекка это чувствовала. — Да уж! — провозгласил Иисус. Как тебе известно, Бекка, двоюродный дед Джо был убийца. Убил сына, жену, а затем самого себя. И когда он пришел сюда, знаешь ли ты, что Мы сказали? «Мест нет», — вот что Мы сказали. — Иисус наклонился вперед, опершись на посох. — «Пойди посмотри на мистера Раскольника, там внизу», — сказали Мы. — «Ты найдешь свое загробное пристанище, так и быть. Но может оказаться, что твой новый хозяин в качестве платы потребует ад, и чтобы жар никогда не выключался», — сказали Мы.
Невероятно: Иисус подмигнул ей… и это было причиной, по которой Бекка, пронзительно крича, сбежала из дома.
2
Она остановилась на заднем дворе, тяжело дыша, ее мышино-белые волосы закрывали лицо, сердце билось так быстро, что это ее пугало. Никто не слышал ее криков и разговора, слава Господу; они с Джо жили далеко на Ниста Роуд, и их ближайшими соседями были Бродские, жившие в этом неряшливом фургоне. Бродские были в полумиле отсюда. Это было хорошо. Никого, кто, услышав ее, подумал бы, что миссис Полсон сошла с ума.
Но так оно и есть, разве нет? Если ты думаешь, что картина может говорить, значит, ты должна быть сумасшедшей. Папочка поставил бы тебе за такие вещи три синяка: один за обман, второй за то, что поверила в него, и третий — за то, что подняла голос. Бекка, картины не разговаривают.
Нет… не было этого, тут же заговорил другой голос. Этот голос идет из твоей собственной головы, Бекка. Я не знаю, как это может быть… как ты знаешь, некоторые вещи… но вот что произошло. Ты сделала так, что изображение Иисуса разговаривает с тобой, так же, как Эдгар Берген, бывало, на шоу Эда Салливена заставлял говорить Чарли Маккарти.
Но эта мысль казалась более пугающей, более дурной, чем мысль о том, что картина говорила сама по себе, и она отказалась верить разуму. В конце концов, чудеса случались каждый день. Был же этот мексиканский парень, который нашел изображение Девы Марии, запеченное в энхилада или что-то в этом роде. Были чудеса в Лурде. Не говоря уже о детях, о которых было в одной из газеток — у них были плачущие камни. Это были добропорядочные чудеса (эти дети были вполне нормальными), как вознесение в проповеди Пэта Робертсона. Голоса слышат спятившие.
Но случилось-то именно это. Да, ты только что слышала голоса, не так ли? Ты слышала его голос. Голос Джо. Вот откуда он шел. Не от Иисуса, от Джо.
— Нет, — захныкала Бекка. — В моей голове не было никаких голосов.
Она стояла на заднем дворе возле бельевой веревки, направив пустой взгляд на рощу на другой стороне Ниста Роуд. Она чуть колыхалась в летнем мареве. В тени этих деревьев, менее чем в полумиле отсюда, там, где летала ворона, Бобби Андерсон и Джим Гарденер все глубже и глубже раскапывали свою находку.
Сумасшедшая, прогудел в ее голове неумолимый голос умершего отца. Душевнобольная. Уходи отсюда, Бекка Баучерд, не то я поставлю тебе за такие разговоры три здоровых синяка.
— В моей голове не было голосов, — простонала Бекка, — Это изображение действительно говорило, я клянусь, я не могу чревовещать!
Лучше пусть это будет говорящая картина. Если это была картина, это было чудо, а чудеса идут от Бога. Чудо может свести с ума — и милый Боженька знал, что она чувствовала себя только что спятившей, но это не значит, что она уже начала слышать голоса или верить, что может слышать мысли других людей…
Бекка посмотрела вниз и увидела кровь, лившуюся из левого колена. Она снова вскрикнула и побежала назад в дом звать доктора, скорую помощь, кого-нибудь, все равно кого. Она снова была в комнате, и, прижав трубку к уху, торопливо набирала номер, когда Иисус сказал:
— Это только малина из твоего пирожного, Бекка. Почему бы тебе совсем не успокоиться, пока ты не получила сердечный приступ?
Она посмотрела на «Сони», со стуком уронив на столик телефонную трубку. Иисус еще сидел на скальном выступе. Было видно, как он скрестил свои ноги. По-настоящему удивительным было то, как он походил на ее отца… только он не казался угрожающим, готовым в любой момент рассердиться. Он смотрел на нее с каким-то раздраженным терпением.
— Постарайся это сделать и посмотри, прав ли я, — сказал Иисус.
Она мягко дотронулась до своей коленки, вздрагивая, предчувствуя боль. Ничего не было. Она увидела зернышки в красной жиже и расслабилась. Она лизнула малину на пальцах.
— К тому же, — сказал Иисус, — у тебя появились мысли о звучащих голосах и сумасшествии. Это именно я, и я могу говорить, с кем хочу, таким способом, каким хочу.
— Потому что ты Спаситель, — прошептала Бекка.




