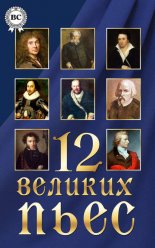Маски (сборник) Брэдбери Рэй
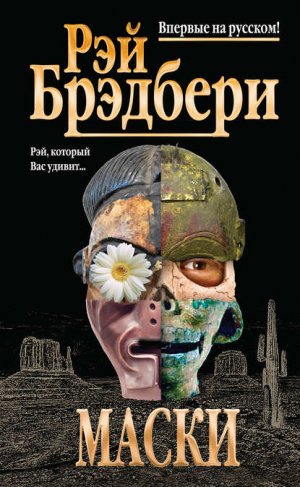
Маска Латтинга превратилась в подобие этого розового юноши.
Розоволицый, склонившись к Лизабете, что-то ей нашептывал, силясь в чем-то ее убедить. По ту сторону зала Латтинг умоляюще заламывал руки, дабы убедить ее в чем-то похожем. Латтинг следил за каждым его жестом и спустя миг повторял:
– Что за чертовщина! Точно по образу и подобию! – изумился Смит.
Лизабета Симмс безудержно расхохоталась.
– Вот, – молвил в сторону Латтинг, – и первая победа. Послушайте, Смит, а не прогуляться бы вам к бару на пару минут. Она скоро ко мне подойдет, но если вы будете здесь, ничего не получится.
– А как же ее свита?
– Она от них избавится. Я знаю. Одного отошлет за аспирином, другого – позвонить по телефону, третьего – за сигаретами. Внимание!
Троица отправлялась исполнять свои задания прямо у них на глазах. Нехотя.
Смит вздохнул.
– Я скоро.
Встал и зашагал прочь.
– Не спешите возвращаться, – посоветовал Латтинг.
Он сидел, с отсутствующим видом созерцая ее. Время от времени он месил глину и перелицовывал свое лицо. Для начала он превратился в Смита, который только что удалился, затем – в сидевшего по ее правую руку угрюмого футболиста. После чего он вылепил нос, брови и впалые щеки метрдотеля и поцеловал свою руку, словно это была ее ручка. Счастливая, она чинно сидела во время всего представления. Наконец одну половину лица он уподобил белобрысому, а вторую – Смиту: стоило ему повернуть к ней одну половину, как менялась жестикуляция, а с ней и личность. Он подмигнул ей.
Оркестр заиграл новую мелодию. Посетители вышли потанцевать. Лизабета Симмс была среди них одна. Она тихо встала и, не отрывая взгляда от Латтинга, направилась к нему. Остановилась у его столика, ничего не говоря. Потом сказала:
– Добрый вечер.
– Добрый вечер, – сказал он.
– Меня зовут Лизабета Симмс, – представилась она.
– Очень приятно, – сказал он, – присядете?
Роман Латтинга с Лизабетой Симмс длился месяц. Она вполне искренне и не на шутку влюбилась в него. По ее собственному меткому признанию:
– Он олицетворяет всех и каждого. Пройдет час, и он уже другой человек. Он один стоит тысячи мужчин. Уж я-то в них разбираюсь. Их у меня было видимо-невидимо. Я не знала счастья, не могла ни на ком остановиться, пока не встретила Уильяма Латтинга. Все осталось по-прежнему, ей-богу, я, можно сказать, сплю со всеми подряд, но теперь у меня один мужчина – воплощение всех мужчин. Вот почему я влюблена в него. Я, может, даже выйду за него замуж и угомонюсь. Даже не верится!
Только Латтинга это не устраивало. Как только он понял, что эксперимент с Лизабетой превзошел все ожидания и при желании он может держать ее при себе хоть до скончания дней своих, то сразу же потерял к ней всякий интерес.
Он стал все время носить простую синюю маску, вырезанную в Греции, которая была у него несколько лет. Он не снимал ее ни утром, ни днем, ни ночью.
– О боже! – стенала Лизабета. – Все та же маска! Тот же характер!
Он носил синюю греческую маску ежедневно целых три недели.
– Неужели ты не можешь надеть какую-нибудь другую? – умоляла она.
– Нет, – отвечал он, вполне осознавая последствия.
Он носил греческую маску каждый день.
В конце третьей недели Лизабета съехала от него. Больше он ее не видел. Только тогда он снял греческую маску.
– Пришлось повозиться, – признался он. – Но она ушла. Не вынесла сожительства с одним-единственным мужчиной. Соскучилась по всем остальным мужчинам, которые жили во мне. Прощай, Лизабета!
Греческую маску он сжег.
Вскоре после разрыва с Лизабетой у него начались неприятности с полицией. То тут, то там в городе он оказывался возмутителем спокойствия и предстал перед судом по обвинению в нарушении общественного порядка. Шеф полиции кричал, что ношение маски в общественных местах создает нездоровую атмосферу. Латтинг тут же выкрутился, заявив, что он ветеран войны, с изуродованным лицом под маской. Но так как он не унимался, непрерывно донимая добрых людей своими масками, то его снова привлекли к суду, где он потребовал правосудия. На суде, по словам адвоката, а может, судьи, он принялся передразнивать всех и вся, и в итоге на него наложили огромный штраф за неуважение к суду.
Полиция продолжает дознание на основании слухов, согласно которым Латтинг замышляет убийство. Латтинг говорит, что на протяжении нескольких лет он кого-то медленно убивает. Читатель догадается, что Латтинг на самом деле замышляет самоубийство, и он убивает нечто в самом себе, а маски служат орудием убийства его души и веры. До полиции это не доходит; там считают, что он готовит реальное, а не символическое убийство.
Квартирная хозяйка опасается, что под маской Латтинга таится нечто ужасное. Она делится своими соображениями с дочерью. Они пытаются всяческими уловками выманить его из квартиры. Он умиротворяет их, представ перед дочерью в маске человека, в которого она мечтала бы влюбиться, а его описание он выпытал у нее однажды ночью. Перед матерью он предстает в маске ее давно умершего отца. Он приходит и сидит у нее в гостиной. Разговаривает с ней так, как некогда разговаривал ее покойный отец. Так Латтинг находит выход из очередной затруднительной ситуации.
Его любовные похождения продолжаются. С помощью своих масок он крутит четыре романа одновременно. А когда женщины начинают его ревновать к другим, он просто отвечает:
– Как вы можете ревновать ко мне? Вы ведь любите эту маску и то, как я в ней себя веду. Когда я надеваю другую маску, я уже не тот, кого вы любите, а другой. К новой женщине я иду в новой маске. Разве можно ревновать к другому человеку? Нельзя. Это нелогично и глупо. Ради всего святого, прекратите ревновать. Я люблю вас, вы – меня. Так чего же вам еще надо?
Одну из влюбленных в него женщин зовут Аннетт.
– Ты любишь меня? – спрашивает он ее.
– О, да, да, я люблю тебя.
– Ты любишь мое лицо, – говорит он, – и ничего больше. Ты из тех женщин, кто выходит замуж за внешний облик.
– Нет, нет, это ребячество, – возмущается она. – Я люблю тебя всего без остатка.
– А если бы у меня было другое лицо.
– Я бы все равно тебя любила, – отвечает она.
Он снимает одну маску и надевает другую.
– О-о, – говорит она, встает и уходит.
– Я так и думал, – торжествует он. – Лизабета любила меня за то, что я был сразу сотней мужчин зараз. А эта любила меня за то, что я был одним-единственным. Ох уж эти разные, все поглощающие женщины!
К Латтингу обращались за советом. Он встречает посетителей в маске, изображающей их самих, выпячивая присущие им пороки и недостатки, к досаде одних или радости других. Большинство друзей отворачивается от его едких пародий на них самих и предпочитает вести тот же бессмысленный образ жизни, что и раньше. Некоторые даже пытаются убить его за то, что он беспощадно обнажает их слабости, а некоторые, напротив, набираются ума.
К нему приходит молодая женщина с подарочной коробкой.
– Откройте, – обращается она к нему.
Она долгие годы была влюблена в своего отца, но поскольку общество, в котором она живет, осуждает подобное поведение, то все ее чувства подавлены, загнаны внутрь.
Латтинг открывает коробку и обнаруживает маску. Она заказала ее в качестве особого подарка.
– Это маска моего отца, – говорит она.
– Вот оно что! – удивляется Латтинг.
– Наденьте ее, – просит она.
Он надевает маску.
– Теперь, – говорит она, присаживаясь рядом, – можете взять меня за руку.
Латтингу все хуже и хуже от череды любовных похождений и разоблачений пустопорожней любви с помощью масок. Его эксперименты с представителями общества, церкви и искусства только усугубляют его состояние. Он понимает, по какому тонкому льду катится наша цивилизация со своей жестикуляцией и кривлянием, лишь бы скрыть свою внутреннюю порочность. Он впадает в глубокую депрессию.
Чтобы спасти Латтинга от самого себя, Смит разыскивает, находит и пускает в ход фотографию семнадцатилетнего Латтинга. Смит заказывает маску, в точности повторяющую черты Латтинга в этом возрасте, пятнадцать лет назад.
И дарит эту маску Латтингу.
Латтинг в ужасе смотрит на маску и понимает, что потерял все – юность, чистоту, веру, доверие, порядочность. Он сломлен ею. Эксперимент окончен. Латтинг совершает самоубийство.
Когда с мертвого Латтинга снимают маску, открывается лицо безупречного цвета и очертаний. У него не было никаких физических изъянов, чтобы прятаться под маской.
Смит добивается, чтобы Латтинг был кремирован вместе с масками.
Человек под маской
(факсимильные фрагменты)
МАСКИ
Изысканные маски лежали на столе рядом с креслом мистера Йовара, откуда он мог, не мешкая, дотянуться до них в случае надобности.
– Они нужны мне постоянно, – объяснил он, натягивая одну из них на лицо. – Паралич, знаете ли, разбил меня в одиннадцать лет. С тех пор на моем старческом лице не движется ни один мускул.
– Понимаю, – сказал его собеседник помоложе по имени Сиарди.
– Вы хотите сказать, что сомневаетесь, – сказал старик.
– Напротив, – возразил Сиарди. – Эта идея меня взволновала.
Маска, смотрящая на Сиарди, мерно излучала приязнь.
I группа фрагментов – истоки
Стопка черновых листов из папки с «Масками» проливает свет на то, как Брэдбери экспериментировал с различными приемами повествования и голосами в начальных сценах. Одна из самых коротких сцен представляется нам вступительным кадром к вариантам короткого рассказа на тему «Масок» с неким мистером Йоваром, показывающим своему другу Сиарди, как с детства маски помогают ему скрывать лицевой паралич. В этой паре строк Брэдбери готовится исследовать, как череда тщательно подобранных масок может сымитировать полноценную последовательность человеческих эмоций.
Два других вступительных варианта описывают предысторию главного героя задуманного романа, который собирается оставить свое имущество и внушительное собрание масок на попечение своего адвоката Стивенсона. В этих вариантах главного героя зовут Чарльз Смит, а не Латтинг, но в них больше внимания уделяется стилю и мастерству, чем именам. В тексте первого варианта повествование ведется от третьего лица, главным образом в форме диалога между Смитом и Стивенсоном. Во втором варианте Брэдбери экспериментирует с повествованием от первого лица – от имени Чарльза Смита. Ни тот, ни другой эксперимент не занимает более двух страниц.
Третье вступление более субъективно и опосредовано, оно ведется, более или менее, от второго лица, которое описывает впечатление от, собственно, масок. Имя главного героя не упоминается; нам только известно, что разновидности масок, разложенных на его столе, задают тон предстоящему разговору. Иногда маски настроены на приятную беседу, а порой они угрожающе враждебны. В любом случае маски предопределяют исход всего, чему суждено произойти. Три последних отрывка – эксперименты с взаимодействием персонажей. В этих фрагментах Брэдбери изучает, как маски обостряют восприятие, а временами усиливают способность их носителя читать мысли тех, с кем сталкивается хозяин маски (и даже оказывать на них воздействие).
ЧЕЛОВЕК ПОД МАСКОЙ
– Это вы серьезно?
– Серьезнее не бывает.
– Все бросить, покинуть город, скрываться?
– Именно.
– И начать экспериментировать с масками?
– Чую, настало время.
– Да будет мне позволено сказать, вы – сбрендили!
– Я знал, что вы так отреагируете, – парировал Смит.
– Что вы надеетесь этим доказать?
– Что лица – это всего лишь лица, а маски – маски, и следует быть осмотрительным, под какой маской или с каким лицом нам выходить на большой Бал или в Жизнь, если вам угодно.
– Вас бросят за решетку. Вы растеряете всех своих друзей.
– Я рискну.
Он закончил укладывать вещи в свой единственный чемодан. Он стоял в обширной, освещенной огнем комнате. Очаг отбрасывал тусклые отсветы на стены, увешанные тысячей то злобных, то дружелюбных масок. Он задержал на них взгляд, затем протянул руку своему другу.
– Ну, Стив…
– Что бы мне такого вам сказать, чтобы вы отказались от своей дурацкой затеи? – спросил Стивенсон.
– Нет, спасибо, – ухмыльнулся Смит.
– Тогда можете хоть скатиться с горы и расшибиться в лепешку. Мне безразлично.
– Значит, вам придется присматривать после меня за домом.
– Да я его дотла спалю.
– В свое время я сообщу вам о своем местонахождении.
– Позаботились бы лучше о себе и своей машине.
Смит повернулся и вышел, хлопнув дверью. Оставшись в одиночестве, Стивенсон уставился на камин. Он взял медную подставку для дров и переворошил ею уголья. Пламя вспыхнуло.
Все маски на высоких затененных стенах заулыбались, словно кто-то собирался сделать групповое фото.
Я уже не припомню, когда именно меня озарила идея использовать маски. Такие замыслы приходят в голову постепенно; они словно тени, листва или пелена колышутся на ветрах жизни. И вдруг решение назрело. Время действовать.
Однажды, после полудня 11 февраля 1952 года, я подкрепил свое решение энергичным укладыванием чемоданчика, приготовляясь покинуть свой дом. У меня за спиной стоял мой болтавший без умолку добрый друг Стивенсон. Он по большей части спорил, теоретизировал и увещевал. Но в ответ на все его доводы я только качал головой и улыбался.
– Нет, нет, – я запер чемодан. – Дай же мне перевести дух.
– Но, Чарльз, взгляни же…!
– Именно этого я и хочу, чтобы весь мир взглянул – сюда! – и я прикоснулся к своему лицу.
– Это безумная затея! Как можно разгуливать по свету в масках!
– А я попробую, – сказал я.
– Все скажут, что ты свихнулся, и я не стану их разубеждать.
– Назовем это психологическим экспериментом, – предложил я, пожимая ему руку.
– Ну и отлично, – сказал он раздраженно, – прыгай со скалы. Мне безразлично!
– Я знаю, что тебе это небезразлично, но в данный момент… – я пожал плечами. – Когда я обустроюсь, дам знать.
– В Африке? В Индии? Во Франции?
– Где-нибудь в Соединенных Штатах. Вот увидишь. Ну… вот моя рука.
– Мне следовало бы не жать тебе руку, а огреть дубинкой и связать по рукам и ногам!
– Но ты не станешь этого делать. И на том спасибо. Прощай.
– А как же все эти маски на стенах? – спросил он.
– Они пусть пока побудут здесь. Я пришлю за ними, когда понадобятся. Позаботься о них и о моих деньгах, хорошо, Стиви? Вот это, я понимаю, хороший адвокат и добрый друг!
Его глаза взглянули на меня. За его спиной на стенах смеялась и гримасничала тыща масок. Под их пристальными взглядами я повернулся, подхватил чемоданчик, распахнул дверь – и хлопнул ею от всей души!
Я отправился в путь.
Пользование масками было его непременной потребностью. Особенно если вы с ним находились в одной комнате. Голос – единственное, что в нем оставалось живого; остальное, кроме руки, отмерло; но его речь – многоголосая и зычная – производила впечатление общения с сотней людей, тогда как перед вами сидел один-единственный человек. Голос легко и непринужденно владел нескончаемой гаммой оттенков от высокого до низкого; мог звучать то женственно, то – не успеешь глазом моргнуть – грубо по-мужски, то по-доброму, то неумолимо жестоко, не успеешь кашлянуть. Его голос был под стать маске. Он искусно подбирал маску из тех, что лежали перед ним. А маски были разложены согласно плану. Можно было наверняка узнать, какой вечер вам уготован, если войдя вы пересчитывали маски, отмечая про себя их малочисленность или замысловатость, торжественность или беззаботность.
Если вы заходили и на столе лежали всего две маски – одна улыбчивая, другая в меру серьезная, то вы могли быть уверены, что вам предстоит приятное времяпрепровождение за беседой о гибкости музыки Прокофьева, по сравнению с музыкой, скажем, Стравинского, или о короткой прозе Генри Джеймса и о романах Конрада.
Но, боже упаси, если рядком были разложены три ужасающие маски. Для начала – строгая серая, темно-коричневая посередине, а напоследок – черная, гримасничающая маска страшного гнева. Тут уж вы попадали в головомойку и даже выпуклости и гладкости жестких деревянных масок корчились и дымились от невыносимой энергичности и реальности. Голос, исходивший от масок, заставлял вас вытянуться на стуле и почувствовать жутковатый холодок в животе. Оставалось только уповать на Божью помощь.
Он вообразил себя хрустальной ретортой, в которую вдохнули волны сладостных благовоний и праведного умиротворения. То была священная праведность, затмевавшая математику, превращавшая каждое движение в скольжение, вальс, мечту. Он парил в двух дюймах от пола. Он был недосягаем для смерти, не нуждаясь ни в еде, ни в питье. Его разум – это заключенная в сферу черепа тончайшая пурпурная материя, в которой содержалось все его знание, отмытое, очищенное, облагороженное. И теперь извне этот глупец резвился, насмехаясь над ним.
Однажды вечером он пошел в театр; в вестибюле толпилась стайка школьников и школьниц из Ассоциации молодых христиан, источавших аромат гардений. Слышались взрывы отрепетированного хохота, непрерывные остроты; лица сияли. Он потихоньку приблизился к ним, чтобы удобнее было наблюдать за их поведением.
– Я говорю тебе – то и это, и кое-что в придачу, – сказал один из мальчиков.
– Ха, – ответила одна девочка и мгновение спустя перестала улыбаться.
– А потом еще и еще, – сказал другой мальчик.
– Интересно, – сказала девочка, теряя интерес.
– И много-много другого, – сказал мальчик.
Все захохотали. Через минуту их изменчивые сверкающие глазенки забегали под мигающими веками, рыская в поисках новых стимулов и реакций в ответ на свои же вездесущие стимулы. Все занимались разбрасыванием камушков. Все, как лужицы, получали эти камушки, вызывавшие рябь на поверхности воды, и погружались в самодовольное самолюбование.
– Посмотри на себя, – сказал тот, что постарше.
Молодой человек напрягся, но сохранял спокойствие. Согнутые пальцы разогнулись и незаметно обрели изящество. Когда молодой человек повернулся и сказал, что эта маска непостижимо прекрасна, старик разразился хохотом.
– Если бы ты мог себя видеть! Десять секунд, и ты – новый человек. Твоя поза, боже мой, твои руки! Какая женственность! Твои глаза в глазных щелях – преданные, верные, благоговейные, как устрицы в сумерках.
– Великолепная маска.
– А твой голос! Напыщенно праведный. В твоих глазах я сейчас разнесчастный, заблудший, жалкий боббит. Ты попытаешься меня утешить, поддержать, наставить на путь истинный, указать на мои прегрешения. Еще час в этой маске – и у тебя завелась бы часовня, паства, братство, и пошло-поехало! Чувствуешь ли ты в себе золотые всплески великого умиротворения? Увлажняются ли твои очи от сострадания, когда ты видишь мое вопиющее невежество и пропащую душу, струящуюся из уголков моего тела?
Молодой человек снова подошел к зеркалу и посмотрелся в него.
Человек увидел свое же лицо с противоположного конца комнаты и, присмотревшись, возопил:
– Это я? Я? Неужели в кресле сидел я?
Кристофер кивнул.
– Благодарю вас, благодарю!
Он чуть было не облобызал Кристоферу руки.
– Вы оказали мне великую услугу!
– Что еще я могу для вас сделать? – поинтересовался Кристофер.
Но всякий раз, когда этот человек встречался с Кристофером на вечеринках, он отворачивался от него. Однажды Кристофер прикоснулся к его плечу и спросил:
– Вы снова сбились с пути? Оказались во тьме? Заблудились? Ваша возлюбленная сковала вас по рукам и ногам? Позабыли о своих дерзновенных намерениях? Вы – все еще марионетка, передвигаетесь как на ходулях. Не можете сменить походку? Или превратились в зацикленного субъекта с эгоистичными замашками?
– Если вы не отстанете, я двину вас в челюсть, – сказал молодой человек и удалился, разминая турецкую сигарету на серебряном портсигаре.
– Присаживайся, Дэвид, – сказал он, и Дэвид присел.
– Что тебя гложет, сынок?
– Я очень несчастен. Я такой несуразный!
– Сынок, такое бывает в жизни сплошь и рядом. В один прекрасный день обнаруживается, что другие выглядят привлекательнее, чем мы. Это вызывает кучу неприятных ощущений. Уж я-то знаю.
– Вот что я тебе скажу, Дэвид. Я дам тебе поносить одн из моих масок.
– Неужели?
– Надевай!
Дрожащими руками Дэвид надел маску.
– Как ты теперь себя чувствуешь?
– О боже, замечательно, великолепно!
II группа фрагментов – дочери
Вторая стопка черновых отрывков посвящена отношениям дочерей и родителей. Дочери неизменно встречаются с незнакомцем в маске в потенциально романтических ситуациях, которые определяют содержание каждой сценки. В двух из четырех недоработанных сценах незнакомца в маске зовут мистер Крис или мистер Кристофер, но на других страницах у него нет имени.
Вступительная встреча, разворачивающаяся на двух страницах, представляет собой разговор матери и дочери о постояльце в маске. Когда дочь признается, что постоялец предложил ей открыть свое истинное лицо, мать закатывает дочери грубый и почти истеричный допрос. Это самый пространный отрывок из четырех, представленных здесь, и в последних абзацах мать пересказывает некий фильм, испугавший ее в детстве. Она сосредотачивается на одном эпизоде, в котором монстр в маске открывает свою личину молодой девушке – героине фильма. Судя по подробному описанию, мы можем легко догадаться, что речь идет о шедевре немого кино – «Призраке оперы», в котором играл Лон Чени. Теперь ясно, почему она с таким пристрастием допрашивает дочь. Мать ужасается от одной мысли о том, что дочери предстоит пережить ту же кошмарную сцену с постояльцем в маске.
Третий отрывок посвящен мечтаниям простодушной дочери об облике идеального возлюбленного. Однако четвертый заключительный отрывок – самый тревожный, ибо, благодаря эффекту замещения маски, молодая женщина позволяет себе совершить психологическое деяние, запрещенное в любом культурном контексте. Она влюблена в своего отца, и маска, сработанная по его образу и подобию, позволяет ей вступить в связь с незнакомцем, который носит эту маску: «Теперь вы можете взять меня за руку». Сцена почти совпадает с событием, происходящим в начальном повествовании «Масок», но здесь она подана в виде рассказа словами владельца масок, скорее всего, безымянного Латтинга, живописующего свои разнообразные приключения своему приятелю Смиту. Это короткая сценка и остаток «подвальной» части страницы зарисован рукой Брэдбери карнавальными персонажами. Эти карикатуры – еще один способ выражения подавленных страхов и запретных страстей, но они также высвечивают игривое облачение в маски и снятие масок, которые возникают в более поздней прозе Брэдбери (всестороннее обсуждение рисунков см. в Eller, Touponce, Ray Bradbury: The Life of Fiction, с. 32–34).
– Интересно, что же приключилось с мистером Крисом? Дуэль? Говорят, он немец, и у него на лице шрамы, которыми они изукрашивают друг друга в Германии.
– Попадаются любопытные шрамы.
– Ни разу не видела любопытных шрамов, – сказала мать.
– Но некоторые и вправду интересные.
– А может, у него родимое пятно?
– Как знать. Жуткое, наверное.
– Однажды он мне пригрозил.
– Правда? Да как он посмел!
Она бросила свое шитье и возмущенно уставилась на дочь.
– Что он сказал?
– Он пригрозил, что снимет маску в моем присутствии.
– Что он сделал?
– Так и сказал: если я это сделаю, тебе не поздоровится. Вот что он сказал.
– Он угрожал?
– Тебе будет плохо, потому что от этого нет спасенья. Так он сказал.
– Это у меня-то в доме! Наверху! В МОЕМ жилище! Да я его с полицией отсюда вышвырну! Вызову полицию! Чтоб с глаз долой!
– Мама, сядь на место.
– Но он тебе сказал… – мать задыхалась.
– Но он этого не сделал.
Хватая ртом воздух, она потянулась за телефоном.
– Я вызову полицию.
– Мама, послушай, он не снимал маску. Все в порядке. Я просто раньше не говорила тебе. К тому же он завтра съезжает. Навсегда.
– Лучше уж навсегда…
Она сняла трубку и уже собиралась прокричать что-то оператору, как бросила трубку.
– Он сказал завтра?
– Да, мама.
– Навсегда?
МАСКИ
– Ну, – мать плюхнулась в кресло и выдохнула, – ну…
– Мама, не волнуйся.
– Он бы лучше, он бы лучше… А если бы он снял маску. Что, если бы он при тебе снял маску?
– Не знаю, – ответила дочь, не зная, что сказать.
– Ты могла бы сойти с ума, вот что! – воскликнула мать, раздувая ноздри и губы.
– Но завтра он съезжает, и навсегда.
– Пусть катится, или я сама его выставлю.
– Мама, ничего страшного.
– У него под маской может оказаться нечто ужасное, как в том кино.
– В немом фильме?
– Там во время представления человек разбивает люстру и она падает на головы зрителям. У него за зеркалом маска, женщина-певица, и он проходит сквозь зеркало, и уводит ее, играет на органе, и она… Теперь вспомнила?
– Я была очень маленькая, – сказала дочь, – кажется, вспомнила.
– …и он играет на органе в маске, а певица снимает ее и видит весь этот кошмар и чуть не сходит с ума.
– Помню.