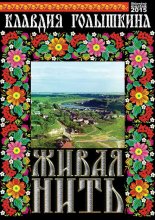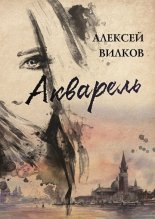Скиталец Стенли Майкл
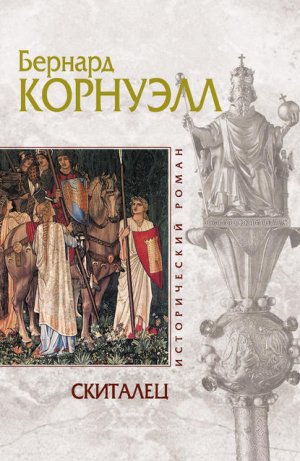
– Мы были тогда слишком пьяными. Это не в счет. – Шотландец рассмеялся. – И вообще, это ты начал.
– Я?
– Ага, – сказал Робби, – ты плеснул рыбной похлебкой ему прямо в рожу! Всю миску выплеснул.
– Я лишь старался спасти тебе жизнь, – заметил Томас. – Боже милостивый! Это надо же догадаться – говорить по-английски в Кане! Да они тут ненавидят англичан!
– И правильно делают! – подхватил Дуглас. – Любить их, что ли? Ты лучше скажи, мне-то как быть? Держать рот на замке? Черт! Это ведь и мой язык. Бог знает, почему он называется английским?!
– Потому что он и есть английский, – сказал Томас. – Кстати, король Артур говорил именно на этом языке.
– Сладчайший Иисус! – Робби снова рассмеялся. – Черт, я двинул того малого так сильно, что он, очухавшись, не вспомнит, какой нынче день.
Друзья укрылись в одном из множества домов, которые после летнего штурма и разорения, учиненного англичанами, так и стояли заброшенными. Владельцы отсутствовали: скорее всего, их кости гнили в большой общей могиле на кладбище или же покоились на дне реки.
На следующее утро юноши снова направились к причалам. Томасу вспомнилось, как он, превозмогая сильное течение, топал вброд по мелководью под обстрелом арбалетчиков. Стрелы поднимали маленькие фонтанчики воды, а сам он не мог стрелять в ответ, опасаясь намочить тетиву лука. Теперь они с Робби, идя по набережным, обнаружили, что «Пятидесятница» таинственным образом появилась ночью. Размером это судно было не меньше любого из ходивших вверх по реке, то есть могло взять на борт и доставить в Англию два десятка людей с лошадьми. Сейчас, в отлив, поднимавшиеся над водой борта казались особенно высокими. Томас и Робби бойко вбежали на палубу по узкому трапу и услышали ужасный храп, доносившийся из маленькой вонючей каюты на корме. Томасу показалось, что каждый могучий всхрап вызывает сотрясение палубы. Он невольно задумался о том, на что способен издающий такие звуки богатырь, если потревожить его сон, но тут из двери каюты появилась бледная, как рассветный туман, и тоненькая, как стрела, девчушка. Положив на палубу охапку одежды, она приложила палец к губам. Незнакомка выглядела очень хрупкой, и когда подняла свое одеяние, чтобы подтянуть чулки, то показались ее тоненькие как прутики ноги.
«Вряд ли ей больше тринадцати лет», – подумал Томас.
– Он спит, – промолвила девчушка шепотом.
– Это я слышу, – сказал Томас.
– Тсс! – Она снова приложила палец к губам, а потом натянула поверх ночной сорочки плотное шерстяное платье, сунула тоненькие ножки в огромные башмаки и накинула широкий кожаный плащ. Натянув на светло-русые волосы замусоленную вязаную шапочку, девчушка подняла мешок, сделанный из потертой мешковины, и тихонько сказала: – Я пойду купить еды, а вы пока разведите огонь в очаге. Это на баке, кремень и кресало найдете на полке. Не разбудите его!
С этим предупреждением она, в своих слишком просторных башмаках и плаще, сошла с корабля, и Томас, устрашенный мощностью храпа, решил, что в данном случае и вправду лучше проявить осторожность. Он прошел на нос, где обнаружил стоявшую на каменной плите железную жаровню. Дрова уже были заложены, и лучник, открыв служившую дымоходом заглушку, взялся за кремень. Лучина для растопки отсырела и занялась не сразу, но к возвращению девицы огонь уже разгорелся как следует.
– Я Иветта, жена Пьера, – представилась она.
Похоже, девушку совершенно не интересовало, кто такие Томас и Робби.
С этими словами худышка извлекла огромную почерневшую сковороду, на которую разбила двенадцать яиц.
– Может, вы тоже хотите поесть? – спросила она Томаса.
– Неплохо бы.
– Вы можете купить у меня яйца, – сказала она, кивнув на свою торбу из мешковины. – Еще там есть ветчина и хлеб. Мой муж любит ветчину.
Томас посмотрел на жарящуюся яичницу:
– Это все для Пьера?
– По утрам у него отменный аппетит, – пояснила Иветта, – потому и еды много. Ветчины полно, так что вполне можете угоститься.
Неожиданно корабль заскрипел и качнулся.
– Он проснулся! – Девушка сняла с полки оловянное блюдо.
С палубы донесся громовой зевок, а потом Томас невольно попятился, ибо еще в жизни не видел такого здоровенного детины.
Ростом Пьер Виллеруа был на фут выше Хуктона, лицо великана покрывали глубокие отметины от оспы, а в его бородище запросто мог бы заблудиться заяц.
Моргая, он воззрился на Томаса и ворчливо спросил:
– Ты пришел наняться матросом, парень?
– Нет, я принес тебе письмо.
– Имей в виду, нам скоро отплывать, – пророкотал Виллеруа голосом, который, казалось, исходил из недр глубокой пещеры.
– Послание от мессира Гийома д’Эвека, – пояснил Томас.
– Нужно поторопиться, пока прилив низкий, понял? – сказал француз. – У меня в трюме три тюка мха. Я всегда использую мох. Как мой отец. Другие предпочитают порванную на кусочки пеньку, но мне она не нравится, совсем не нравится. По-моему разумению, ничто не сравнится со свежим мхом. Он, кстати, и смолится куда как лучше.
На свирепой рябой физиономии вдруг появилась ухмылка, обнаружившая нехватку нескольких передних зубов.
– Mon caneton![14] – воскликнул он, когда молодая жена поставила перед ним блюдо, нагруженное едой.
Иветта выдала Томасу и Робби по жареному яйцу, после чего вручила им два молотка и пару чудных с виду инструментов, похожих на тупые зубила.
– Мы будем конопатить и смолить щели, – пояснил Виллеруа, – так что я нагрею вар, а вы вдвоем станете запихивать мох между досками. – Он ухватил рукой яичницу и отпрвил ее в рот. – Надо управиться с этим до прилива, пока судно стоит высоко и все щели над водой.
– Но мы принесли тебе письмо.
– Слышал. От мессира Гийома. Но раз он прислал ко мне кого-то, значит ему нужно, чтобы «Пятидесятница» была готова к отплытию. Ежели мессир Гийом чего-то от меня хочет, он это получит, потому как я от него, кроме добра, ничего не видел. Только вот в чем загвоздка: ему ведь не будет от «Пятидесятницы» никакого прока, если та затонет, верно? Какой толк от судна, коли оно окажется на морском дне вместе со всей командой и пассажирами, а? Его нужно проконопатить и просмолить. Мы с моей лапочкой чуть было не затонули вчера, верно, мой птенчик?
– В трюм просачивалась вода, – согласилась Иветта.
– Так и булькала, – громко заявил Виллеруа, – на всем пути сюда от Кабурга, так что если мессир Гийом хочет куда-то отправиться, то вам, ребята, лучше поскорее приняться за дело.
Он широко ухмыльнулся, встопорщив бородищу, прочерченную яичным желтком.
– Сэр Гийом собрался в Дюнкерк, – пояснил Томас.
– Надеюсь, он удерет у них из-под носа, – размышлял вслух Виллеруа. – Переберется себе через ров, скок в седло, и только его и видели! Этот недотепа де Кутанс не успеет сообразить, какой нынче год.
– А зачем сэру Гийому в Дюнкерк? – поинтересовалась Иветта.
– Ясное дело, чтобы присоединиться к англичанам, – ответил ей муж, не выказывая по поводу предполагаемой измены д’Эвека ни малейшего неодобрения. – Его собственный сеньор пошел на него войной, французский епископ подгадил ему не меньше сеньора, да и король, надо думать, приложил к этой истории руку. При таких делах мессир Гийом имеет полное право перейти на чужую сторону. Дюнкерк, говоришь? Стало быть, он решил принять участие в осаде Кале.
Капитан зачерпнул со сковородки еще яичницы, заел ее внушительным ломтем ветчины и осведомился:
– Так когда хочет отплыть мессир Гийом?
– В День святого Климента, – сказал Томас.
– А это когда?
Этот простой вопрос неожиданно поставил всех в тупик. Ответить на него не мог никто. Томас, правда, знал, на какой день месяца приходится этот праздник, но понятия не имел, сколько времени до него осталось. Зато мигом смекнул, что это дает ему возможность увильнуть от противной работы. Хуктону не особенно хотелось мокнуть в холоде и грязи.
– Я все выясню, – заявил он, – и вернусь, чтобы помочь вам.
– Я пойду с тобой, – вызвался Робби.
– Ты останешься здесь, – строго сказал Томас. – У мсье Виллеруа есть для тебя работа.
– Работа? – Робби, ничего не понявший из предыдущего разговора, несколько насторожился. – Какая, интересно?
– Ничего особенного, – заверил его товарищ, – но тебе понравится!
Подозрения шотландца усугубились.
– И куда же ты собрался?
– В церковь, Робби Дуглас, – сказал Томас. – Представь себе, я пойду в церковь.
* * *
Англичане захватили Кан прошлым летом. Они удерживали город достаточно долго, чтобы изнасиловать там всех женщин и разграбить все богатства, а затем оставили Кан – обобранным, полуразрушенным и истекающим кровью. Англичане тогда ушли, но заболевший Томас вынужден был остаться. Доктор Мордехай лечил его в доме мессира Гийома, а когда Хуктон малость поправился и уже мог ходить, тот поместил его в abbaye aux hommes[15] для встречи с братом Гермейном, попечителем монастырского скрипториума – хранилища, где монахи занимались перепиской рукописей. Брат Гермейн несомненно должен был знать, когда День святого Климента, но это была не единственная причина, по которой Томас собирался посетить аббатство. Он решил, что если кто-то и способен прочесть странные письмена в книге его отца, так это старый монах. Мысль о том, что, может быть, уже сегодня утром он разгадает тайну Грааля, вызвала у Хуктона прилив возбуждения. Это удивило его. Юноша часто сомневался в существовании реликвии и от души желал, чтобы его миновала чаша сия, но теперь вдруг ощутил азарт охотника. Более того, лучник неожиданно преисполнился ощущением значимости этого поиска, да настолько, что замер, уставившись на отражавшийся от реки свет. Он попытался вспомнить видение, явленное ему в ту ночь на севере Англии, и все сомнения вдруг показались нелепыми. Конечно, Грааль существует, он лишь ждет, когда его найдут, чтобы принести счастье истерзанному миру.
– Осторожно!
От размышлений Томаса оторвал оклик человека, толкавшего тачку с устрицами.
Привязанная к тачке собачонка попыталась походя тяпнуть юношу за ногу, но тележка покатилась дальше, веревка натянулась, и шавка взвизгнула. Однако Томас почти не обратил внимания ни на собаку, ни на ее хозяина, ибо был погружен в раздумья. Он размышлял о том, что Грааль, должно быть, скрывается от недостойных, внушая им сомнения. Значит, для того чтобы найти сокровище, нужно уверовать в него и, может быть, попросить небольшую помощь у брата Гермейна.
Привратник у ворот аббатства приветствовал Хуктона, но тут на часового внезапно накатил кашель, да такой, что бедняга сложился пополам. После долгого мучительного приступа он медленно разогнулся и высморкался в пальцы.
– Смерть моя пришла, вот что это такое, – прохрипел привратник, отхаркнув и сплюнув в сторону нищих, маячивших у ворот обители, комок слизи. – Неминучая смерть… А коли тебе в хранилище рукописей, так это вон туда. Мимо крытой аркады.
Томас направился к залитому солнцем помещению, где пара десятков монахов стояли за высокими наклонными столами. В центральном очаге, чтобы не замерзали чернила, теплился огонек, но в помещении с высоким потолком было так холодно, что монахи выдыхали над своими пергаментами облачка пара.
Все они переписывали книги, и в хранилище слышалось лишь постукивание перьев о чернильницы, скрип, шелест и шорох. Два послушника растирали на боковом столике порошок для красок, третий скреб кожу ягненка, а четвертый заострял гусиные перья; и все они нервно поглядывали на сидевшего на возвышении, углубившись в работу над манускриптом, брата Гермейна. Этот монах с тонкими седыми волосами, блеклыми, близорукими глазами и раздражительным выражением лица был стар, мал ростом, тщедушен и согбен. Он низко склонился над листом пергамента и тут вдруг услышал шаги. Попечитель скрипториума резко вскинул голову и, хотя и не обладал острым зрением, углядел на поясе нежданного визитера меч.
– Какое дело привело солдата в дом Божий? – сердито вопросил брат Гермейн. – Явился завершить то, что начали англичане прошлым летом?
– У меня дело к тебе, брат, – сказал Томас.
Поскрипывание перьев неожиданно прекратилось, ибо многие монахи навострили уши.
– Работайте! – сердито бросил им брат Гермейн. – Работайте! Вас еще не перенесли на небеса! У вас есть обязанности, вот и исполняйте их!
Перья вновь окунулись в чернильницы, скрип и шорох возобновились.
Когда Томас поднялся на возвышение, старый монах не на шутку встревожился.
– Мы знакомы? – сердито пробурчал он.
– Мы встречались прошлым летом. Мессир Гийом специально привозил меня встретиться с тобой.
– Мессир Гийом? – Брат Гермейн встрепенулся и отложил перо. – Мессир Гийом? Сомневаюсь, что мы увидим его снова! Ха! Я слышал, что Кутанс обложил его со всех сторон, и поделом. Ты знаешь, что он сделал?
– Кутанс?
– Мессир Гийом, дурень! Он выступил против короля в Пикардии! Против самого короля! Сделался изменником. Д’Эвек всегда был глупцом и постоянно рисковал, но теперь ему повезет, если он сохранит свою голову. Что это?
Томас развернул книгу и положил ее на стол.
– Я надеялся, брат, – промолвил он смиренно, – что ты сумеешь разобраться в…
– Ты хочешь, чтобы я прочитал это, а? Сам так грамоте и не выучился, а теперь решил, будто мне нечем заняться, кроме как читать всякую ерунду, чтобы ты мог определить ценность своей книженции? Безграмотные невежды иногда оказываются обладателями книг и приносят их в монастырь, чтобы мы их оценили. Мечтают, по скудоумию, что обычный сборник благочестивых советов окажется редкой и дорогой книгой по теологии, астрологии или философии. Как, говоришь, тебя зовут? – спросил брат Гермейн.
– Я этого пока не говорил, – ответил юноша, – но меня зовут Томас.
Очевидно, у брата Гермейна это имя не пробудило никаких воспоминаний, ибо он спокойно погрузился в книгу. Монах беззвучно проговаривал слова себе под нос и переворачивал страницы длинными белыми пальцами, пребывая в изумленной отрешенности. Потом он пролистал книгу обратно, вернулся к первой странице и вслух прочитал на латыни:
– «Calix meus inebrians». – Монах вымолвил эти слова на одном дыхании, точно они были священны, потом перекрестился, перевернул страницу и, дойдя до странного древнееврейского текста, разволновался еще больше. – «Моему сыну, – произнес он вслух, очевидно переводя написанное, – который есть сын Тиршафа и внук Ахалиина».
Старик обратил близорукие глаза на Томаса:
– Это ты, что ли?
– Что – я?
– Это ты внук Ахалиина, а? – уточнил Гермейн. Несмотря на плохое зрение, он, очевидно, углядел-таки на лице Томаса недоумение и торопливо буркнул: – Впрочем, не важно! Ты знаешь, что это?
– Всякие истории, – ответил лучник. – Истории о Граале.
– Истории! Истории! Вы, солдаты, прямо как дети. Безмозглые, жестокие, необразованные и жадные до всяких россказней. Ты знаешь, что это за письмо?
Он ткнул длинным пальцем в необычные буквы, которые перемежались символами, похожими на изображение человеческих глаз.
– Ты знаешь, что это такое?
– Это древнееврейский, разве нет?
– Это древнееврейский, разве нет? – насмешливо передразнил Томаса брат Гермейн. – Конечно это древнееврейский, даже глупец, обучавшийся в Парижском университете, узнает иудейское письмо, но это магический язык. Такие буквы евреи используют для записи своих заклятий в черной магии. – Он прищурился, поднеся одну из страниц к самым глазам. – Вот, видишь? Имя дьявола – Абракадабра!
Старик ненадолго призадумался.
– Автор утверждает, что Абракадабру можно призвать в наш мир, произнеся его имя над Граалем. Хм, это вполне возможно.
Желая отгородиться от зла, брат Гермейн снова осенил себя крестным знамением и попристальнее присмотрелся к Томасу.
– Где ты это взял? – резко спросил он, но, не дождавшись ответа, задал другой вопрос: – Это ведь ты, верно?
– Я?
– Ты тот самый Вексий, которого приводил сюда мессир Гийом, – промолвил монах тоном обвинителя и снова перекрестился. – Ты англичанин! – Это слово прозвучало еще большим обвинением. – Кому ты отдашь эту книгу?
– Сначала я хочу понять, что в ней написано, – сказал Томас, озадаченный этим вопросом.
– Понять ее? Ты? – с издевкой произнес брат Гермейн. – Нет, нет. Ты должен оставить ее у меня, молодой человек, чтобы я сделал с нее копию, а потом сама книга отправится в Париж, к тамошним доминиканцам. Они пришлют человека навести о тебе справки.
– Обо мне? – Томас смутился еще больше.
– О семье Вексиев. Сдается мне, один из отпрысков вашего гнусного племени сражался на стороне короля этим летом, а теперь он подчинился святой Церкви. Инквизиторы… – брат Гермейн остановился, очевидно, подыскивая подходящее слово, – побеседовали с ним по душам.
– С Ги? – догадался Томас. Он знал, что так зовут его двоюродного брата, который сражался на стороне французов в Пикардии, и знал, что Ги убил его отца в поисках Грааля, но старому монаху, похоже, было известно малость побольше.
– С кем же еще? А теперь, по слухам, Ги Вексий примирился с Церковью, – сказал брат Гермейн, переворачивая страницы. – Примирился с Церковью, как же! Может ли волк ночевать вместе с ягнятами? Кто это написал?
– Мой отец.
– Стало быть, ты внук Ахалиина? – с почтением произнес брат Гермейн, после чего возложил тонкие руки на книгу. – Благодарю тебя за то, что ты принес ее мне.
– Можешь ты мне сказать, о чем говорится в отрывках, написанных на древнееврейском? – спросил Томас. Слова брата Гермейна основательно его озадачили.
– Сказать тебе? Конечно могу, но это будет бесполезно. Ты знаешь, кто такой был Ахалиин? Тебе знаком Тиршаф? Конечно нет! То-то и оно. Поэтому не станем попусту тратить время! Но я благодарю тебя за то, что ты принес мне эту книгу. – Он подвинул к себе клочок пергамента, взял перо и обмакнул его в чернильницу. – Если ты отнесешь это брату-казначею, он выдаст тебе вознаграждение. А сейчас мне нужно работать. – Он подписал записку и протянул ее Томасу.
Юноша потянулся за книгой.
– Я не могу оставить ее здесь, – сказал он.
– Не можешь оставить? Еще как можешь! Такая вещь является достоянием Церкви! – Брат Гермейн угрожающе сложил руки на книге. – Ты оставишь ее здесь, – прошипел он.
Раньше Томас думал о брате Гермейне как о друге, или, по крайней мере, он не считал его врагом, и даже грубые слова попечителя скрипториума о предательстве мессира Гийома не изменили этого мнения. Но когда старый монах сказал, что книга должна отправиться в Париж, к доминиканцам, юноша понял, что он на стороне тех самых прихвостней инквизиции, которые, в свою очередь, переманили к себе Ги Вексия. Понял Томас и то, что эти страшные люди стремятся завладеть Граалем с невероятной алчностью, которую он оценил в полной мере только сейчас, и им нужны он сам и эта книга. Похоже, что и брат Гермейн ему враг. Лучник испуганно потянулся за книгой, внезапно поняв, что его приход в аббатство был опасной ошибкой.
– Мне нужно уходить, – настойчиво сказал он.
Брат Гермейн попытался удержать книгу и, хотя слабые ручонки старого переписчика манускриптов не могли соперничать с могучими мускулами молодого лучника, вцепился в нее так, что мягкая кожа обложки едва не порвалась.
– Куда ты пойдешь? – требовательно спросил монах, а потом попытался обмануть Томаса ложным обещанием: – Если ты оставишь ее, я сделаю копию и отошлю книгу тебе, когда закончу.
Томас собирался на север, в Дюнкерк, поэтому указал место, находящееся в противоположном направлении.
– Я отправляюсь в Ла-Рош-Дерьен, – солгал он.
– Но там же английский гарнизон! – Гермейн не оставлял попыток вырвать книгу, но вскрикнул, когда Томас шлепнул его по рукам. – Ты не можешь отдать это англичанам!
– Я отвезу ее в Ла-Рош-Дерьен, – повторил Томас, забрав наконец рукопись.
Он завернул ее в мягкую кожу, а когда приметил, что несколько монахов, помоложе и покрепче, соскочили со своих высоких табуретов, явно собираясь остановить его, наполовину вытащил из ножен меч. Вид стали охладил их пыл, и они лишь проводили уходящего сердитыми взглядами.
Привратник по-прежнему заходился в кашле. Увидев Томаса, он обессиленно прислонился к арке, из глаз его катились слезы.
– По крайней мере, это не проказа, – с трудом вымолвил страдалец, обращаясь к юноше. – Уж это-то я знаю точно. У моего брата была проказа, и он не кашлял. Правда, это слабое утешение.
– Когда будет День святого Климента? – догадался спросить Томас.
– Послезавтра, и Господь явит большую милость, если я доживу до него.
На корабль Томас вернулся благополучно, но позднее, когда они с Робби стояли почти по пояс в холодной речной воде и запихивали плотный мох в щели между досками «Пятидесятницы», к причалу заявились одетые в красное с желтым стражники. Их начальник спросил Пьера Виллеруа, не видел ли тот англичанина в кольчуге и черном плаще.
– Вон он, – сказал Виллеруа, указав на Томаса, и расхохотался. – Шутка. Уж будьте спокойны, ребята, случись мне встретить англичанина, я буду мочиться ублюдку в глотку, пока тот не захлебнется.
– Лучше приведи его в замок, – сказал командир патруля и отправился опрашивать команды других судов.
Виллеруа выждал, пока солдаты отойдут за пределы слышимости, и пробасил:
– А за это, приятель, ты должен просмолить мне еще два ряда.
– Иисус Христос! – вырвалось у Томаса.
– Спору нет, плотничье ремесло он знал, – хмыкнул в ответ Виллеруа, прожевывая яблочный пирог Иветты. – Но был не только сыном плотника Иосифа, но и Сыном Божьим, так что конопатить щели между досками Христу, скорее всего, не доводилось. Поэтому взывать к Нему бесполезно, и свою работенку тебе придется делать самому. Давай, малый, налегай!
* * *
Мессир Гийом удерживал свой манор от атакующих почти три месяца и не сомневался, что способен защищаться бесконечно долго, если граф Кутанс не подвезет в деревню еще пороха. Однако д’Эвек понимал, что его время в Нормандии вышло. Граф Кутанс был его сеньором и вассалом самого короля, и если сеньор объявлял человека изменником, а король поддерживал это обвинение, то у обвиняемого не было будущего, во всяком случае, пока он не найдет себе другого сеньора, служащего другому монарху. Мессир Гийом писал королю, обращался к друзьям, имевшим влияние при дворе, но никакого ответа не получил. Осада продолжалась, и было ясно, что манор рано или поздно придется покинуть. Это печалило его, потому что Эвек был его домом. Сэр Гийом знал тут каждый дюйм выпасов, он знал, где найти сброшенные оленем рога, где в длинной траве прячутся молодые зайцы, а где, словно черти в омуте, таятся в речных заводях зубастые щуки. Однако человек, объявленный изменником, тем самым лишался своего дома, а потому в ночь накануне Дня святого Климента, когда на позиции осаждающих опустился сырой зимний мрак, он совершил побег.
Сэр Гийом никогда не сомневался, что сумеет убежать. Граф де Кутанс был недалеким, лишенным воображения человеком средних лет, чей военный опыт полностью сводился к службе под началом более могущественных сеньоров. Граф не любил риска, но был самолюбив, вспыльчив и особенно злился, когда не понимал сути происходящего. Что, надо заметить, случалось довольно часто. Он так и не понял, почему влиятельные люди из Парижа подталкивали его к осаде Эвека, но усмотрел в этом возможность обогатиться и потому пошел на поводу у подстрекателей, хотя и опасался своего воинственного вассала. Мессиру Гийому было под сорок, и половину своей жизни он провел в сражениях, причем воевал по большей части на свой страх и риск. В Нормандии д’Эвека прозвали рыцарем моря и суши. Некогда этот муж с суровым, благородным лицом и золотистыми волосами был красив, но встреча с Ги Вексием, графом де Астараком, стоила ему глаза и оставила на лице воина множество шрамов, придав его облику еще большую суровость. То был грозный, доблестный боец, но в глазах королей, герцогов и графов это мало чего стоило, а вот принадлежащие сэру Гийому земли вызывали искушение объявить его изменником.
В стенах его манора укрывались двенадцать мужчин, три женщины и восемь лошадей, а это значило, что всем лошадям, кроме одной, придется везти по два всадника. Ночью, когда дождь мягко окроплял полузатопленные поля Эвека, мессир Гийом приказал перебросить через брешь, где должен был находиться подъемный мост, дощатые мостки. Лошадей с завязанными глазами перевели одну за другой по этому шаткому переходу. Осаждающие, ежившиеся от холода и дождя, ничего не видели и не слышали, хотя у них и были выставлены специально на этот случай часовые.
Сняв повязки с глаз лошадей, беглецы сели верхом и поскакали на север. Их окликнули только раз: один не в меру бдительный часовой потребовал сказать, кто они такие.
– А кем мы, черт тебя побери, можем быть? – рявкнул в ответ мессир Гийом, и его свирепый голос убедил часового больше вопросов не задавать.
К рассвету беглецы уже добрались до Кана, а граф Кутанс так еще ни о чем и не догадывался. Лишь когда при утреннем свете один из часовых увидел перекинутые через ров доски, осаждающие поняли, что противника в замке нет. Тогда граф, которому и в голову не пришло снарядить погоню, принялся обыскивать манор. Он нашел там мебель, солому и кухонную утварь, но не обнаружил ничего даже отдаленно похожего на сокровища.
Час спустя в Эвек прискакала сотня всадников в черных плащах без каких-либо эмблем, под началом человека, за которым не несли никакого знамени. Все прибывшие выглядели опытными, закаленными в боях и походах вояками и, скорее всего, зарабатывали на жизнь, продавая свои мечи тому, кто больше заплатит. Они спешились перед самодельным мостом через ров, а двое из них, командир и священник, прошли во внутренний двор.
– Что вы отсюда взяли? – отрывисто вопросил священник.
Граф Кутанс сердито обернулся к человеку в одеянии доминиканца:
– Кто ты такой?
– Что здесь искали твои люди? – повторил свой вопрос худой, изможденный и очень сердитый священник.
– Ничего! – заверил его граф.
– И где же гарнизон?
– Гарнизон? Все сбежали.
Бернар де Тайллебур в ярости сплюнул. Ги Вексий, находившийся рядом с ним, поднял взгляд на башню, над которой уже реяло знамя графа, и спросил:
– Когда они убежали? И куда направились?
– Кто ты такой? – вскинулся граф, ибо Ги не носил никакого герба, а тон его де Кутансу не понравился.
– По рождению я равен тебе, – холодно ответил Вексий, – а вопросы задаю по праву, данному мне королем, моим господином. Ему угодно знать, куда направились беглецы.
Ответить толком на этот вопрос никто так и не смог, но после долгих расспросов удалось выяснить, что кто-то из осаждавших вроде бы видел всадников, скакавших на север. Услышав это, де Тайллебур приказал своим людям снова садиться на утомленных лошадей.
К полудню они домчались до Кана, но к тому времени «Пятидесятница» уже проделала полпути по реке к морю, и хотя Пьер Виллеруа и ворчал, что пытаться идти против прилива – дело пустое, но мессир Гийом призывал его сделать все возможное, чтобы как можно скорее выйти в море. Д’Эвек понимал, что преследователи могут появиться в любой момент.
С ним сейчас было всего двое ратников, ибо остальные не захотели последовать за своим хозяином на службу к новому суверену. Да что там ратники, и сам сэр Гийом пошел на это лишь от отчаяния.
– Ты думаешь, я хочу сражаться за Эдуарда Английского? – ворчливо сказал он Томасу. – Черта с два! Но мне не оставили никакого выбора. Мой собственный сеньор пошел на меня войной. Ну что ж, раз так, я принесу присягу на верность вашему Эдуарду и, по крайней мере, останусь в живых.
Вот почему д’Эвек направлялся в Дюнкерк: он хотел навестить англичан, осаждающих Кале, и засвидетельствовать свое почтение королю Эдуарду.
Лошадей пришлось оставить на пристани: на борт «Пятидесятницы» мессир Гийом взял лишь свои доспехи, одежду и три кожаных мешка с деньгами. Поставив все это на палубу, он обнял молодого Хуктона. После этого Томас обернулся к своему старому другу Уиллу Скиту, который, однако, скользнув по нему неузнавающим взглядом, отвел глаза в сторону. Томас, уже собиравшийся заговорить, растерялся. Скит был в шлеме, и из-под побитого железного обода свисали длинные, прямые, совершенно седые волосы. Лицо его сильно исхудало и было испещрено глубокими морщинами, вообще вид у Уилла был такой, как будто он только что проснулся и не может понять, где находится. Внешне Скит сильно постарел. Ему было лет сорок пять, никак не больше, однако он выглядел на все шестьдесят. Впрочем, одно то, что командир лучников остался в живых, уже можно было считать чудом. Когда Томас видел его в последний раз, голова Скита была разрублена мечом так, что был виден мозг, и его лишь с превеликим трудом удалось довезти живым до Нормандии, где английский воин попал в руки прославленного еврейского целителя Мордехая. Кстати, этот человек тоже был здесь: ему как раз помогали перебраться по шатким сходням.
Томас сделал еще шаг навстречу старому другу, но тот снова скользнул по нему равнодушным взглядом, явно не узнавая.
– Уилл? – озадаченно произнес Томас. – Уилл?
При звуке его голоса взор Скита просветлел.
– Томас! – воскликнул он. – Боже мой, это ты!
Слегка пошатнувшись, Уилли шагнул вперед, и два боевых товарища крепко обнялись.
– Господи, Томас, до чего же приятно снова услышать славную английскую речь. Представь себе, вся зиму в моих ушах звучала иностранная тарабарщина! Но Бог свидетель, парень, ты теперь выглядишь старше.
– Я и стал старше, – хмыкнул Томас. – Как твои дела, Уилл?
– Я жив, Том, жив, хотя порой и думаю, не лучше ли бы мне было умереть. Мало радости быть слабым, словно кутенок. – Язык его слегка заплетался, как у человека, перебравшего хмельного, хотя бывший командир лучников был совершенно трезв.
– Наверное, – сказал Томас, – мне теперь не пристало называть тебя попросту Уилли, а? Ты ведь теперь рыцарь, сэр Уильям Скит.
– Сэр Уильям? Я? – Скит рассмеялся. – Не смеши меня, парень. Ты, как всегда, несешь чушь. Вечно умничаешь себе же во вред, а, Том?
Скит не помнил сражения в Пикардии, он не помнил, как король перед первой атакой французов возвел его в рыцарское достоинство. Томас порой гадал, не был ли этот поступок жестом отчаяния, ибо Эдуард Английский прекрасно видел, как мала его армия по сравнению с воинством противника, и почти не верил, что его люди выйдут из этой битвы живыми. Однако англичане тогда не только выжили, но и одержали победу, хотя Скиту пришлось заплатить за эту победу страшную цену.
Он снял свой шлем, чтобы почесать голову, и Томас внутренне содрогнулся, ибо увидел сплошной розовато-белый шрам от ужасной раны.
– Слаб, как кутенок, – повторил Уилли, – и уже давненько не натягивал лука. Это Мордехай настоял на том, что я нуждаюсь в отдыхе.
После того как Виллеруа, оттолкнувшись длинным веслом, направил «Пятидесятницу» вперед по течению реки, еврейский лекарь и сам приветствовал Томаса. Он немного поворчал насчет холода, лишений осады и ужасов предстоящего плавания, а потом улыбнулся мудрой стариковской улыбкой:
– Ты хорошо выглядишь, Томас. А для человека, которого однажды вздернули, ты выглядишь просто неприлично хорошо. Как твоя моча?
– Чиста как слеза.
– Твой друг сэр Уильям… – Мордехай кивком указал на носовой трюм, где Скита уложили на груду овчин. – Моча у него, знаешь ли, мутная. Боюсь, ты не слишком ему удружил, послав ко мне.
– По крайней мере, Скит жив.
– Я, признаться, и сам этому удивляюсь.
– И я послал его к тебе, потому что ты самый лучший лекарь.
– Ты мне льстишь.
Мордехай слегка шатался, потому что корабль покачивало. Все остальные не обращали на качку никакого внимания, однако лекарь выглядел встревоженным и, будь он христианином, наверняка осенил бы себя крестным знамением, чтобы отогнать неминуемую опасность. Вместо этого Мордехай с беспокойством рассматривал ветхий парус, как будто боялся, что тот рухнет и накроет его.
– Терпеть не могу корабли, – жалобно сказал он. – Место человека на земле. Бедняга Скит. Согласен, он вроде бы идет на поправку, но не могу похвастаться, что много сделал для него: я лишь промыл его рану да помешал невеждам класть на нее нашлепки из заплесневелого хлеба и святой воды, якобы обладающие целительной силой. По моему разумению, не стоит смешивать религию с медициной. Мне кажется, что Скит жив благодаря тому, что покойная Элеонора, когда его ранили, сделала все правильно.
Девушка положила тогда осколок черепа на открытый участок мозга, сделала припарку из мха и паутины, а потом забинтовала рану.
– Мне жаль Элеонору.
– Мне тоже, – сказал Томас. – Она была беременна. Мы собирались пожениться.
– Она была славной девушкой.
– Мессир Гийом, наверное, был в ярости?
Мордехай покачал головой:
– Когда получил твое письмо? Это было, конечно, еще перед осадой. – Лекарь призадумался, пытаясь вспомнить. – В ярости? По-моему, нет. Он хмыкнул, вот и все. Сэр Гийом, безусловно, любил Элеонору, но все-таки она была дочерью служанки, а не…
Еврей помолчал.
– В общем, все это очень печально. Но, как ты сам видишь, твой друг Уильям жив. Мозг – странная штуковина, Томас. Думаю, соображает Скит вполне прилично, а вот с памятью дело обстоит хуже. Речь у него невнятная, чего, наверное, и следовало ожидать, но самое странное, что он никого не узнает по облику. Я захожу к нему в комнату, и сэр Уильям не обращает на меня внимания, но стоит мне заговорить, как он тут же узнает, кто перед ним. У нас всех уже выработалась привычка подавать голос, как только мы оказываемся рядом. Ты тоже к этому привыкнешь. – Мордехай улыбнулся. – Однако как приятно тебя видеть.
– Значит, ты направляешься в Кале с нами? – спросил Томас.
– В Кале? Только этого мне не хватало. Нет, конечно! – Он поежился. – Но оставаться в Нормандии было никак нельзя. Подозреваю, что граф Кутанс, упустив мессира Гийома, захотел бы отыграться на еврее. Так что из Дюнкерка я снова двинусь на юг. Думаю, что сначала в Монпелье. Мой сын изучает там медицину. Куда дальше? Не знаю. Может быть, я поеду в Авиньон.
– В Авиньон?
– Папа очень доброжелательно настроен по отношению к евреям, – сказал Мордехай, потянувшись к поручню, когда «Пятидесятница» дрогнула под небольшим порывом ветра, – а мы нуждаемся в гостеприимстве.
По словам Мордехая получалось, что мессир Гийом довольно спокойно отреагировал на смерть Элеоноры, но, когда «Пятидесятница» вышла из устья реки навстречу простиравшимся до горизонта холодным волнам, отец заговорил о погибшей дочери с Томасом. Юноша понял, что напрасно считал д’Эвека черствым человеком. Он выслушал рассказ лучника об обстоятельствах ее смерти, глядя вокруг невидящим угрюмым взором, и, казалось, лишь усилием воли сдержал подступавшие слезы.
– Ты знаешь что-нибудь еще о человеке, который ее убил? – спросил мессир Гийом, когда Томас закончил.
Однако молодой человек мог лишь повторить то, о чем рассказал ему после сражения лорд Аутуэйт. О французском священнике по имени де Тайллебур и его странном слуге.
– Де Тайллебур, – невозмутимо произнес мессир Гийом, – это еще один человек, которого нужно убить, а? – Он перекрестился. – Элеонора была незаконнорожденной, – мессир Гийом говорил, казалось, обращаясь не к Томасу, а к ветру, – но она была милой девушкой. Теперь все мои дети мертвы.
Он устремил взгляд в океан, его грязные длинные желтые волосы шевелились на ветру.
– Скольких же человек нам с тобой надо убить, – сказал он, на сей раз уже точно Томасу. – И еще нам надо найти Грааль.
– Другие тоже его ищут.