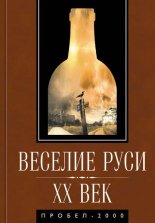Фея Альп Вернер Элизабет
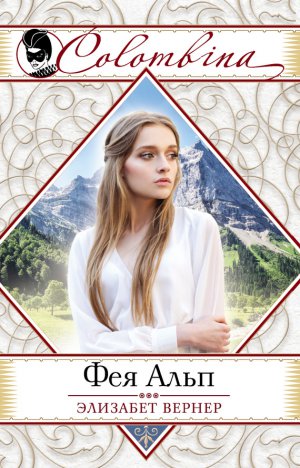
— Вольф вообще не страстная натура, — медленно сказал он, наконец. — Честолюбие преобладает в нем над всеми чувствами, он и мальчиком был таким же, а когда стал мужчиной, эта черта выступила у него еще резче. Это врожденное качество.
— У Альберта Герсдорфа тоже спокойная, холодная натура, а как он любит Валли! — возразила Алиса. — Вальтенберг не знал прежде другого счастья, кроме безграничной свободы, а что сделала с ним любовь! Баронесса Ласберг говорит, правда, что любовь первого — это каприз, который пройдет вместе с медовым месяцем, а любовь второго — горящая солома, которая так же скоро потухнет, как и загорелась, истинная же, прочная любовь вообще только мечта, измышление глупого романтизма. Умная женщина должна заранее отказаться от нее, если хочет быть счастлива в замужестве. Может быть, она и права, но это такой безнадежный, такой гнетущий взгляд! Вы разделяете его, доктор?
— Нет, — сказал Рейнсфельд так твердо и выразительно, что Алиса с удивлением взглянула на него, но затем грустно улыбнулась.
— Значит, мы с вами — мечтатели и глупцы, которых не признают умные люди.
— И слава Богу, что мы таковы! — воскликнул Бенно. — Не позволяйте отнимать у вас единственное, что может дать счастье в жизни, ради чего вообще стоит жить. Вольф всегда пророчил мне, что с моими убеждениями я останусь жалким, никому не нужным простофилей. Пусть так! Я все-таки счастливее, чем он со всем его самомнением, со всеми его успехами. Ведь они не радуют его, он всюду видит только трезвую действительность, без вдохновения, без проблеска идеала. Моя жизнь была сурова: я остался сиротой после смерти отца и матери и студентом часто не знал, что буду есть завтра, да и до сих пор имею только необходимое, но все-таки не поменяюсь со своим товарищем, несмотря на всю его блестящую будущность.
В пылу увлечения Рейнсфельд не чувствовал, каким тяжелым обвинением против Вольфганга были его слова, этого не замечала и Алиса: блестящими глазами смотрела она на доктора, обычно тихого и скромного, а теперь прямо-таки пылавшего воодушевлением. Робкий и замкнутый, он отбросил сдержанность теперь, когда границы были уничтожены, и страстно продолжал:
— Когда мы с ним подведем со временем итоги своей жизни, счастье окажется, пожалуй, на моей стороне. Тогда, может быть, Вольфганг будет готов отдать все свои гордые завоевания за один глоток из источника, который для меня неистощим. Мы, бедные, презираемые, осмеиваемые идеалисты — единственные счастливые люди на свете, потому что умеем любить всем сердцем, вдохновляться великим и добрым, надеяться и верить, несмотря на горький опыт. И если у нас даже все рушится в жизни, нам все-таки остается то, что возносит нас на такую высоту, куда другие не в силах следовать за нами; им недостает крыльев, а эти крылья имеют большую ценность, чем вся пресловутая житейская мудрость.
Алиса молча слушала эту страстную речь. Ничего подобного она не слыхивала в доме отца и, тем не менее, понимала ее инстинктом молодого горячего сердца, жаждущего любви и счастья. Она не подозревала, что человек, так вдохновенно отстаивающий идеализм и веру в людей, хранил в душе печальную мысль, способную лишить доверия к чести и верности друзей, и что эта мысль относилась к ее собственному отцу.
— Вы правы! — воскликнула она, протягивая Рейнсфельду обе руки, точно благодаря его. — Это высшее, единственное счастье в жизни, и мы не позволим отнять его у нас!
— Единственное? — повторил Бенно, причем, почти не сознавая, что делает, схватил ее руки и крепко сжал их. — Нет, вы узнаете и другое счастье. У Вольфганга благородная, богато одаренная натура: научитесь только понимать друг друга, и он сделает вас счастливой, или он недостоин обладать вами… Я, — тут голос изменил ему и дрогнул от сдерживаемой боли, — я буду часто получать от него вести о вашей семейной жизни: мы ведь будем переписываться, и, может быть, вы позволите мне иногда посылать поклон и вам.
Алиса не отвечала, ее глаза наполнились жгучими слезами, она была не в состоянии скрыть свое первое в жизни глубокое горе и при последних словах громко зарыдала.
Бенно смотрел на нее со смешанным чувством невыразимого счастья и другой, быть может, забыл бы все при этом красноречивом зрелище и заключил бы любимую девушку в объятия, но для него Алиса была только невестой его друга, к которой он ни за что на свете не обратился бы со словами любви. Он медленно отошел на несколько шагов и едва слышно сказал:
— Хорошо, что я уезжаю в Нейенфельд. Я давно знал, что это необходимо.
Они не подозревали, что их подслушивают. В ту минуту, когда доктор схватил руки молодой девушки, ветки кустарника у подножия скалы раздвинулись, из-за них выглянула Валли, собиравшаяся в шутку напугать подругу. Ее лукавое личико приняло выражение сильнейшего изумления, когда она увидела Алису в обществе Бенно, да еще в такой многозначительной позе. Она решила, во что бы то ни стало узнать, что будет дальше, а потому застыла на своем посту и выслушала весь последующий разговор. В это время раздались шаги Эрны и Вальтенберга, только теперь спускавшихся по тропинке со скалы.
К счастью, маленькая женщина обладала достаточным присутствием духа, кроме того, она не забыла, что, будучи невестой, использовала Алису как ангела-хранителя и потому считала себя обязанной в свою очередь разыграть ту же роль относительно своей приятельницы. Она бесшумно нырнула обратно в кусты и потом громко и весело крикнула спускавшимся, что далеко опередила их. Ее крик оказал свое действие: когда минуты через три они вышли на лужайку, молодые люди уже вполне овладели собой, Алиса сидела на прежнем месте, а Рейнсфельд стоял подле, серьезный и безмолвный. Валли, разумеется, удивилась, встретив здесь своего кузена Бенно, и тотчас завладела им. Он должен был исповедаться ей, как только они останутся одни, это она твердо решила, а затем то же должна была сделать и Алиса. Маленькое общество двинулось в обратный путь. Бенно приходилось заниматься исключительно своей молодой родственницей, осыпавшей его расспросами, но его глаза все время следили за нежной фигуркой Алисы, молча шей рядом с Эрной. Он уже не первый день знал, что эта девушка — самое дорогое для него существо во всем свете…
18
Нордгейм прибыл в назначенное время. До открытия железной дороги приходилось ездить через Гейльборн, и он захватил с собой оттуда Герсдорфа, собиравшегося ехать за женой на виллу. В тот день Эльмгорст «случайно» отправился на один из самых дальних участков дороги и не мог встретить будущего тестя. Нордгейм понял, что это значит, и отказался от надежды на уступку со стороны Вольфганга, но, во всяком случае, последнее объяснение между ними было неизбежно.
Валли сейчас же после обеда потащила мужа в парк при вилле, чтобы там отвести душу, но стала делать такие таинственные намеки, что Герсдорф не на шутку встревожился.
— Однако, дитя мое, скажи, наконец, что именно случилось! — стал он просить. — Я не заметил ничего особенного, когда приехал. Что ты хочешь мне сообщить?
— Тайну, Альберт, страшную, ужасную тайну, которую ты должен хранить в самой глубине души. Здесь происходят самые невероятные вещи, здесь и в Оберштейне.
— В Оберштейне? Уж не замешан ли здесь Бенно?
— Да! Бенно любит Алису Нордгейм! — трагическим тоном проговорила Валли.
Герсдорф покачал головой и сказал возмутительно равнодушно:
— Бедняга! Хорошо, что он уезжает в Нейенфельд. Надо надеяться, что там он скоро выкинет из головы эту блажь.
— Ты называешь любовь блажью? — с негодованием воскликнула Валли, — и думаешь так, нипочем, можно выкинуть ее из головы? Ты, конечно, сумел бы сделать это, если бы я не стала твоей женой, потому что ты — бессердечное чудовище!
— Но отличный муж! — с философским спокойствием прибавил Герсдорф. — Впрочем, у нас дело обстояло несколько иначе: я знал, что, несмотря на кое-какие препятствия, ты для меня достижима, и, кроме того, был уверен в твоей взаимности.
— И Бенно уверен: Алиса тоже любит его, — объявила Валли и с удовольствием увидела, что к этой второй новости ее муж отнесся гораздо серьезнее, чем к первой. Он слушал задумчиво и молча ее повествование об их встрече в лесу, о том, как она подслушивала, стоя в кустах, и как энергично старалась «пролить свет на это дело». Час спустя я осталась с Бенно с глазу на глаз, — продолжала она. — Сначала он не хотел исповедоваться, но желала бы я видеть человека, который сумел бы скрыть от меня что-нибудь, если я попала на след! Под конец я прямо так ему и бухнула: «Вы влюблены, Бенно, по уши влюблены!». Тогда он перестал отпираться и ответил с глубоким вздохом: «Да, и безнадежно!». Он был в полном отчаянии, но я вдохнула мужество в его душу и объявила, что возьмусь за дело и приведу его к счастливому концу.
— Чем, конечно, премного утешила его.
— Нет, напротив, он и слышать ничего не хотел. Этот Бенно — до отвращения совестливый человек! Алиса, видишь ли, — невеста его друга и он не смеет и думать о ней, не хочет никогда больше видеться с нею и, если удастся, то завтра же уедет в Нейенфельд. И так далее, все в том же экзальтированном духе. Он даже запретил мне говорить с Алисой, но я, разумеется, сейчас же отправилась к ней и тоже заставила ее признаться. Одним словом, они любят друг друга безгранично, невыразимо, им ничего больше не остается, как обвенчаться.
— Неужели? — сказал Герсдорф, несколько ошеломленный таким заключением. — Ты, кажется, забываешь, что Алиса — невеста Эльмгорста.
— Алиса никогда не любила этого Эльмгорста, — решительно заявила Валли. — Она сказала «да» потому, что так хотел ее отец, и потому, что в то время у нее не хватило энергии сказать «нет», а Эльмгорст просто желал сделать выгодную партию.
— И именно поэтому он не захочет упускать ее из рук.
— Да ведь я сказала тебе, что сама намерена взять дело в свои руки! Я поговорю с Эльмгорстом, обращусь к его благородству, докажу ему, что он должен отстраниться, если не хочет сделать несчастными двух человек. Он будет тронут, умилится, соединит любящие сердца и…
— И разыграет настоящую сцену из романа, — кончил Альберт. — Нет, он так не сделает. Ты плохо знаешь Эльмгорста, если ждешь от него такой чувствительности. Он меньше, чем кто-нибудь, способен отказаться от союза, который гарантирует ему со временем обладание миллионами, и если при этом ему придется обойтись без любви своей жены, он сумеет утешиться. А как ты думаешь, что скажет Нордгейм об этой романтической истории?
— Он? — проговорила Валли нерешительно, так как, собираясь играть роль благословляющего ангела-хранителя, трогательно соединяющего руки любящей пары, и не вспомнила о том, что у Алисы есть еще и отец, которому принадлежит в данном случае решающее слово.
— Да. Нордгейм, который сам устроил эту помолвку и едва ли согласится расторгнуть ее и отдать руку дочери молодому деревенскому врачу, тем более, что последний, при всех своих прекрасных качествах и знаниях, не в состоянии положить на весы что-либо реальное. Нет, Валли, дело совершенно безнадежно, и Бенно прав, отказываясь от него. Допустим, Алиса действительно любит его, но ведь она дала слово, дала добровольно, и ни жених, ни отец не позволят ей взять его назад. Тут ничего не поделаешь, они оба должны покориться.
Герсдорф мог бы привести и гораздо больше доводов, но не убедил бы жену. Она помнила, на что была способна ее собственная упрямая головка, когда дело шло о союзе с любимым человеком, и решительно не видела, почему бы и Алисе также не настоять на своем. Поэтому дальнейшие рассуждения она прекратила диктаторским заявлением:
— Ты этого не понимаешь, Альберт! Они любят друг друга, значит, Бенно должен жениться и женится.
Конечно, против такой логики доводы Герсдорфа были бессильны.
Между тем Алиса стояла в кабинете отца, куда прежде никогда не заглядывала. Должно быть, ее привело сюда что-нибудь необыкновенное, потому что она стояла, прислонившись к косяку окна, бледная и взволнованная, как будто борясь с тайным страхом. А между тем предстоял только разговор дочери с отцом. Правда, в их отношениях отсутствовали доверие и любовь. Нордгейм, в сущности, очень мало интересовался дочерью, и Алиса с детства чувствовала это, но так как, благодаря своему кроткому характеру, она покорялась всем требованиям отца, у них никогда не выходило столкновений. Теперь в первый раз было иначе: она хотела сделать отцу признание и знала, что оно вызовет с его стороны сильнейший гнев; она боялась его гнева, и все-таки не колебалась в своем решении.
В соседней комнате послышались шаги Нордгейма, и вслед за тем раздался его голос:
— Секретарь господина Вальтенберга? Разумеется, просите!
Одно мгновение Алиса стояла в нерешительности: отец, не подозревая, что она здесь, шел не один, а она в своем страхе и волнении не чувствовала в себе сил встретиться с чужим человеком. Наверно, секретарь должен был только передать что-нибудь от Вальтенберга и кончить дело в несколько минут. Молодая девушка быстро проскользнула в соседнюю спальню, дверь которой осталась только притворенной. Тотчас вслед за тем вошел Нордгейм и едва успел опуститься в кресло, как появился Гронау.
Нордгейм принял его с небрежным равнодушием знатного вельможи. Он знал, что Эрнст во время своих скитаний по свету прихватил с собой «какую-то личность», которая в звании секретаря исполняла при нем всевозможные обязанности, но не поинтересовался узнать, что это за человек. Его имени он или не слышал, или пропустил мимо ушей, во всяком случае, не узнал старого друга юности. Да, правда, и у Гронау, седого, со смуглым, изборожденным глубокими морщинами лицом, не осталось ни одной черты от свежего, жизнерадостного юноши, который двадцать пять лет тому назад пустился искать счастья по свету.
— Вы секретарь господина Вальтенберга? — начал Нордгейм.
— Да.
Нордгейм невольно остановился при звуке этого голоса, вызвавшего в нем какое-то смутное воспоминание, устремил проницательный взгляд на незнакомца и продолжал, легким движением руки приглашая его сесть:
— Вероятно, он не приедет сегодня? Что он поручил вам передать, господин… Как ваше имя?
— Фейт Гронау, — ответил тот, спокойно занимая предложенное место. Лицо Нордгейма выразило удивление, он точно искал знакомые черты в этом обожженном солнцем лице, но воспоминания, так неожиданно пробужденные в его душе, были не из приятных, и он не чувствовал никакого желания признавать прежние дружеские отношения.
— В таком случае мы, возможно, не совсем незнакомы с вами, — заметил он, однако. — В молодости я довольно часто встречался с неким Фейтом Гронау…
— Который имеет честь сидеть перед вами, — докончил Гронау.
— Очень рад! — радость была выражена весьма умеренно. — Как же вам жилось все это время? Надеюсь, хорошо: служить у господина Вальтенберга, должно быть, очень приятно.
— У меня есть все основания быть довольным. Так далеко, как вы, я, конечно, не ушел, но надо уметь быть скромным.
— Совершенно верно! Судьба ведет людей очень разными путями.
— А иногда люди сами берут на себя роль судьбы, в таком случае все зависит от того, кто сумеет половчее править судном своей жизни.
Это замечание не понравилось Нордгейму: оно звучало слишком фамильярно, а он не желал допускать короткости со стороны бывшего товарища. Поэтому он сказал, желая прекратить разговор:
— Однако перейдем к цели вашего посещения. Господин Вальтенберг прислал вас…
— Нет, — сухо возразил Гронау.
— Но ведь вы пришли от него, по его поручению?
— Нет! Я только что вернулся из путешествия и еще не видел господина Вальтенберга, а велел доложить о себе как о его секретаре только для того, чтобы быть тотчас принятым. Я пришел по личному делу.
При этом открытии Нордгейм стал на несколько градусов холоднее и неприступнее, потому что ожидал какой-нибудь просьбы. Но человек, спокойно сидевший перед ним и смотревший на него ясными, зоркими глазами, не имел вида просителя.
— Ну, так говорите! — сказал свысока Нордгейм. — Наши отношения давно прекратились, но тем не менее…
— Да, двадцать пять лет тому назад, — бесцеремонно перебил его Гронау, — но я хотел бы навести у вас справку кое о чем, касающемся именно того времени, и узнать от вас, что сталось с нашим общим — виноват! — с моим другом Бенно Рейнсфельдом.
Вопрос был так неожидан, что Нордгейм несколько секунд молчал. Он достаточно привык владеть собой, однако тут растерялся. Он бросил сердитый взгляд на спрашивавшего, пожал плечами и ответил холодным тоном:
— Право, вы слишком многого хотите от моей памяти, господин Гронау! Я не в состоянии держать в голове всех, кого знал в молодости, и в данном случае не могу припомнить даже этого имени.
— Не можете? Ну, так я помогу вашей памяти. Я говорю об инженере Бенно Рейнсфельде, изобретателе первого горного локомотива.
Глаза двух мужчин встретились. Нордгейм понял, что эта встреча не простая случайность и перед ним враг: в его, казалось бы, невинных словах крылась угроза. Надо было только узнать, в самом ли деле опасен этот человек, так внезапно появившийся после многих лет отсутствия, или же все сводилось к обыкновенному шантажу, основанием для которого служило какое-нибудь воспоминание из давнего времени. Нордгейм предполагал последнее и потому хладнокровно возразил:
— Вам дали неверные сведения: первый горный локомотив изобрел я, как доказывает мой патент.
Гронау вдруг поднялся; его смуглое лицо еще больше потемнело, видно было, как кровь прилила к загорелым щекам. Он составил себе подробный план действий и заранее обдумал, как именно нападет на противника, загонит его в тупик и поставит в безвыходное положение, но при встрече с такой наглостью все мудрые намерения разлетелись в прах, и негодование честного человека взяло верх.
— И вы смеете говорить это мне в лицо? — крикнул он с гневом. — Мне, присутствовавшему при том, как Бенно показывал и объяснял свой проект, а вы хвалили и восхищались им? Или память и тут вам изменяет?
Нордгейм спокойно протянул руку к звонку.
— Уйдете вы добровольно, господин Гронау, или я должен позвать прислугу? Я не намерен терпеть оскорбления в собственном доме.
— Советую вам оставить звонок в покое! Предоставляю вам на выбор: или то, что я хочу сказать, будет сказано здесь, с глазу на глаз, или то же самое будет сказано перед целым светом. Если вы откажетесь слушать, меня выслушают всюду.
Угроза не осталась без действия. Нордгейм медленно снял руку со звонка. Он видел, что нелегко будет справиться с этим решительным, энергичным человеком, и предпочел не раздражать его больше.
— Ну, хорошо, что же вы хотите сказать?
— Только то, что ты — мошенник!
Нордгейм вздрогнул, но в следующую секунду воскликнул:
— А, так вы смеете!..
— О да, смею! И я еще не на это осмелюсь, потому что одними словами такого дела не уладишь. Бедняга Бенно не умел постоять за себя, он опустил голову под ударом и, пожалуй, больше страдал от мысли, что его любимейший друг изменил ему, чем от самой измены. Будь я здесь в то время, ты не отделался бы так дешево. Не трудись корчить возмущенную физиономию! Меня не проведешь, я знаю правду, и мы одни, тебе нечего стесняться. Вся штука в том, что ты ответишь, когда я при всех брошу тебе в лицо это обвинение.
В волнении Гронау отбросил церемонии и перешел на прежнее «ты». Нордгейм не пытался больше сдерживать его, но, вероятно, чувствуя себя все-таки в безопасности, ни на минуту не отказался от высокомерного тона.
— Что я отвечу? — сказал он: — «Где доказательства?»
— Я не сомневался, что ты так ответишь! — горько усмехнулся Гронау. Потому-то я и не пошел к тебе сейчас же, как только узнал в Оберштейне от сына Рейнсфельда о твоей ловкой проделке, а отправился искать следы. В эти три недели я был везде — и в столице, и в местечке, где Бенно жил последние годы, и даже в нашем родном городе.
— Что же, доказательства нашлись?
Вопрос звучал уничтожающей насмешкой.
— Нет, по крайней мере, ничего, что прямо обвиняло бы тебя. Ты хорошо оградил себя от всякой опасности, а Рейнсфельд дал промах, не поставив своего изобретения под охрану закона, потому что считал его еще не вполне законченным. Это было тогда, когда я уехал из Европы, а ты получил место в столице. Добрый, простодушный Бенно сидел над своими чертежами, изменял, поправлял, совершенствовал и строил воздушные замки, как вдруг в один прекрасный день узнал, что его проект уже давно принят и оплачен золотом, только патент и деньги попали в карман другому, его лучшему другу, превратившемуся с их помощью в миллионера.
— И ты хочешь преподнести свету эту сказку? — презрительно спросил Нордгейм, бессознательно переходя к старому «ты» по примеру Гронау. — Ты воображаешь, что свидетельство такого проходимца, как ты, может пошатнуть положение человека, подобного мне? Сам же признался, что доказательств нет.
— Прямых нет, но того, что я узнал, достаточно, чтобы поколебать почву под твоими ногами. Ведь и Рейнсфельд пытался доказать свои права, разумеется, ему отказали, хотя и тогда нашлись люди, поверившие ему; он упал духом и бросил хлопоты. Но о его деле все-таки продолжали говорить, тебе приходилось защищаться против обвинения, а теперь твоим противником будет не мягкосердечный, неопытный Бенно, а я! Посмотрим, как ты от меня отделаешься. Я поклялся себе, что доставлю сыну моего друга единственное удовлетворение, которое в данном случае еще возможно, а я имею обыкновение держать свое слово! Я буду преследовать тебя без церемонии, без жалости, пущу в дело все, что узнал в последние недели, и заставлю весь свет говорить о подозрении, которое тогда было известно лишь в тесном кругу специалистов. Посмотрим, неужели истина не проложит себе дороги, если честный человек готов отдать для этого все свое добро и даже кровь.
Речь Гронау дышала железной решимостью, а Нордгейм должен был знать, чего следует ожидать от такого противника. Несколько минут он, видимо, боролся с собой, а потом спросил тихо и отрывисто:
— Сколько ты требуешь?
Губы Гронау насмешливо дрогнули.
— А, так ты идешь на сделку?
— Все зависит от того, чего ты захочешь. Я не отрицаю, что шум был бы мне неприятен, хотя я далек от мысли считать его сколько-нибудь опасным. Если ты предъявишь разумные требования, то, может быть, я и решусь на некоторые жертвы. Итак, чего ты требуешь?
— Весьма немногого для человека твоего полета. Ты выплатишь сыну Бенно, доктору Рейнсфельду, сполна всю сумму, полученную тобой за патент. Эти деньги — его законное наследство, и при теперешних обстоятельствах представляют для него целый капитал. Кроме того, ты скажешь ему правду, пожалуй, хоть с глазу на глаз, и этим воздашь покойному, по крайней мере, перед его сыном, честь, украденную тобой у него. Тогда доктор откажется от всяких дальнейших притязаний, а я тоже оставлю тебя в покое.
— Первое условие я принимаю, — хладнокровно ответил Нордгейм, — второе же — нет. Будет с вас и капитала, который составляет далеко не пустячную сумму. Вы, конечно, поделитесь.
— Ты думаешь? — спросил Гронау с презрением. — Впрочем, где тебе верить в честную, бескорыстную дружбу. Бенно Рейнсфельд даже не знает, что я затеял это дело и ставлю тебе какие-то условия, и мне еще будет стоить немало труда уговорить его принять эти деньги, которые принадлежат ему по законам божеским и человеческим, ему одному, я считал бы стыдом для себя взять из них хоть один пфенниг… Однако довольно слов! Принимаешь ты оба условия?
— Нет, только первое.
— Я не торгуюсь. Капитал и признание!
— Чтобы отдаться вам в руки? Никогда!
— Хорошо! В таком случае переговоры кончены. Ты хочешь войны — пусть будет по-твоему!
Гронау повернулся и пошел к двери. Нордгейм хотел, было, удержать его, но остановился, а в следующую минуту дверь за Гронау уже захлопнулась.
Оставшись один, Нордгейм беспокойно зашагал по комнате. Теперь видно было, что разговор взволновал его гораздо сильнее, чем он хотел показать. Его лоб покрылся морщинами, черты лица выражали гнев и тревогу. Мало-помалу он начал успокаиваться и, наконец, проговорил вполголоса:
— И дурак же я, что позволяю себе так теряться! У него нет доказательств, ни одного! Я отопрусь!
Он повернулся к письменному столу, но вдруг его ноги точно приросли к полу, и с губ сорвалось подавленное восклицание: дверь спальни отворилась, и на пороге показалась Алиса. Бледная, прижимая руки к груди, она устремила глаза на отца, который испугался ее появления так, точно перед ним стояло привидение.
— Ты здесь? — повелительно спросил он. — Как ты сюда попала? Может быть, ты слышала, что здесь говорилось?
— Да, я все слышала, — прошептала девушка.
Теперь в первый раз Нордгейм побледнел: его дочь была свидетельницей разговора! Но через минуту он уже снова овладел собой: рассеять всякое подозрение в душе неопытной девушки, всегда беспрекословно признававшей его авторитет, было, конечно, нетрудно.
— Наш разговор не предназначался для твоих ушей, — резко сказал он. — Не понимаю, как ты могла так долго сидеть там, спрятавшись, если слышала, что речь идет о делах! Из-за этого ты стала свидетельницей того, как я чуть не стал жертвой вымогательства, на которое мне, пожалуй, следовало отвечать энергичнее, чем я ответил. Такие дерзкие мошенники могут быть опасны даже и для самого честного человека, свет слишком расположен верить всякой лжи, а тот, кто ведет такие крупные операции, как я, и нуждается в доверии публики, не должен допускать даже простого подозрения. Лучше откупаться деньгами от людей, живущих шантажом. Впрочем, ты в этом ничего не понимаешь. Ступай к себе, и покорнейше прошу больше не приходить в мои комнаты тайком.
Однако Алиса продолжала неподвижно стоять; она не отвечала, не шевелилась, и эта окаменелость и молчание еще больше рассердили отца.
— Ты слышишь? Я хочу быть один и требую, чтобы ни одно слово из слышанного тобой не сорвалось у тебя с языка… Иди!
Вместо того чтобы повиноваться, Алиса медленно подошла ближе к отцу и сказала дрожащим голосои:
— Папа, мне надо поговорить с тобой.
— О чем? Уж не об этом ли вымогательстве? — грубо спросил Нордгейм. — Надеюсь, ты не станешь верить обманщику.
— Этот человек — не обманщик, — возразила девушка тем же дрожащим, сдавленным голосом.
— Нет? Кто же в таком случае я в твоих глазах?
Ответа не было. Все тот же застывший, полный страха взгляд по-прежнему был устремлен на лицо Нордгейма, он выражал осуждение, и Нордгейм не мог вынести его. Он с наглой дерзостью встретил своего обвинителя, но перед дочерью опустил глаза.
Между тем Алиса заговорила с все возрастающей твердостью:
— Я пришла сюда, чтобы признаться тебе, папа… сообщить об одном обстоятельстве, которое, вероятно, рассердило бы тебя… Теперь об этом не может быть и речи. Теперь мне надо только задать тебе один вопрос: дашь ли ты доктору Рейнсфельду удовлетворение, которого от тебя требуют?
— И не подумаю! Я остаюсь при прежнем решении.
— Так его дам я… вместо тебя.
— Алиса, ты с ума сошла? — воскликнул Нордгейм, смертельно испуганный, но она, не смущаясь, продолжала:
— Конечно, он не нуждается в твоем признании, потому что и без него знает правду… должно быть, знал ее уже давно. Теперь я понимаю, почему он вдруг так изменился, почему стал смотреть на меня так грустно и сострадательно и никак не хотел признаться, что тяготит его. Он все знает! И все-таки он проявлял ко мне только доброту и участие, сделал все, что мог, чтобы вернуть мне здоровье, мне, дочери человека, который…
Она запнулась и не договорила.
Нордгейм увидел, что Алису не проведешь, и понял, что надо отказаться от надежды запугать ее суровостью. Она приняла безумное решение, которое могло погубить его: необходимо было во что бы то ни стало обеспечить себе ее молчание.
— Я убежден, что доктор Рейнсфельд непричастен к этому делу, — сказал он более спокойным тоном, — и что он достаточно разумен, чтобы понимать смешную сторону подобных угроз. Что касается твоей сумасшедшей фантазии обратиться к нему, то я хочу верить, что ты говоришь не всерьез. Чем эта история касается тебя?
Молодая девушка выпрямилась, ее лицо приняло не присущее ему строгое выражение, и она твердо ответила отцу:
— Действительно, она должна была бы больше касаться тебя! Ты знал, что доктор живет тут неподалеку, перебивается со дня на день в жалкой, неблагодарной обстановке, и даже не подумал вознаградить его за то, что сделал его отцу. Жизнь и люди обошлись с ним сурово, осиротев еще ребенком, он был брошен на произвол судьбы, нуждался, может быть, даже голодал, когда был студентом, а ты наживал тем временем миллионы с помощью денег, принадлежащих, в сущности, ему, строил себе дворцы, жил в роскоши. Сделай, по крайней мере, то, что от тебя требует Гронау, ты должен сделать это, или я попытаюсь сделать это сама.
— Алиса! — крикнул Нордгейм, колеблясь между гневом и удивлением от того, что его дочь, кроткое, безвольное существо, никогда не смевшее противоречить ему, теперь буквально требует от него отчета. — Неужели ты не понимаешь, насколько это серьезно? Ты хочешь предать отца в руки его злейшего врага…
— Бенно Рейнсфельд — не враг тебе! — перебила его Алиса. — Если бы он был твоим врагом, то давно воспользовался бы своей тайной и потребовал бы от тебя совсем другого, не того, чего требует Гронау… потому что он любит меня!
— Рейнсфельд… тебя?
— Да, я знаю это, хотя он и не признавался мне в любви. Ведь я невеста другого, и он, который мог бы добиться всего, если бы требовал и угрожал, уезжает отсюда без единого слова угрозы, не требуя у тебя отчета, потому что хочет избавить меня от ужасного открытия, которое я все-таки сделала. Ты и представить себе не можешь, как велико благородство этого человека! Теперь я вполне знаю его.
Нордгейм молчал, к такой развязке он не был подготовлен. Не нужно было обладать особой проницательностью, чтобы убедиться, что любовь Бенно встретила взаимность, страстный порыв молодой девушки говорил достаточно ясно. Если Рейнсфельд знал историю отца, а в этом не оставалось больше сомнений, то действительно могло существовать только одно объяснение сдержанности и молчания в деле, так близко касавшемся его. Значит, можно надеяться, что он, боясь причинить горе любимому существу, не воспользуется выгодами, которые предоставляло ему знание тайны. Но в таком случае его вообще нечего бояться, отец девушки, которую он любит, застрахован его мести, а через него, вероятно, можно удержать и Гронау.
— Вот удивительная новость! — медленно проговорил он, не сводя взора с дочери. — И я узнаю обо всем только теперь? Ты говорила раньше о каком-то признании, что ты хотела мне сказать?
Горячий румянец залил бледное лицо Алисы.
— Что я не люблю Вольфганга, так же как и он меня, — тихо ответила она. — Я сама этого не знала, мне стало это ясно всего несколько дней назад.
Она с полной уверенностью ждала взрыва гнева, но его не последовало; напротив, голос отца звучал совсем иначе, необыкновенно кротко.
— Отчего у тебя нет доверия ко мне, Алиса? Ведь не стану же я принуждать свою единственную дочь к браку, к которому не лежит ее сердце. Но все надо обдумать, обсудить. Пока я требую только, чтобы ты не принимала никаких скоропалительных решений и предоставила мне найти выход. Положись на своего отца, ты останешься ним довольна.
Он наклонился, чтобы поцеловать Алису в лоб, но она вздрогнула и с ужасом уклонилась от его ласки.
— Что такое? — спросил Нордгейм, хмурясь. — Ты боишься меня или не веришь мне?
Она подняла на него грустный, обвиняющий взгляд, а ее обыкновенно мягкий голос прозвучал с неумолимой, суровой твердостью:
— Нет, папа, я не верю твоей любви и доброте. Я вообще не верю тебе… и никогда не поверю!
Нордгейм отвернулся, жестом приказав ей удалиться. Алиса молча вышла из комнаты. Она прекрасно понимала, что у отца и в мыслях не было выдать ее за доктора, что он без всяких угрызений совести намекал на такую возможность, чтобы устранить на первое время грозившую ему опасность. Но он ошибся в расчете: неопытная девушка видела его насквозь, и — странно! — этот бессердечный человек не мог вынести этого. Он сохранял самообладание, столкнувшись с гордым негодованием Вольфганга, и перед грозным натиском Гронау, испытывая только гнев да разве еще страх, теперь же в его душе в первый раз проснулся стыд. Если бы даже ему действительно удалось избежать опасности, он чувствовал в глубине души, что осужден, и произнесла над ним приговор его единственная дочь.
19
Работы на железной дороге подвигались вперед с лихорадочной быстротой. Нелегко было закончить все в назначенный короткий срок, но Нордгейм был прав, говоря, что главный инженер не будет щадить ни себя, ни своих подчиненных. Эльмгорст поспевал всюду, распоряжаясь, давая указания и служа для своих рабочих и инженеров примером неутомимой энергии. Когда он руководил делом, силы его подчиненных удваивались, и он действительно достигал цели: многочисленные постройки на всем протяжении горного участка были большей частью уже готовы, и Волькенштейнский мост был почти закончен.
Вольфганг вернулся из объезда. В Оберштейне он вышел из экипажа и отпустил его, собираясь пройти пешком последнюю часть дороги, чтобы осмотреть ее. Он остановился на спуске над Волькенштейнским ущельем и смотрел на рабочих, трудившихся на рельсовом пути и около решетки моста. Через несколько дней постройка моста будет завершена: уже теперь он вызывал общее удивление, а в следующем году им должны были восхищаться тысячи людей. Но его творец смотрел на него так мрачно, точно его уже не радовало собственное произведение.
Сегодня Эльмгорст уклонился от разговора с Нордгеймом и, не встретив его по приезде, дал ему понять, что остался при своем отказе, но избежать последнего объяснения было невозможно. Оба знали, что разрыв окончателен, Нордгейм едва ли мог пожелать, чтобы его зятем стал человек, который с таким презрением отказал ему в повиновении и от которого и в будущем он не мог ожидать поддержки своих планов. Вопрос сводился лишь к тому, каким образом они расстанутся, и в интересах обоих было придать разрыву по возможности деликатную форму. Только в этом им и следовало еще сговориться, и свидание должно было состояться завтра.
Стук копыт заставил Эльмгорста очнуться от мыслей; обернувшись, он увидел Эрну на горной лошади. Она остановилась, видимо, удивленная встречей.
— Вы уже вернулись, господин Эльмгорст? А мы думали, что ваша поездка займет целый день.
— Я кончил осмотр раньше, чем думал. Однако сейчас вы не можете продолжать путь: внизу взрывают скалу. Впрочем, это потребует немного времени, все закончится за десять минут.
Эрна и сама уже увидела препятствие. На дороге, проходившей в некотором расстоянии от моста, были расставлены сторожа, а кучка рабочих хлопотала вокруг большой каменной глыбы, которую, очевидно, и собирались взорвать.
— Я не тороплюсь, — равнодушно ответила она. — Все равно я собиралась подождать господина Вальтенберга, который просил меня ехать вперед, потому что неожиданно встретил Гронау. Но я не хочу уезжать слишком далеко.
Эрна опустила поводья и, по-видимому, тоже стала наблюдать за рабочими. В последнюю ночь погода резко изменилась, тяжелое серое небо низко нависло над землей, горы заволоклись туманом, в лесу шумел ветер; в одну ночь лето сменилось осенью.
— Мы увидим вас сегодня вечером, господин Эльмгорст? — прервала Эрна молчание, длившееся уже несколько минут.
— Мне очень жаль, но я не могу прийти: как раз сегодня вечером необходимо завершить спешную работу.
Этот старый предлог не встретил больше доверия. Эрна сказала с ударением:
— Должно быть, вы не знаете, что дядя приехал сегодня утром?
— Знаю, и уже велел передать ему мои извинения. Мы увидимся завтра.
— Алиса, кажется, нездорова. Правда, она не признается в этом и ни за что не соглашается, чтобы послали за доктором Рейнсфельдом, но когда она вышла сегодня из комнаты отца, то была так бледна и имела такой больной вид, что я испугалась.
Она как будто ждала ответа, но Эльмгорст молчал и пристально смотрел на мост.
— Вам следовало бы урвать минутку, чтобы навестить невесту, — продолжала Эрна с упреком.
— Я не имею больше права называть Алису своей невестой. Мы с господином Нордгеймом разошлись во взглядах так резко и глубоко, что примирение невозможно, и оба отказались от предполагавшегося союза.
— А Алиса?
— Она еще ничего не знает, по крайней мере, от меня. Очень может быть, что отец уже сообщил ей о разрыве; конечно, она подчинится его решению.
Сказанные слова лучше всего характеризовали странный союз, заключенный в сущности лишь между Нордгеймом и Эльмгорстом. Алису обручили, когда этого требовали их обоюдные интересы, теперь же, когда эти интересы больше не существовали, помолвку расторгли, даже не спросив невесту, само собой разумелось, что она подчинится. Эрна, по-видимому, тоже не сомневалась в последнем, но все же побледнела от неожиданности.
— Значит, дошло-таки до этого! — тихо сказала она.
— Да, дошло. От меня потребовали платы, которая оказалась слишком высокой для меня, и если бы я согласился на нее, то не мог бы смотреть в глаза людям. Мне предоставили на выбор то или другое, и я выбрал.
— Я знала и никогда не сомневалась, что так будет!
— По крайней мере, хоть этого вы ждали от меня? — с нескрываемой горечью сказал Вольфганг. — Я не надеялся.
Эрна не ответила, но посмотрела на него с упреком. Наконец, она нерешительно проговорила:
— И что же теперь?
— Теперь я опять там, где был год назад; путь, который вы так восторженно восхваляли мне когда-то, открыт передо мной, и я пойду по нему, но один, совсем один!
Эрна вздрогнула при последних словах, однако она явно не хотела понимать их и быстро возразила:
— Такой человек, как вы, никогда не бывает один, с ним его талант, его будущее, и оно перед вами, великое, необъятное!
— И мертвое и бесцветное, как вон те горы, — докончил Эльмгорст, указывая на осенний ландшафт, затянутый туманом. — Впрочем, я не имею права жаловаться: было время, когда лучезарное счастье само шло мне навстречу, я отвернулся от него и погнался за другой целью, тогда оно взмахнуло крыльями и улетело в недосягаемую даль, и если я теперь отдам за него даже жизнь, оно не вернется. Кто раз упустил его, того оно покидает навсегда.
В этом самообвинении слышалась мучительная боль, но у Эрны не нашлось ни слова возражения, ни взгляда, которого искали глаза Вольфганга; бледная и неподвижная, она смотрела в туманную даль. Да, теперь он знал, где его счастье, но было уже поздно.
Вольфганг подошел и положил руку на шею лошади.
— Эрна, один вопрос, прежде чем мы расстанемся навсегда. После разговора, который предстоит мне завтра с вашим дядей, я, разумеется, не переступлю больше порога его дома, а вы уедете с мужем далеко… Надеетесь ли вы быть счастливой с ним?
— По крайней мере, я надеюсь сделать счастливым его.
— Его! А вы сами? Не сердитесь!.. В моем вопросе нет больше себялюбивого стремления. Я уже слышал свой приговор из ваших уст, помните, в ту лунную ночь на Волькенштейне. Вы все равно потеряны для меня, даже если б были свободны, потому что никогда не простите мне того, что я добивался руки другой.
— Нет, никогда!
— Я знаю это, и именно потому хотел бы обратиться к вам с последним предостережением. Эрнст Вальтенберг — не такой человек, чтобы составить счастье женщины, ваше счастье: его любовь основана только на эгоизме, представляющем основную черту его натуры. Он никогда не спросит себя, не мучает ли он любимую женщину своей страстью. Как вы перенесете жизнь с человеком, для которого всякое стремление к высшему, все идеи, воодушевляющие вас, — лишь мертвые слова? И я когда-то выше всего ставил свое «я», но понял, наконец, что в жизни есть кое-что другое, лучшее, хотя мне пришлось дорого заплатить за науку. Вальтенберг же никогда этому не научится.
У Эрны задрожали губы, она уже давно знала это, но что толку было понимать? И для нее было уже слишком поздно.
— Вы говорите о моем женихе, — сказала она серьезно, — и говорите с его невестой. Прошу вас, ни слова больше.
— Вы правы, но это мое прощание, и вы должны извинить меня. Эрна молча наклонила голову и хотела повернуть лошадь назад, но на опушке леса показался Вальтенберг, приближавшийся крупной рысью. Он холодно обменялся с Эльмгорстом вежливым поклоном, а затем, после нескольких слов о погоде и о приезде Нордгейма, тоже заметил, что дорога не свободна.
— Рабочие непростительно долго копаются, — сказал Вольфганг, который был рад найти предлог избавиться от разговора. — Я пойду, потороплю их, через несколько минут вы сможете проехать.
Он быстро сбежал с откоса к месту, где производился взрыв, но, очевидно, там что-то не ладилось, потому что инженер, руководивший работой, подошел к начальнику с объяснением. Эльмгорст нетерпеливо пожал плечами и вошел в середину кучки рабочих, вероятно, чтобы осмотреть приготовления.
Тем временем Вальтенберг стоял на спуске рядом со своей невестой. Эрна спросила:
— Ты говорил с Гронау?
— Да, я высказал свое удивление по поводу того, что нахожу его здесь. Он не явился ко мне в Гейльборн по приезде и вообще не дал знать о своем возвращении. Вместо ответа он просил позволения поговорить со мной сегодня вечером: ему нужно сообщить мне что-то, по его словам, очень важное, касающееся и меня до известной степени. Интересно знать, что он скажет: вообще он не охотник до таинственности. Однако посмотри, Эрна, какие грозные, темные тучи собираются над Волькенштейном! Пожалуй, нас застигнет непогода во время прогулки.
— Едва ли сегодня будет что-нибудь, — возразила Эрна, мельком взглядывая на окутанную тучами гору. — Завтра или послезавтра — может быть. Период бурь, кажется, наступит в нынешнем году раньше обычного, последняя ночь дала нам первый образчик.
— Может быть, ваша фея Альп действительно обладает волшебными чарами, — сказал Эрнст как бы шутливо. — Эта вершина, почти никогда не сбрасывающая свое туманное одеяние, положительно околдовала меня: какая-то таинственная, неотразимая сила так и тянет приподнять покрывало гордой царицы и сорвать с ее уст поцелуй, в котором она отказывала всем до сих пор. Если попробовать взобраться с той стороны…
— Эрнст, ты обещал мне раз навсегда отказаться от безрассудной затеи, — перебила его Эрна.
— Успокойся, я сдержу слово, ведь я обещал тебе это тогда, когда мы ходили смотреть на костры в Иванову ночь.
— В Иванову ночь, — тихо и мечтательно повторила Эрна.
— Ты еще помнишь ту ночь, когда я сдался на твою просьбу? Я тогда твердо решил, что взберусь на Волькенштейн, и взобрался бы, во что бы то ни стало, но твои умоляющие глаза, твое восклицание «Мне страшно!» сломили мое упрямство. Неужели ты действительно боялась бы за меня, если бы я не послушался?
— Эрнст, что за вопрос?
— Тогда это еще не составляло твоей обязанности: я еще не был твоим женихом. — В голосе Вальтенберга опять послышалась прежняя мучительная подозрительность. — Вероятно, ты точно так же боялась бы за Зеппа или за Гронау, если бы они отважились на такое дело. Я же говорю о том всепоглощающем страхе, который люди испытывают только за любимого человека, который заставил бы меня, например, слепо, очертя голову броситься в опасность, если бы ей подверглась ты. Впрочем, тебе, конечно, не известно это ощущение.
— К чему воображать разные ужасы? Ты дал мне слово, следовательно, у меня нет причин бояться, а рассуждать о разных «если»…
Оглушительный грохот прервал речь Эрны. Под горой взлетели на воздух земля и камни: громадная скала раскололась на три части и обрушилась с глухим стуком, но тотчас вслед затем началась испуганная суета: рабочие опрометью бросились с моста к месту, где только что стоял главный инженер со своими подчиненными. Нельзя было различить, что именно случилось, видна была только густая толпа людей, из которой доносились растерянные, испуганные возгласы.
Но среди этого шума раздался крик, который могут вырвать из груди только отчаяние и смертельный страх, и когда Эрнст обернулся, то увидел, что его невеста, бледная, как мел, остановившимися глазами смотрит на то место, где случилось несчастье.
— Эрна! — вскрикнул он, но она не слышала и рванула лошадь. Животное, испуганное грохотом, не хотело идти, однако сильный удар хлыста принудил его к повиновению, и в следующее мгновение лошадь и всадница вихрем ринулись вниз по крутому спуску, прямо к рабочим.