Сердца в Атлантиде Кинг Стивен
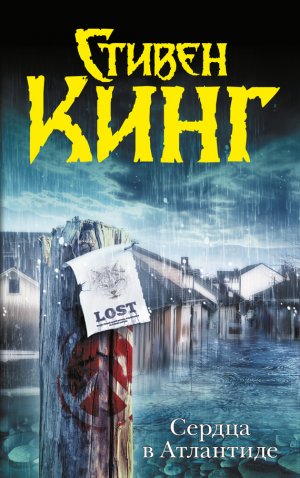
Теперь очередь Уилока перестать дышать. А когда он обретает дыхание, пых-пых-пых в ухе Уилли превращается в ураган: губы полицейского почти касаются его кожи.
— Это ты про что? — шепчет он. Ладонь ложится на плечо полевой куртки Слепого Уилли. — Нет, ты скажи мне, какого хрена ты несешь?
Но Слепой Уилли продолжает молчать, руки опущены по швам, голова чуть приподнята, внимательный взгляд устремлен в темноту, которая рассеется только, когда свет дня почти угаснет, а на его лице то отсутствие всякого выражения, в котором многие прохожие видят сокрушенную гордость, мужество, почти сломленное, но все еще живое.
«Не стоит, офицер Уилок, — думает он. — Лед под вами совсем истончился. Может, я и слепой, но вы-то и вовсе глухой, если не слышите, как он трещит у вас под ногами».
Рука у него на плече слегка его встряхивает. Пальцы Уилока впиваются в его кожу.
— У тебя есть приятель, сукин ты сын? И потому завел чертову манеру совать конверт чуть не в открытую? Твой приятель меня снимает, так?
Слепой Уилли продолжает ничего не говорить; Джасперу, Красе Полиции, он теперь читает проповедь молчания. Люди вроде офицера Уилока всегда подозревают самое скверное, если им не мешать. Дать им время — и все.
— Ты со мной, хрен, в игрушки не играй, — говорит Уилок злобно, но в голосе его проскальзывает обертон тревоги, и рука на куртке Слепого Уилли разжимается. — С января переходим на четыре сотни в месяц, а если попробуешь со мной в игрушки играть, я тебе покажу настоящую игротеку. Понял?
Слепой Уилли не говорит ничего. Воздух перестает бить порывами ему в ухо, и он понимает, что Уилок собрался уйти от него. Но, увы, еще не совсем, потому что мерзкие пых-пых-пых возобновляются.
— Будешь гореть в аду за то, чем занимаешься, — говорит ему Уилок. И говорит он с величайшей, почти лихорадочной искренностью. — То, что делаю я, когда беру твои грязные деньги, это грех, но простительный — я спрашивал у падре, и это точно, — а вот твой грех, он смертный. Ты отправишься в ад и увидишь, сколько подаяний ты там насобираешь.
Слепой Уилли думает о куртке, которую Уилли и Билл иногда видят на улице. На спине карта Вьетнама, и обычно годы, которые владелец куртки провел там, и еще вот такое заявление: «КОГДА УМРУ, Я ВОЗНЕСУСЬ ПРЯМО НА НЕБО, ПОТОМУ ЧТО Я УЖЕ ОТБЫЛ СВОЕ ВРЕМЯ В АДУ». Он мог бы передать эту весть полицейскому Уилоку, но толку никакого не будет. Молчание куда доходчивее.
Уилок удаляется, и мысль Уилли — что он рад этому, вызывает на его губах редкую улыбку. Она появляется и исчезает, как солнечный луч в пасмурный день.
1.40 дня
Три раза он свертывал купюры в рулончики и сбрасывал монеты с фальшивого дна на настоящее (это просто удобства ради, а не для того, чтобы их прятать) и теперь работает исключительно на ощупь. Он больше не видит денег, не отличает доллар от сотни, но чувствует, что день у него выдался на редкость удачный. Однако никакого удовольствия эта уверенность ему не доставляет. Он редко его испытывает — Слепой Уилли удовольствия не ищет, — но ощущение чего-то достигнутого, которое он испытал бы в другой день, подавлено разговором с полицейским Уилоком.
Без четверти двенадцать из «Сакса», как почти каждый день в это время, выходит молодая женщина с красивым голосом (Билли она напоминает Дайану Росс) — у нее в руке чашка горячего кофе для него. В четверть первого другая женщина — не такая молодая и, вероятно, белая — приносит ему чашку с исходящей паром куриной лапшой. Он благодарит их обеих. Белая чмокает его в щеку и желает ему счастливейшего счастливого Рождества.
Однако у дня есть и уравновешивающая изнанка, как случается почти всегда. Около часа подросток с невидимой компанией приятелей, хохочущих, острящих, дурачащихся вокруг него, сообщает Слепому Уилли из темноты слева от него, что он косорылый мудак, а потом спрашивает, не потому ли он в перчатках, что обжег пальцы, когда попробовал почитать горячую вафельницу. Он и его дружки убегают, завывая от смеха над этой бородатой шуточкой. Минут пятнадцать спустя кто-то пинает его ногой, хотя, быть может, и нечаянно. Всякий такой раз он наклоняется к чемоданчику, но чемоданчик на месте. Это город мошенников, грабителей и воров, но чемоданчик на месте, как всегда был на месте и прежде.
И пока происходит все это, он думает об Уилоке.
С полицейским, который был здесь до Уилока, затруднений не возникало; с тем, который будет тут, когда Уилок уйдет из полиции или его переведут в другой район, тоже, наверное, затруднений не возникнет. Рано или поздно Уилок слиняет, сгорит или подорвется: это он тоже узнал в зарослях, а пока Слепой Уилли должен гнуться, как тростинка на ветру. С той только разницей, что и самая гибкая тростинка ломается, если ветер очень сильный.
Уилок требует больше денег, но не это тревожит мужчину в темных очках и полевой куртке: рано или поздно они все требуют больше денег. Когда он только обосновался на этом углу, полицейскому Хэнретти он платил сотню с четвертью. Хэнретти был из тех, кто сам живет и другим жить дает, и от него веяло «Олд спайс» и виски, ну совсем как от Джорджа Реймера, участкового полицейского детства Уилли Ширмена. Однако перед тем, как уйти в отставку в 1978 году, покладистый Эрик Хэнретти брал со слепого Уилли по двести долларов в месяц. Соль была в том — усеките, братья мои, что Уилок утром исходил злобой, да, ЗЛОБОЙ, и Уилок сказал, что советовался с падре. Вот что его тревожит, однако больше всего он встревожен обещанием Уилока выследить его. «Посмотреть, что ты станешь делать. В кого превратишься. Гарфилд не твоя фамилия. Ставлю доллары против пышек».
«Большая ошибка лезть на истинно кающегося, офицер Уилок, — думает Уилли. — Лезть на мою жену и то было бы для вас безопаснее, чем трогать мою фамилию. Куда безопаснее».
И все-таки Уилок может выполнить свою угрозу. Что проще, чем выследить слепого или даже того, чьи глаза различают не только тени? Проще, чем выследить, как он зайдет в какой-нибудь отель и скроется в мужском туалете? Выследить, как он войдет в кабинку Слепым Уилли Гарфилдом, а выйдет Уилли Ширменом? А что, если Уилок сможет выследить его от Уилли до Билла?
Эти мысли возвращают его к утреннему паническому страху, к ощущениям змеи, сменившей кожу и еще не свыкшейся с новой. Опасения, что его засняли в момент получения взятки, поостудит Уилока на некоторое время, но если он сильно зол, нельзя предвидеть, как он поступит. И это кошмар.
— Бог да поможет тебе, солдат, — доносится голос из темноты. — Жалею, что не могу дать больше.
— Ничего, сэр, — говорит Слепой Уилли, но мыслями он все еще с Джаспером Уилоком, который душится дешевым одеколоном и разговаривал с падре о слепом с картонкой, о слепом, который, по мнению Уилока, и не слепой вовсе. Что он сказал: «Отправишься в ад и увидишь, сколько подаяний там насобираешь». — Самого счастливого Рождества, сэр, спасибо, что помогли мне.
И день продолжается.
4.25 дня
Его зрение начинает возвращаться — смутное, нечеткое, но уже надежное. Это сигнал, что ему пора сворачиваться и уходить.
Он становится на колени, держа спину прямой, как штык, и снова кладет палку за чемоданчиком. Надевает резинку на последние банкноты, сваливает их и последние монеты на дно чемоданчика, затем укладывает туда бейсбольную перчатку и украшенную канителью картонку. Защелкивает чемоданчик и встает, держа палку в другой руке. Теперь чемоданчик стал очень тяжелым и оттягивает ему руку металлом, насыпанным в него от чистого сердца. Слышится густое побрякивание — монеты перекатываются лавиной в новое положение, а затем замирают в беззвучной неподвижности, будто руда глубоко под землей.
Он идет по Пятой авеню, покачивая чемоданчиком в левой руке, будто якорем (за долгие годы он привык к его весу и в случае необходимости мог бы пройти с ним куда дальше, чем ему предстоит сегодня), держа палку в правой и изящно постукивая ею по тротуару перед собой. Палка эта волшебная — она обеспечивает овальный карман пустого пространства перед ним на кишащем толпами тротуаре. К тому времени, когда он доходит до угла Сорок Третьей, он уже видит это пространство. Видит он и вспыхивающий сигнал «стоп!» на Сорок второй, но продолжает идти, позволив хорошо одетому длинноволосому человеку с золотыми цепочками ухватить его за плечо.
— Осторожнее, любезный, — говорит длинноволосый. — Идут машины.
— Благодарю вас, сэр, — говорит Слепой Уилли.
— Не стоит благодарности. Счастливого Рождества.
Слепой Уилли проходит мимо сторожевых львов Публичной библиотеки, оставляет за собой еще два квартала и сворачивает на Шестую авеню. Никто его не останавливает, никто не маячил поблизости весь день, наблюдая, как он собирает подаяния, для того чтобы потом пойти за ним, выжидая удобного случая выхватить чемоданчик и убежать (не то чтобы многим ворам удалось бы убежать с ним — нет, только не с этим чемоданчиком). Однажды, уже давно, летом семьдесят девятого двое-трое парней, возможно черных (сказать наверняка он не мог, но их голоса звучали, как у черных — зрение в тот день к нему возвращалось медленно, как обычно в теплое время года, когда дни длиннее), остановили его и заговорили с ним в манере, которая ему не понравилась. Не как нынче мальчишки с их шуточками о чтении вафельницы и предположениями, как выглядит вклейка «Плейбоя», набранная шрифтом Брайля. Они говорили тише и даже как-то жутковато-ласково — вопросы, сколько он собрал у святого Пата, и не расщедрится ли он случаем на пожертвование какой-то Лиги поло, и не нуждается ли он в сопровождении до автобусной остановки, или вокзала, или куда-нибудь еще. Один, возможно, будущий сексолог, спросил, не требуется ли ему иногда молоденькая подстилочка. «Это вас взбодрит, — сказал голос слева от него тихо, почти томно. — Да, сэр, уж в это-то дерьмо вы верите».
Он чувствовал себя так, как, наверное, должна чувствовать себя мышь, когда кошка только еще мнет ее мягкими лапами, не выпуская когтей, желая узнать, что сделает мышь, и как быстро она побежит, и как будет пищать от нарастающего ужаса. Однако ужаса Слепой Уилли не испытывал. Страх — да, конечно, вы могли с полным правом сказать, что он испугался, — но всепоглощающего ужаса он не испытывал со времени своей последней недели в зелени, той недели, которая началась в долине А-Шау и кончилась в Донг-Ха, той недели, когда вьетконговцы непрерывно оттесняли их на запад, одновременно нападая с флангов — гнали их, словно скот, между двумя изгородями, непрерывно вопя с деревьев, иногда хохоча в джунглях, иногда стреляя, иногда пронзительно вопя по ночам. «Человечки, которых тут нет» — как их называл Салливан. Здесь нет ничего и отдаленно похожего — даже самый слепой его день на Манхэттене не так темен, как ночи после того, как они потеряли капитана. В этом было его преимущество и просчет парней. Он просто повысил голос и заговорил так, как может заговорить человек в большой комнате, обращаясь к многочисленным друзьям: «Эй! — воскликнул он, обращаясь к призрачным теням, которые медленно скользили мимо него по тротуару. — Эй, кто-нибудь не видит поблизости полицейского? По-моему, эти ребята задумали утащить меня с собой». И все. Легче, чем отделить дольку от очищенного апельсина: парни, взявшие его в кольцо, внезапно исчезли, как дуновение прохладного ветерка.
Если бы столь же просто он мог отделаться и от полицейского Уилока!
4.40 дня
«Шератон-Готэм» на углу Сороковой и Бродвея входит в число самых больших первоклассных отелей мира, и в огромной пещере его вестибюля под гигантской люстрой косяками взад и вперед движутся тысячи людей. Здесь они гонятся за своими удовольствиями, там выкапывают свои клады, не замечая ни рождественской музыки, льющейся из усилителей, ни гула разговоров в трех ресторанах и пяти барах, и в роскошных лифтах, скользящих вверх-вниз в шахтах-нишах, будто поршни какой-то экзотической стеклянной машины… ни слепого, который постукивает палкой между ними, пробираясь к саркофагообразному мужскому туалету, величиной почти со станцию подземки. Он идет, повернув наклейку на чемоданчике к себе, и он настолько неприметен, насколько может быть слепой. А в этом городе, значит, очень и очень неприметен.
«Тем не менее, — думает он, входя в кабинку, снимая куртку и выворачивая ее, — как случилось, что за все эти годы никто не попытался меня выследить? Никто ни разу не заметил, что слепой, который входит, и зрячий, который выходит, одного телосложения, с одним и тем же чемоданчиком в руке?»
Ну, в Нью-Йорке почти никто не замечает того, что не касается его или ее прямо — по-своему они все так же слепы, как Слепой Уилли. Покидая свои кабинеты и приемные, наводняя тротуары, заполняя платформы подземки и дешевые рестораны, они производят отталкивающее и печальное впечатление; они — точно кротовые гнезда, вывернутые плугом фермера. Он наблюдал их слепоту снова и снова и знает, что в ней — причина его успеха… но, конечно же, не единственная. Они ведь не все — кроты, а он бросает кости уже очень долгое время. Конечно, принимает меры предосторожности, это так — много всяких мер, но бывают моменты (вроде этого, когда он сидит тут со спущенными штанами), когда его так легко поймать, так легко ограбить, так легко изобличить! Уилок прав насчет «Пост», они бы в него вцепились, вздернули выше Амана. Им никогда не понять… они даже не хотят понимать, выслушать его сторону вопроса. Какую сторону? И почему ничего такого не случилось ни разу?
Он верит: по велению Бога. Потому что Бог добр, Бог суров, но он добр. Он не в силах заставить себя исповедаться, но Бог словно бы понимает его. Покаяние требует времени, но время ему дано. Бог сопутствовал каждому его шагу.
В кабинке, все еще в промежутке между своими ипостасями, он закрывает глаза и молится: сначала возносит благодарение, потом молит об указаниях, потом снова возносит благодарение. Как всегда, он завершает молитву шепотом, слышным только ему и Богу:
— Если я умру в зоне боевых действий, засунь меня в мешок и отправь домой, если я умру в состоянии греха, закрой Свои глаза и прими меня. Угу. Аминь».
Он выходит из кабинки, выходит из туалета, покидает многоголосый водоворот «Шератон-Готэма», и никто не останавливает его, никто не говорит: «Извините, сэр, но разве вы не были только что слепы?» Никто не смотрит на него, когда он выходит на улицу, неся тяжелый чемоданчик так, будто он весит двадцать фунтов, а не пятьдесят. Бог хранит его.
Сыплет снег. Он медленно идет под хлопьями — снова Уилли Ширмен — и часто перекладывает чемоданчик из одной руки в другую. Еще один усталый прохожий на исходе дня. На ходу он продолжает думать о своей необъяснимой удаче. В Евангелии от Матфея есть стих, который он выучил наизусть: «Они — слепые поводыри слепых, — говорится в нем, — а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». А еще есть старая пословица, что в стране слепых одноглазый — король. Так не он ли одноглазый? Если оставить Бога в стороне, не тут ли скрыта практическая причина его успеха все эти годы?
Может, да, а может, нет. В любом случае он был храним… и ни в коем случае он не оставит Бога в стороне. Бог неотъемлем от общей картины его жизни. Бог пометил его в 1960 году, когда он сначала помог Гарри Дулину подразнить Кэрол, а потом помог Гарри Дулину избить ее. Это согрешение никогда не исчезало из его памяти. То, что произошло среди деревьев неподалеку от поля Б, знаменует все остальное. Он даже хранит перчатку Бобби Гарфилда, как напоминание. Уилли не знает, где теперь Бобби, да его это и не интересует. Кэрол он не терял из виду, пока мог, а Бобби никакого значения не имел. Бобби утратил всякое значение, когда помог ей. Уилли видел, как он ей помог. Сам он не посмел пойти туда и помочь ей — боялся того, что с ним сделает Гарри Дулин, боялся всех ребят, которым Гарри мог рассказать, боялся стать меченым — а Бобби не побоялся. Бобби помог ей тогда, Бобби покарал Гарри Дулина в то же лето, только позже, и за то, что он сделал все это (вероятно, просто за первое, за помощь ей), Бобби достиг, Бобби преодолел. Он сделал то, что Уилли не посмел сделать, он взялся и преодолел, и достиг, а теперь Уилли должен сделать все остальное. А сделать надо так много… Покаяние — это сверхурочная работа и даже больше. Вот ведь, хотя все три его ипостаси несут епитимью, он еле справляется.
И все-таки он не может сказать, что живет в сожалениях. Иногда он думает о добром разбойнике, о том, который в тот же вечер был с Христом в раю. В пятницу днем истекаешь кровью на Голгофе, каменистом холме; вечером вместе с Царем запиваешь чаем сладкие булочки. Иногда кто-то пинает его, иногда кто-то толкает его, иногда он тревожится, что его заберут. Ну и что? Разве он не стоит там за всех тех, кто способен только стоять в тени, когда творится зло? Разве он не просит подаяния ради них? Разве ради них он в 1960 году не взял бейсбольную перчатку Бобби, перчатку Алвина Дарка? Он взял ее. Господислави его, он взял перчатку. А теперь они кладут в нее деньги, пока он безглазый стоит перед собором. Он просит подаяния ради них.
Шэрон знает… что, собственно, знает Шэрон? Кое-что, да. Но сколько, он сказать не может. Во всяком случае, достаточно, чтобы купить канитель; достаточно, чтобы сказать ему, что он выглядит очень мило в своем костюме от Пола Стюарта и модном синем галстуке; достаточно, чтобы пожелать ему удачного дня и напомнить про яичный коктейль. Этого достаточно. Все прекрасно в мире Уилли — за исключением Джаспера Уилока. Что ему делать с Джаспером Уилоком?
«Надо бы как-нибудь вечерком последить, куда ты пойдешь отсюда», — пыхтит ему на ухо Уилок, пока Уилли перекладывает наливающийся тяжестью чемоданчик из одной руки в другую. Ноют уже оба плеча, и он будет рад, когда доберется до своего здания. «Посмотреть, что ты станешь делать. Посмотреть, в кого превратишься».
— Ну что ему делать с Джаспером, Красой Полиции? Что он, собственно, МОЖЕТ сделать?
Он не знает.
5.15 дня
Паренек в грязной красной куртке с капюшоном давно ушел, его место занял еще один уличный Санта. Уилли сразу узнает молодого пузанчика, опускающего доллар в котелок Санты.
— Э-эй, Ральфи! — окликает он его.
Ральф Уильямсон оборачивается, его лицо озаряется — он узнает Уилли — и он приветственно поднимает руку в перчатке. Снег уже валит вовсю. Окруженный яркими фонарями, рядом с Санта-Клаусом Ральф выглядит как центральная фигура на рождественской открытке. А может быть, как современный вариант диккенсовского персонажа.
— Э-эй, Уилли, как дела-делишки?
— Лучше некуда, — говорит Уилли, подходя к Ральфу с веселой улыбкой на лице. Крякнув, он ставит чемоданчик на землю, шарит в кармане брюк, нащупывает доллар для котелка Санты. Вероятно, еще один мошенник, и котелок у него проеденный молью кусок дерьма, но какого черта?
— Что у тебя там? — спрашивает Ральф, теребя шарф и поглядывая вниз на чемоданчик Уилли. — Гремит так, будто ты ограбил копилку зазевавшегося малыша.
— Не-а, просто нагревательные спирали, — говорит Уилли. — Тысяча штук.
— Работаешь по самое Рождество?
— Угу, — говорит он, и тут его вроде как осеняет насчет Уилока. Просто стукнуло и тут же пропало. Но все равно есть с чего начинать. — Угу, по самое Рождество. Нет мира нечестивым, слышал такое?
Широкая симпатичная физиономия Ральфа сморщивается в улыбке.
— Сомневаюсь, что ты такой уж нечестивый.
Уилли улыбается в ответ.
— Ты понятия не имеешь, Ральфи, какое зло таит сердце специалиста по обогреву и охлаждению. А вот после Рождества наверное передохну несколько дней… Пожалуй, отличная мысль.
— Поедешь на юг? Во Флориду?
— На юг? — Уилли слегка теряется, потом смеется. — Кто-кто, только не я. У меня дома работы по горло. Человеку следует содержать свой дом в порядке. Не то в один прекрасный день подует свежий ветерок, и крыша рухнет ему на голову.
— Ну, может быть, — Ральф вздергивает шарф повыше к ушам. — Увидимся завтра?
— Само собой, — говорит Уилли и протягивает руку в перчатке ладонью вверх. — Давай пять!
Ральфи дает пять, потом переворачивает свою ладонь.
— Дай десять, Уилли.
Уилли дает ему десять.
— Значит, хорошо, Ральфи-беби?
Застенчивая улыбка мужчины превращается в ликующую мальчишечью ухмылку.
— Так чертовски хорошо, что я должен повторить! — восклицает он и хлопает по руке Уилли с властной уверенностью.
Уилли смеется.
— Ты настоящий мужчина, Ральф. Достиг.
— И ты настоящий мужчина, Уилли, — отвечает Ральф с чопорной серьезностью, довольно смешной. — Счастливого Рождества.
— И тебе того же с кисточкой.
Он секунду стоит неподвижно, следя, как Ральф уходит в кружащемся снегу. Рядом с ним уличный Санта монотонно звонит в свой колокольчик. Уилли поднимает чемоданчик и поворачивается к двери своего здания. Тут ему что-то бросается в глаза, и он останавливается.
— У тебя борода набок съехала, — говорит он Санте. — Если хочешь, чтобы люди в тебя верили, поправь свою трахнутую бороду.
Он входит в здание.
5.25 дня
В чулане «Обогрева и охлаждения» стоит большая картонка. Она полна матерчатых мешочков, таких, какие банки используют под мелочь. На них обычно напечатано название банка, но эти чистые. Уилли заказывает их прямо в фирме-производительнице в Маундсвилле, Западная Виргиния.
Он открывает чемоданчик, быстро откладывает в сторону рулончики банкнот (их он унесет домой в дипломате Марка Кросса), затем набивает четыре мешочка монетами. В дальнем углу чулана старый видавший виды металлический шкафчик с краткой надписью «ЗАПЧАСТИ». Уилли распахивает дверцу, замка нет, так что отпирать его не требуется. Внутри еще около ста мешочков с монетами. Десяток раз в год они с Шэрон объезжают церкви центрального района и проталкивают эти мешочки в щели для пожертвований или в дверцы для пакетов, если они туда пролезают, или просто оставляют у дверей, если нет. Львиная доля всегда достается св. Пату, где он стоит день за днем в темных очках и с картонкой на шее.
Но не каждый день, думает он, раздеваясь. Мне не обязательно стоять там каждый день, и он снова думает, что, может быть, после Рождества Билл, Уилли и слепой Уилли Гарфилд отдохнут неделю. И за эту неделю, глядишь, и отыщется способ сладить с полицейским Уилоком. Заставить его убраться. Кроме, конечно…
— Убить я его не могу, — говорит он тихим ворчливым голосом. — Я обложусь, если убью его.
Только тревожит его не это. БУДУ ПРОКЛЯТ — вот, что его тревожит. Убивать во Вьетнаме было другим делом — или казалось другим, но тут-то не Вьетнам, но тут-то не зелень. Разве все эти годы покаяния он нес свое бремя только для того, чтобы перечеркнуть их? Бог испытывает его, испытывает его, испытывает его. Ответ есть. Он знает, что есть. Ответ должен быть. Он попросту — ха-ха, извините за каламбурчик — слишком слеп, чтобы увидеть его.
Да сможет ли он хотя бы отыскать самодовольного прыща? Бля, само собой, это не проблема. Он может достать Джаспера, Красу Полиции, без всякого труда. В любое время. Проследить его до места, где он снимает пистолет и ботинки, и задирает ноги на подушку. Но что потом?
Над этим он ломает голову, пока кольдкремом снимает грим, а затем отбрасывает все заботы. Достает из ящика тетрадь ноябрь — декабрь, садится за стол и двадцать минут пишет: «Я сожалею от всего сердца, что причинил боль Кэрол». Он заполняет целую страницу от верхней строчки до нижней, от левого поля до правого. Убирает тетрадь и надевает одежду Билла Ширмена. Он убирает сапоги Слепого Уилли, и его взгляд падает на альбом в красном кожаном переплете. Он вынимает его, кладет на картотечный шкафчик и откидывает переднюю крышку с единственным словом — «ВОСПОМИНАНИЯ» — вытесненным золотом.
На первой странице метрика — Уильям Роберт Ширмен, родился 4 января 1946 года — и отпечатки его крошечных ножек. На следующих страницах фотографии его с матерью, его с отцом (Пат Ширмен улыбается, будто никогда не опрокидывал стульчик сына вместе с ним и никогда не бил жену пивной бутылкой), фотография его с друзьями. Особенно полно представлен Гарри Дулин. На одном снимке восьмилетний Гарри с завязанными глазами пытается съесть кусок торта на дне рождения Уилли (наверное, штраф за какой-то проигрыш). Щеки у Гарри все в шоколаде, он хохочет, и кажется, будто у него в голове нет места ни для единой подлой мысли. При виде этого смеющегося чумазого лица с повязкой на глазах Уилли вздрагивает. Вот так вздрагивает он почти всегда.
Быстро переворачивает страницу и пролистывает альбом ближе к концу, к фотографиям Кэрол Гербер и газетным вырезкам о ней, которые он собирал много лет: Кэрол с матерью, Кэрол с новорожденным братиком на руках нервно улыбается, Кэрол с отцом (он в синей морской форме курит сигарету, она глядит на него широко раскрытыми завороженными глазами), Кэрол в группе поддержки в старшем классе харвичской школы, снятая в прыжке — одна рука взмахивает шапочкой с помпоном, другая придерживает гофрированную юбку. Кэрол и Джон Салливан на украшенных фольгой тронах на школьном вечере в 1965 году, когда их избрали Снежной Королевой и Снежным Королем. Ну, просто сахарная парочка на свадебном торте — Уилли думает это всякий раз, когда смотрит на пожелтевший газетный снимок. На ней платье без бретелек, ее плечи безупречны. Нет никакого намека на то, что когда-то на короткое время левое было чудовищно обезображено и торчало двойным горбом злой колдуньи. Она кричала и до этого, последнего удара, сильно кричала, но простых криков Гарри Дулину было мало. В этот последний раз он размахнулся от пяток, и удар биты по ее плечу прозвучал, как удар колотушки по еще не оттаявшему куску мяса, и вот тогда она завопила, завопила так громко, что Гарри сбежал, даже не оглянувшись проверить, бегут ли за ним Уилли и Ричи О'Мира. Удрал старина Гарри Дулин — улепетывал, как вспугнутый кролик. Но что, если бы он остался? Предположим, Гарри не убежал бы, а сказал: «Держите ее ребята. Не желаю слушать визга, и она у меня замолчит», намереваясь снова ударить от пяток и на этот раз по голове? СТАЛИ БЫ они ее держать? Держать для него даже тогда?
«Ты знаешь, что да, — угрюмо думает он. — К покаянию ты себя приговорил не только за то, что сделал, но и за то, чего не сделал лишь случайно. Так?»
Вот Кэрол Гербер в платье, сшитом в честь окончания школы; фотография подписана «Весна 1966». На следующей странице вырезка из харвичской «Джорнэл» с подписью «Осень 1966». На фотографии опять она, но эта Кэрол, кажется, на миллион лет ушла от чинной девочки в выпускном платье, чинной девочки с аттестатом в руке, белых туфельках на ногах и со скромно потупленными глазами. Эта девушка пылает огнем и улыбается, эти глаза смотрят прямо в объектив. Она словно не замечет, что по ее левой щеке течет кровь. Она держит перед собой знак мира. Эта девушка уже на пути в Данбери, эта девушка уже в туфельках для танцев в Данбери. Люди умирали в Данбери, кишки вываливались, беби; и Уилли не сомневается, что отчасти ответственность лежит на нем. Он прикасается к огненной, улыбающейся, окровавленной девушке с плакатом «ОСТАНОВИТЕ УБИЙСТВА!» (только вместо того чтобы остановить их, она стала причастной к ним) и знает, что в конце только ее лицо имеет значение, ее лицо — дух того времени. 1960-й — это дым, а здесь огонь. Здесь Смерть с кровью на щеке и улыбкой на губах, и плакатом в руке. Здесь доброе старое данберийское безумие.
Следующая вырезка — первая страница данберийской газеты целиком. Он сложил ее втрое, чтобы она уместилась в альбоме. Самое большое из трех фото — вопящая женщина на середине мостовой, поднимающая вверх окровавленные руки. Позади нее кирпичное здание, которое треснуло, как яйцо. «Лето 1970» написал он снизу.
6 ПОГИБЛО, 14 РАНЕНО ПРИ ВЗРЫВЕ БОМБЫ В ДАНБЕРИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЗЯЛА НА СЕБЯ РАДИКАЛЬНАЯ ГРУППИРОВКА
«НИКТО НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ ПОСТРАДАТЬ», —
ЗАЯВИЛА ПОЗВОНИВШАЯ В ПОЛИЦИЮ ЖЕНЩИНА.
Группировка «Воинствующие студенты за мир», как они себя называют — подложила бомбу в лекционном зале студгородка Университета Коннектикута в Данбери. В день взрыва там между 10 утра и 4 дня проводили собеседование представители «Коулмен кемикалс». Видимо, взрыв намечался на шесть утра, когда в здании никого не бывает. Но бомба не взорвалась. В восемь часов, а потом в девять кто-то (предположительно кто-то из ВСМ) звонил в службу безопасности университета и сообщал о бомбе в лекционном зале на первом этаже. Был произведен поверхностный обыск, эвакуация здания произведена не была. «Восемьдесят третье предупреждение о бомбе за этот год!» — сказал неназванный охранник. Бомба обнаружена не была, хотя ВСМ позднее категорически настаивали, что место ее нахождения было точно указано — вентиляционная шахта с левой стороны зала. Есть сведения (неопровержимые для Уилли Ширмена, если не для других), что в четверть первого во время перерыва в собеседовании некая молодая женщина попыталась — с большим риском для собственной жизни и здоровья — собственноручно извлечь бомбу. Она провела примерно десять минут в опустевшем зале, прежде чем ее почти насильно увел оттуда молодой человек с длинными черными волосами. Видевший их уборщик позднее опознал в мужчине Реймонда Фиглера, главу ВСМ. Молодую женщину он опознал как Кэрол Гербер.
В этот день без десяти два бомба наконец взорвалась. Господислави живых. Господислави мертвых.
Уилли переворачивает страницу. Заголовок из «Оклахомен» Оклахома-Сити, апрель 1971 года.
3 РАДИКАЛА УБИТЫ В ПЕРЕСТРЕЛКЕ У ДОРОЖНОГО ЗАГРАЖДЕНИЯ
«Крупная рыба» могла ускользнуть на несколько минут раньше
Утверждает агент ФБР Тэрмен
Крупная рыба — Джон и Салли Макбрайд, Чарли «Дак» Голден, неуловимый Реймонд Фиглер и… Кэрол. Иными словами, уцелевшие члены ВСМ. Макбрайды и Голден погибли в Лос-Анжелесе шесть месяцев спустя: кто-то в доме продолжал стрелять и бросать гранаты, пока здание пылало. Внутри обгоревших стен Фиглер и Кэрол обнаружены не были, однако полицейские эксперты нашли большое количество крови, группа которой была установлена как АВ, положительный резус-фактор. Очень редкая группа крови. Группа крови Кэрол Гербер.
Умерла или жива? Жива или умерла? Не проходит дня, чтобы Уилли не задал себе этот вопрос.
Он переворачивает следующую страницу альбома, зная, что надо остановиться, что надо вернуться домой — Шэрон будет волноваться, если он даже позвонит (он обязательно позвонит, позвонит из вестибюля; она права: он очень надежный), но остановиться прямо сейчас он не может.
Заголовок над фотографией черного черепа сгоревшего дома на Бенефит-стрит из лос-анджелесской «Таймс»:
3 ИЗ «ДАНБЕРИ 12» ПОГИБЛИ В ВОСТОЧНОМ
Л.-А. ПОЛИЦИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ДОБРОВОЛЬНОЕ УБИЙСТВО-САМОУБИЙСТВО
ТОЛЬКО ФИГЛЕР, ГЕРБЕР НЕ ОБНАРУЖЕНЫ.
Впрочем полицейские считали, что Кэрол все-таки погибла. Статья не оставляла никаких сомнений. В то время и Уилли поверил, что это так. Столько крови. Но вот теперь…
Умерла или жива? Жива или умерла? Иногда у него в сердце что-то шептало, что кровь значения не имеет, что она выбралась из этого дощатого домишки задолго до заключительных актов безумия. А иногда он верил в то, во что верила полиция — что она и Фиглер ускользнули от остальных после начала стрельбы, но до того, как дом был окружен, и что она либо умерла от ран, полученных в этой перестрелке, либо была убита Фиглером, так как стала для него обузой. Если верить этой версии, огненная девушка с кровью на лице и знаком мира в руке скорее всего теперь скелет, поджаривающийся в пустыне где-то к востоку от Солнца и к западу от Тонопа.
Уилли прикасается к снимку выгоревшего дома на Бенефит-стрит… и внезапно вспоминает имя — имя человека, который, возможно, помешал Донг-Ва стать второй Ми-Лае или Ми-Кхе. Слоуком. Вот как его звали. Это точно. Будто почернелые балки и разбитые окна прошептали ему это имя.
Уилли закрывает альбом и убирает альбом. Он в мире сам с собой. Приводит в порядок то, что еще нужно привести в порядок в конторе «Междугородного обогрева и охлаждения», затем осторожно спускается в люк, нащупывает ногой верх стремянки. Ухватывает ручку дипломата и стягивает его вниз. Спускается на третью ступеньку и задвигает на место панель на потолке.
Сам он ничего сделать не может… ничего необратимого… полицейскому Уилоку… но Слоуком мог бы. Да, бесспорно, Слоуком мог бы. Конечно, Слоуком был черным, ну и что? В темноте все кошки серы, а для слепых у них вообще нет цвета. Такое ли уж большое расстояние от Слепого Уилли Гарфилда до слепого Уилли Слоукома? Конечно же, нет. Рукой подать.
— Слышишь ли ты, что слышу я, — напевает он, складывая стремянку и водворяя ее на место. — Чуешь ли ты, что чую я, вкусно ль тебе, что вкусно мне?
Пять минут спустя он плотно закрывает за собой дверь «Специалистов по разведке земель Западных штатов» и запирает ее на все три замка. Потом идет по коридору. Когда лифт останавливается на его этаже, он входит, думая: «Яичный коктейль. Не забыть. Оллены и Дабреи.
— И еще корица, — говорит он вслух. Трое, спускающихся с ним в лифте, оборачиваются к нему, и Билл виновато улыбается.
На улице он поворачивает в сторону Центрального вокзала и, поднимая воротник пальто, чтобы загородить лицо от кружащих хлопьев, ловит себя на одной-единственной мысли: Санта перед зданием поправил бороду.
Полночь
— Шэр?
— Хмммммм?
Голос у нее сонный, далекий. После того как Дабреи наконец ушли в одиннадцать часов, они долго, неторопливо занимались любовью, и теперь она задремывает. Естественно — он и сам задремывает. У него ощущение, что все его трудности разрешаются сами собой… или что их разрешает Бог.
— Может, я передохну с недельку после Рождества. Поразведаю новые места. Думаю сменить адрес.
Ей не для чего знать, чем может заняться Уилли Слоуком в течение недели перед Новым годом. Сделать она ничего не может и будет только тревожиться и — может, да, а может, нет: он лишен способа удостовериться точно — почувствует себя виноватой.
— Отлично, — говорит она. — А заодно сходишь в кино, верно? — Ее пальцы высовываются из темноты и слегка касаются его плеча. — Ты так много работаешь. — Пауза. — И кроме того, ты вспомнил про яичный коктейль. Я думала, что ты наверняка позабудешь. И очень тобой довольна, милый.
Он ухмыляется в темноте на ее слова, ничего не может с собой поделать. В этом вся Шэрон.
— Оллены очень ничего, но от Дабреев скулы сводит, верно? — спрашивает она.
— Немножко есть, — соглашается он.
— Если бы вырез ее платья был чуть пониже, она могла бы устроиться работать в бар, где официантки по пояс голые.
Он молчит, но снова ухмыляется.
— Сегодня было хорошо, правда? — спрашивает она у него. И в виду она имеет не их маленькую вечеринку.
— Да, замечательно.
— У тебя был хороший день? Я все не успевала спросить.
— Отличный день, Шэр.
— Я тебя люблю, Билл.
— И я тебя люблю.
— Спокойной ночи.
— Спокойной ночи.
Погружаясь в сон, он думает о мужчине в ярко-красном лыжном свитере. Он переносится за грань яви, не замечая этого, и мысль плавно переходит в сон. «Шестьдесят девятый и семидесятый были тяжелыми годами, — говорит мужчина в красном свитере. — Я был на Гамбургере с три-сто восемьдесят седьмой. Мы там потеряли много хороших ребят. — Тут он веселеет. — Но у меня есть вот что! — Из левого кармана пальто он вытаскивает седую бороду на веревочке. — И это. — Из правого кармана он достает смятый стаканчик из-под кофе и встряхивает его. Несколько монет стучат о дно, будто зубы. — Так что, как видите, — говорит он, растворяясь, — даже самая слепая жизнь имеет свои компенсации».
Затем и сон растворяется, и Билл Ширмен крепко спит, пока в шесть пятнадцать следующего утра его не будят радиочасы под звуки «Маленького барабанщика».
Ради чего мы во Вьетнаме
1999: Когда кто-нибудь умирает, вспоминаешь прошлое
Когда кто-нибудь умирает, вспоминаешь прошлое. Вероятно, Салл знал это уже годы и годы, но в четкий постулат эта мысль сложилась в его мозгу только в день похорон Пейга.
Прошло двадцать шесть лет с тех пор, как вертолеты забрали последний груз беженцев (некоторые фотогенично болтались на полозковых шасси) с крыши посольства США в Сайгоне и почти тридцать с тех пор, как Хьюи эвакуировал Джона Салливана, Уилли Ширмена и, может, еще с десяток других из провинции Донг-Ха. Салл-Джон и парень из его детства, вновь магически обретенный, были героями в то утро, когда вертолеты рухнули с неба, но ближе к концу дня они стали чем-то совсем другим. Салл помнил, как лежал на вибрирующем полу Хьюи и кричал, чтобы кто-нибудь убил его. Он помнил, что Уилли тоже кричал. «Я ослеп, — вот что выкрикивал Уилли. — Иисусе, бля, я ослеп!»
Мало-помалу ему стало ясно — пусть кишки свисали из его живота серыми петлями, а от яиц осталось не так уж много, — что никто не сделает того, о чем он просит, а сам он не осилит. Во всяком случае, так скоро, как его устроило бы. А потому он попросил, чтобы кто-нибудь прогнал мамасан. Хоть это-то они сделать могут? Высадите ее, да просто, бля, вышвырните, а что? Она же все равно мертвая, верно? Дело в том, что она смотрит и смотрит на него, а хорошенького понемножку.
К тому времени, как они сдали его, Ширмена и полдесятка других — самых тяжелых — медикам на эвакопункте, который все называли Пипи-Сити (вертолетчики наверняка до смерти были рады от них отделаться — из-за всех этих воплей), до Салла начало доходить, что никто не видит, что старенькая мамасан сидит на корточках в кабине, старенькая седая мамасан в зеленых штанах и оранжевой блузе и дурацких ярко-красных китайских туфлях — уух! Старенькой мамасан назначил свидание Мейлфант, старина мистер Шулер. Раньше в этот день Мейлфант выскочил на поляну, как и Салл, и Диффенбейкер, и Слай Слоуком, и остальные, и наплевать, что косоглазые лупили по ним из зарослей, наплевать на жуткую неделю минометов и снайперов, и засад — Мейлфант рвался в герои, и Салл рвался в герои, и вот теперь только поглядите! Ронни Мейлфант — грязный убийца; парень, которого Салл так боялся в детстве, спас ему жизнь и ослеп, а сам Салл лежит на полу вертолета, и ветер покачивает его кишки. Как твердил Арт Линклеттер, это только доказывает, до чего смешны люди.
«Кто-нибудь, убейте меня! — кричал он в тот яркий жуткий день. — Кто-нибудь, пристрелите меня, Бога ради, дайте мне умереть!»
Но он не умер. Врачи сумели спасти одно из его изуродованных яичек, и теперь выпадали дни, когда он более или менее радовался тому, что жив. Такое чувство у него вызывали закаты. Он любил выходить на задний двор, куда отгонялись подержанные машины, взятые в обмен, но еще не отремонтированные, и стоя там, глядел, как заходит солнце. Блядство, конечно, но все равно хорошо.
В Сан-Франциско Уилли оказался в той же палате и часто сидел с ним, пока начальство в мудрости своей не перевело старшего лейтенанта Ширмена куда-то еще. Они часами толковали о старых деньках в Харвиче и об общих знакомых. Один раз их даже снял фотокорреспондент АП — Уилли сидит на кровати Салла, и оба хохочут. К этому времени зрение Уилли получшало, но в полный порядок не пришло; Уилли признался Саллу, как боится, что оно навсегда испорчено. Статья при фотографии была самой идиотской, письма на них так и посыпались. Больше, чем они могли прочесть. Саллу даже пришла дикая мысль, что среди них найдется весточка от Кэрол, но, конечно, он ничего не получил. Была весна 1970-го, и Кэрол Гербер, без сомнения, курила травку и сосала хиппи «кончай войну!», в дни, когда ее старый школьный друг лишился яиц на другой стороне земного шарика. Верно, Арт, люди смешны. А еще: мальчишки и девчонки способны такое сказать!
Когда Уилли исчез, старенькая мамасан осталась. Старенькая мамасан все время была рядом. В течение семи месяцев в Ветеранском госпитале в Сан-Франциско она навещала его каждый день и каждую ночь — самая постоянная его посетительница в это нескончаемое время, когда весь мир словно провонял мочой, а сердце у него болело, как воспалившийся зуб. Иногда она являлась в муумуу, будто распорядительница в каком-нибудь занюханом луау, иногда приходила в паршивой юбочке-гольф зеленого цвета и безрукавке, полностью открывавшей ее тощие плечи и руки… но чаще всего она была одета так, как была одета в тот день, когда Мейлфант убил ее, — зеленые штаны, оранжевая блуза, красные туфли с китайскими иероглифами на них.
В то лето он как-то развернул сан-францисскую «Кроникл» и увидел, что всю первую страницу заняла его прежняя подружка. Его прежняя подружка и ее дружки-хиппи убили в Данбери сколько-то там молодых ребят и представителей компании, предлагавшей им работу. Его прежняя подружка была теперь «Красная Кэрол». Его прежняя подружка была теперь знаменитостью. «П…а ты, — сказал он, когда газета сперва сдвоилась, потом строилась, потом смялась в призмы. — Безмозглая блядская п…а». Он уже превратил газету в ком и хотел швырнуть ее через всю палату, но его новая подружка, но старенькая мамасан сидела на соседней кровати и смотрела на Салла своими черными глазами, и, увидев ее, Салл окончательно сломался. Когда пришла сестра, Салл не то не мог, не то не хотел объяснить ей, почему он плачет. Он знал только, что весь мир спятил, а ему нужен укол, и в конце концов сестра нашла врача, который сделал ему укол, и последнее, что он видел перед тем, как провалиться, была мамасан, старенькая блядская мамасан на соседней кровати — сидит, сложив желтые руки на зеленых полистироловых коленях, сидит и смотрит на него.
Вместе с ним она проехала через всю страну, проделала с ним весь путь до Коннектикута, напрямик через проход турист-класса лайнера 747 «Юнайтед Эрлайнз». Она сидела рядом с бизнесменом, который не видел ее, как не видели вертолетчики Хьюи или Уилли Ширмен, или медперсонал «Дворца Кисок». Ее взял в подружки Мейлфант в Донг-Ха, но теперь она стала подружкой Джона Салливана и ни на миг не отрывала от него взгляд своих черных глаз. Ее желтые морщинистые пальцы постоянно оставались сплетенными на ее коленях, взгляд ее глаз постоянно оставался на нем.
Тридцать лет. Черт, срок долгий.
Но пока проходили эти годы, Салл видел ее все реже и реже. Когда осенью семидесятого он вернулся в Харвич, он все еще видел старенькую мамасан, примерно каждый день — ел ли сосиску в Коммонвелф-парке у поля Б или стоял у железной лестницы, ведущей к железнодорожной платформе, где кишели прибывающие и отбывающие пассажиры, или просто шел по Главной улице. И всегда она смотрела на него.
А когда он получил свою первую послевьетнамскую работу (естественно, по продаже машин, ведь только это он и умел делать по-настоящему), то вскоре увидел старенькую мамасан на переднем сиденье «форда» 1968 года с «ПРОДАЕТСЯ» на ветровом стекле.
«Со временем вы начнете ее понимать», — сказал ему в Сан-Франциско чистильщик мозгов, и как Салл ни настаивал, ничего толком к этому не добавил. Чистильщик хотел послушать про вертолеты, которые столкнулись и рухнули с неба, чистильщик хотел знать, почему Салл так часто называет Мейлфанта «этим карточным мудилой» (Салл отказывался ответить); чистильщик хотел знать, бывают ли еще у Салла сексуальные фантазии, а если да, так не играет ли в них большую роль насилие. Саллу даже нравился этот парень — Конрой была его фамилия, — но факт оставался фактом: был он жопа. Как-то раз, незадолго до его отъезда из Сан-Франциско, он чуть было не рассказал доктору Конрою про Кэрол. В целом он был рад, что удержался. Он ведь даже не знал, как ему ДУМАТЬ о своей школьной подружке, а уж тем более говорить о ней («спутанность» — было словечко Конроя для его состояния). Он назвал ее «безмозглой блядской п…ой, но ведь весь чертов мир в эти дни был блядским, верно? А уж если кто-то и знал, как легко жестокая агрессивность вырывается из-под контроля, так в первую очередь Джон Салливан. Уверен он был лишь в одном: он надеялся, что полицейские не убьют ее, когда доберутся до нее и ее друзей.
Жопа — не жопа, а доктор Конрой не так уж ошибался, говоря, что со временем Салл поймет старенькую мамасан. Самым главным было понять — нутром понять, — что мамасан здесь нет. Головой понять труда не составляло, но вот нутро у него упиралось, возможно, оттого, что его нутро выпотрошено в Донг-Ха, а такие штучки не могут не замедлить процесс понимания.
Он взял почитать несколько книг у доктора Конроя, а библиотекарь в госпитале достал ему еще парочку по межбиблиотечному абонементу. Из книг следовало, что старенькая мамасан в ее зеленых штанах и оранжевой блузе — это «выведенная вовне фантазия, которая служит облегчающим механизмом, который помогает ему преодолевать «вину оставшегося в живых» и «синдром посттравматического шока». Другими словами, она ему мерещится.
Но каковы бы ни были причины, его отношение к ней изменялось по мере того, как ее появления становились все более редкими. Теперь, когда она возникала, он при виде нее вместо отвращения или суеверного страха испытывал что-то похожее на радость. Ну, то, что чувствуешь, когда видишь старого друга, который уехал из родного городка, но иногда приезжает ненадолго погостить там.
Теперь он жил в Милфорде, городке, отстоящем от Харвича миль на двадцать по шоссе I–95 и на много световых лет в разных других отношениях. Харвич, когда Салл жил там в детстве и дружил с Бобби Гарфилдом и Кэрол Гербер, был приятным пригородом с обилием деревьев. Теперь его родной городок стал одним из тех, куда по вечерам не ездят — закопченным придатком Бриджпорта. Он все еще проводил там большую часть дня — на складе или в салоне («Салливан шевроле» уже четыре года подряд было золотозвездным предприятием), но обычно уходил в шесть часов вечера, а уж в семь наверняка, и ехал на север в Милфорд в своем демонстрационном «шевроле каприс». Обычно он уезжал с неосознанным, но очень подлинным ощущением благодарности.
В этот летний день он поехал от Милфорда по I–95 на юг, как обычно, но в более позднее время и не свернул на съезд номер 9 «ЭШЕР АВЕНЮ, ХАРВИЧ». Сегодня он повел свой синий с черными покрышками демо дальше на юг; его не переставало забавлять, как вспыхивали тормозные огни машин впереди, чуть только их водители замечали его в зеркале заднего вида… Они принимали его за полицейского — и ехал так до самого Нью-Йорка.
Машину он оставил в салоне Арни Моссберга в Вест-Сайде (когда торгуешь «шевроле», проблем с парковкой не возникает — одна из приятностей этого бизнеса), по дороге через город рассматривал витрины, съел бифштекс в «Палм-То», а потом отправился на похороны Пейгано.
Пейг тоже был на месте падения вертолетов в то утро, одним из ребят, попавших в заключительную засаду, когда сам Салл не то наступил на мину, не то порвал проволочку и взорвал прикрепленный к дереву заряд. Человечки в черных пижамах тут же вдарили по ним. На тропе Пейг ухватил Волленски, когда Волленски получил пулю в горло. Он дотащил Волленски до поляны, но Волленски был уже мертв. Пейг, конечно, был залит кровью Волленски (собственно, этого Салливан не помнил, к тому моменту он уже горел в собственном аду), но, наверное, Пейг испытывал только облегчение, поскольку эта кровь закрасила ту кровь, еще не совсем запекшуюся: Пейгано ведь был так близко, что его всего забрызгало, когда Слоуком застрелил дружка Мейлфанта. Забрызгало кровью Клемсона, забрызгало мозгом Клемсона.
Салл никогда ни словом не обмолвился о том, что произошло с Клемсоном в деревне, — ни доктору Конрою, никому другому. Он ушел в глухую. Все они ушли в глухую.
Пейг умер от рака. Когда умирал кто-нибудь из старых вьетнамских корешей Салла (ну ладно, были они не совсем корешами — по большей части дураки из дураков и совсем не такие, каких Салл назвал бы корешами, но они пользовались этим словом, потому что не придумано еще слово, чтобы обозначить, чем они были друг для друга), то словно бы причиной всегда был рак или наркотики, или самоубийство. Рак обычно начинался в легких или в мозгу, а затем просто распространялся повсюду, будто все они потеряли свою иммунную систему там, в зелени. У Дика Пейгано это был рак поджелудочной железы — у него и у Майкла Лэндона. Рак звезд. Гроб был открыт, и старина Пейг выглядел не так уж плохо. Жена поручила гробовщику обрядить его в строгий костюм, а не в форму. Вероятно, она вообще о форме не вспомнила, вопреки всем наградам, которые получил Пейгано. Пейг носил форму всего два-три года, и годы эти были, как аберрация, как срок, отбытый в тюрьме за то, что в один невезучий момент ты сделал что-то, совсем тебе не свойственное, скорее всего пока был пьян. Например, убил кого-то в пьяной драке или тебе вдруг взбрело в башку поджечь церковь, где твоя бывшая жена занималась с учениками воскресной школы. Салл не представлял себе, чтобы хоть кто-нибудь из тех, с кем он служил — включая и его самого, — захотел бы, чтобы его похоронили в военной форме.
Диффенбейкер — для Салла он все еще оставался новым лейтенантом — тоже приехал на похороны. Салл не видел Диффенбейкера уже очень давно, и они хорошо поговорили… хотя, собственно, говорил почти только Диффенбейкер. Салл не очень-то верил, что разговоры что-то меняют, но он все думал и думал о том, что говорил Диффенбейкер. И в основном о том, с каким бешенством он говорил. Всю дорогу назад до Коннектикута он думал об этом.
К двум часам он проехал мост Триборо, направляясь на север, имея в запасе достаточно времени, чтобы опередить час пик. «Ровное движение через Триборо и на главных пересечениях» — так выразил это регулировщик в вертолете службы дорожного движения. Вот для чего теперь использовались вертолеты: оценивали интенсивность движения машин на въездах и выездах больших американских городов.
Когда при приближении к Бриджпорту скорость машин начала замедляться, Салл этого не заметил. С новостей он переключил приемник на старые песни и погрузился в воспоминания о Пейге и его гармониках. Штамп кинофильмов о войне: седеющий ветеран с губной гармоникой, но Пейгано, Господи Боже ты мой, Пейгано мог свести вас с вашего хренового ума. Ночью и днем он верещал и верещал, пока кто-то из ребят — возможно Хексли, а то и Гаррет Слоуком — не сказал ему, что если он не прекратит, то как-нибудь проснется поутру с первой в мире губной гармошкой, пересаженной в задний проход.
Чем больше Салл обдумывал это, тем больше склонялся к мысли, что пригрозить ректальной пересадкой должен был Слай Слоуком. Черный верзила из Талсы считал, что «Слай и Фэмили Стоун» — лучшая группа на земле (отсюда и его прозвище), и отказывался поверить, что другая его любимая группа «Рейр Эрф» была белой. Салл помнил, как Дифф (это было до того, как Диффенбейкер стал новым лейтенантом и кивнул Слоукому — наверное, самый главный жест, какой Диффенбейкер сделал или сделает в своей жизни) втолковывал Слоукому, что эти ребята были такими же белыми, как ё…й Боб Дилан («беломазый певунчик» — так Слоуком называл Дилана). Слоуком подумал, подумал, а затем ответил с редкой для него серьезностью: «Ни хрена! «Рейр Эрф» — они черные. Записываются они на хреновом Мотауне, а все мотаунские группы — черные, это все знают. «Супримз», хреновые «Темпс», Смоки Робинсон и «Мираклс». Я тебя уважаю, Дифф, но если ты будешь нести свою чушь, я из тебя котлету сделаю».
Слоуком не терпел музыку губной гармоники. Эта музыка напоминала ему беломазого певунчика. Если ему пытались втолковать, что Дилан принимает войну к сердцу, Слоуком спрашивал, а почему этот осел ревучий, ё…на мать, не приехал сюда с Бобом Хоупом хоть разочек? «Я вам объясню, почему, — сказал Слоуком, — трусит, вот почему. Блядский сладкозадник, осел ревучий на гармонике, ё…на мать!»
Размышляя о том, как Диффенбейкер молол про шестидесятые, думая об этих былых именах и былых лицах, и былых днях, не замечая, как спидометр «каприса» перестал показывать шестьдесят и показывал уже пятьдесят… сорок, и машины на всех четырех полосах, ведущих на север, начали скапливаться, он вспоминал, каким Пейг был в зелени — тощим, черноволосым, со щеками еще в остатках послеподростковых прыщей, с автоматом в руках и двумя хонеровскими гармониками («до» и «соль») за поясом камуфляжных брюк. Тридцать лет назад это было. Сбросить еще десяток лет — и Салл мальчишка, растущий в Харвиче, дружащий с Бобби Гарфилдом и мечтающий, чтобы Кэрол Гербер хоть разок посмотрела на него, Джона Салливана так, как всегда смотрела на Бобби.
Со временем она, конечно, поглядела на него, но не совсем так, нет, не совсем так, нет, не совсем так. Ни разу. Потому ли, что ей уже не было одиннадцати, или потому, что он не был Бобби? Салл не знал. И сам тот взгляд был тайной. Он словно говорил, что Бобби ее убивает, и она рада, она будет умирать так, пока звезды не осыпятся с небес, а реки не потекут в гору, и все слова «Луйи, Луйи» будут известны, все до единого.
Что произошло с Бобби Гарфилдом? Попал он во Вьетнам? Присоединился к «детям цветов»? Женился, обзавелся детьми, умер от рака поджелудочной железы? Салл понятия не имел. Наверняка он знал только, что Бобби как-то изменился за лето 1960 года — то лето, когда Салл выиграл неделю в лагере на озере Джордж — и навсегда уехал с матерью из Харвича. Кэрол осталась до окончания школы, и, хотя она ни разу не посмотрела на него совсем так, как на Бобби, он был ее первым, а она — его. Однажды вечером, за городом, позади коровника, полного мычащей скотины, Салл помнил, как вдохнул сладкий аромат ее духов, когда кончил.
Откуда эта странная перекрестная связь между Пейгано в гробу и друзьями его детства? Может, дело в том, что Пейгано был чуть похож на Бобби — такого, каким он был в те далекие дни? Волосы у Бобби были темно-рыжие, а не черные, но сложение у него было такое же щуплое, и худое лицо… и такие же веснушки. Угу! И у Пейга, и у Бобби веснушки рассыпались по щекам веером от переносицы. А может, просто потому, что когда кто-нибудь умирает, вспоминаешь прошлое, прошлое, блядское прошлое.
Теперь «каприс» двигался со скоростью двадцати миль в час, а впереди машины остановились намертво, чуть не дотянув до съезда номер 9, но Салл все еще ничего не замечал. WKND, специализирующаяся на старых песнях, передавала «? и Мистерианс» — они пели «96 слез», а он думал о том, как шел за Диффенбейкером по центральному проходу церкви к гробу взглянуть на Пейгано под записанные на пленку церковные песнопения. В тот момент над трупом Пейгано реяли звуки «Пребудь со мной» — над трупом Пейга, который бывал абсолютно счастлив, сидя рядом со своим автоматом, с вещмешком на коленях, с запасом «уинстонок» за ремнем его каски и наигрывая «Уезжаю в край далекий» снова и снова.
Всякое сходство с Бобби Гарфилдом давно исчезло, обнаружил Салл, заглянув в гроб. Гробовщик неплохо потрудился, чтобы гроб можно было открыть, тем не менее Пейг сохранил заострившийся подбородок и складки кожи под ним, выдающие толстяка, который провел заключительные месяцы на антираковой диете, той, которая никогда не описывается в «Нейшнл инквайререр», той, которая состоит из облучения, инъекций химических ядов и картофельных чипсов в неограниченном количестве.
— Помнишь гармоники? — спросил Диффенбейкер.
— Помню, — ответил Салл. — Я все помню. — Прозвучало это как-то не так, и Диффенбейкер поглядел на него.
Салл в четкой слепящей вспышке увидел, как выглядел Дифф в тот день в деревне, когда Мейлфант, Клемсон и все остальные нимроды внезапно принялись отплачивать за утренний ужас… за ужас всей последней недели. Они хотели куда-нибудь сбросить все это — вопли в ночи и внезапные разрывы снарядов, а в заключение — горящие вертолеты, которые рушились, а их роторы, пока они валились вниз, все еще вращались, разгоняя дым их гибели. Они брякнулись о землю, блям-м-м! И человечки в черных пижамах принялись палить из зарослей по Дельте два-два и Браво два-один, едва американцы выскочили на поляну. Салл бежал рядом с Уилли Ширменом справа и лейтенантом Пэкером впереди; потом лейтенант получил очередь в лицо, и впереди него никого не осталось. Слева от него был Ронни Мейлфант, и Ронни вопил своим пронзительным фальцетом: вопил, вопил, вопил — он был словно настырный рекламщик по телефону, нажравшийся амфетаминов: «Давай, бляди ё…ные! Давай говнюки! Стреляй меня, сволочь хренова! Хрены хреновы! Вам только своим говном стрелять!» За ними был Пейгано, а рядом с Пейгом — Слоуком, парни из Браво, но больше ребята из Дельты, так ему помнилось. Уилли Ширмен вопил своим парням, но они почти все остановились. И Клемсон был там, и Волленски, и Хэкмейкер, и просто поразительно, как он запомнил их фамилии; их фамилии и запах того дня. Запах джунглей и запах керосина. Вид неба — синего над зеленым, и, о черт, как они стреляли, как эти маленькие засранцы стреляли: никогда не забыть, как они стреляли, или ощущение мин, пролетающих совсем рядом, а Мейлфант вопил: «Стреляй меня, сволочь засранная! Не выходит! Хрены безглазые! Давай, вот же я! Жопы ослеплые, педики трахнутые, я здесь!» А люди в рухнувших вертолетах кричали, и они их вытащили и обдали пеной и вытащили их, только людьми они больше не были, не были тем, что можно назвать людьми, а были они почти все кричащими обедами быстрого разогрева, обедами быстрого разогрева с глазами и пряжками от поясов, и пальцы тянутся, и курится дым от расплавившихся ногтей… Ну да, вот так, о чем не расскажешь таким, как доктор Конрой — как, пока ты их тащил, от них отваливались части, вроде как соскальзывали с них — ну, как с зажаренной индейки сползает кожа по горячему разжижившемуся жиру под ней, вот так, а ты все время чувствуешь запах джунглей и керосина, и это все происходит — такое-претакое замечательное шоу, как говаривал Эд Салливан, и происходит все это на нашей сцене, и тебе ничего не остается, как участвовать и стараться дотянуть до конца.
Это было то утро, это были те вертолеты, а такое необходимо сбросить так или иначе. Когда днем они добрались до засранной деревни, в носах у них все еще гнездился смрад обугленных вертолетчиков, старый лейтенант был убит, а кое-кто из парней — Ронни Мейлфант и его дружки, если вам требуются уточнения — немножко свихнулся. Новым лейтенантом стал Диффенбейкер, и вдруг он обнаружил, что командует сумасшедшими, которые намерены убивать всех, кого увидят, — детей, стариков, стареньких мамасан в красных китайских туфлях.
Вертолеты рухнули в десять. Примерно в два ноль пять Ронни Мейлфант первым воткнул свой штык в живот старухи, а затем объявил, что отрежет голову ё…ной свинье. Примерно в четыре пятнадцать мир взорвался прямо в лицо Джону Салливану. Это был его великий день в провинции Донг-Ха, его такое-претакое замечательное шоу.
Стоя между двумя хижинами у начала единственной деревенской улицы, Диффенбейкер выглядел перепуганным шестнадцатилетним мальчишкой. Но было ему не шестнадцать, ему было двадцать пять — на годы старше Салла и большинства остальных. Единственным, равным Диффу по возрасту и званию, там был Уилли Ширмен, но Уилли вроде бы не хотел брать на себя команду. Может, утренняя спасательная операция его вымотала. А может, он заметил, что опять атаку возглавляют ребята из Дельты два-два. Мейлфант визжал, что ё…ные вьетконговцы, говнюки хреновы, как увидят десятки голов на кольях, так дважды подумают, прежде чем валять дурака с Дельтой. Снова и снова этим пронзительным визгом телефонного рекламщика. Игрок в карты. Мистер Шулер. У Пейга были его гармоники. У Мейлфанта была его трахнутая колода. «Черви» — игра Мейлфанта. Десять центов очко, если удавалось, пять центов очко, если не удавалось. «Давай ребята! — вопил он этим своим пронзительным голосом, от которого, клялся Салл, кровь лила из носов, а саранча дохла в воздухе. — Давай, хвост трубой, травим Стерву!»
Салл помнил, как он стоял на улице и смотрел на бледное измученное растерянное лицо нового лейтенанта. Помнил, как подумал: «Он не может. Того, что надо сделать, чтобы остановить это, прежде чем оно совсем вырвется из-под контроля. Он не может». Но тут Диффенбейкер собрался и кивнул Слаю Слоукому. Слоуком ни секунды не колебался. Слоуком стоял на улице рядом с перевернутой табуреткой — хромированные ножки, красное сиденье, — поднял автомат к плечу, прицелился и снес голову Ральфа Клемсона с плеч. Пейгано, стоявший почти рядом, и, выпучив глаза, смотревший на Мейлфанта, вроде бы даже не заметил, что его забрызгало с головы до ног. Клемсон свалился мертвый поперек улицы, и это покончило с весельем. Игра кончилась, беби.
Теперь Диффенбейкер обзавелся внушительным животом игрока в гольф и бифокальными очками. Кроме того, он потерял большую часть волос. Салла это поразило, потому что у Диффа их более чем хватало еще пять лет назад на встрече старых товарищей на Джерсейском берегу. Салл про себя поклялся, что он в последний раз встречается с ними. Они не стали лучше, ни на хрена не помягчали. Каждая новая встреча все больше смахивала на крутую тусовку.
— Хочешь выйти покурить? — спросил новый лейтенант. — Или ты бросил курить, когда все бросили?
— Бросил, как все бросили. — К тому времени они стояли чуть левее гроба, оставляя место остальным прощающимся заглянуть в него и пройти мимо них. Говорили они тихо, и записанная на пленку музыка легко перекатывалась через их голоса — тягучая душеспасительная звуковая дорожка. Теперь, если Салл не ошибся, звучал «Древний крест».
— Думаю, Пейг предпочел бы… — начал он.
— «Уезжаю в край далекий» или «Будем трудиться все вместе», — докончил Диффенбейкер с ухмылкой.
Салл ухмыльнулся в ответ. Это был один из тех редких моментов, нежданных, как солнечный луч вдруг прорвавший обложные тучи, когда хорошо что-то вспомнить — один из тех моментов, когда вы вопреки всему почти рады, что оказались тут.
— А то и «Бум-Бум», ну, хит «Анималис», — сказал он.
— Помнишь, как Слай Слоуком сказал Пейгу, что загонит гармонику ему в зад, если Пейг не даст ей передохнуть?
Салл кивнул, все еще ухмыляясь.
— Сказал, что если загнать ее туда повыше, так Пейг сможет играть «Долину Красной реки», чуть захочет пернуть. — Он с нежностью посмотрел на гроб, словно ожидая, что и Пейгано ухмыляется этому воспоминанию. Но Пейгано не ухмылялся. Пейгано просто лежал с гримом на лице. Пейгано дотянул до конца. — Я выйду погляжу, как ты куришь.
Договорились.
Диффенбейкер, который когда-то дал «добро» одному своему солдату застрелить другого своего солдата, пошел по боковому проходу и, когда он проходил под очередным витражом, его лысина озарялась разноцветными бликами. Следом за ним, хромая — он хромал уже более половины своей жизни и перестал это замечать, — шел Джон Салливан, золотозвездный торговец «шевроле».
Машины на I–95 теперь еле ползли, а затем и полностью замерли, если не считать кратеньких судорожных продвижений вперед по той или другой полосе. На радио «? и Мистерианс» уступили место «Слаю и Фэмили Стоун» — «Танцуйте под музыку». Задрыга Слоуком уж наверняка отбивал бы чечетку жопой о сиденье, вовсю отбивал бы. Салл поставил демонстрационный «каприс» на парковку и выбивал ритм на баранке.
Когда песня начала приближаться к завершению, он поглядел вправо — на сиденье рядом сидела старенькая мамасан, чечетку жопой не отбивала, а просто сидела, сложив желтые руки на коленях, уперев свои до хрена яркие туфли с китайскими иероглифами в пластиковый коврик с надписью на нем «САЛЛИВАН ШЕВРОЛЕ БЛАГОДАРИТ ВАС ЗА ПОКУПКУ».
— Привет, стерва старая, — сказал Салл скорее с удовольствием, чем с тревогой. Когда она в последний раз показывалась? Пожалуй, на новогодней встрече у Тэкслинов, в тот последний раз, когда Салл по-настоящему напился. — А почему тебя не было на похоронах Пейга? Новый лейтенант справлялся о тебе.






